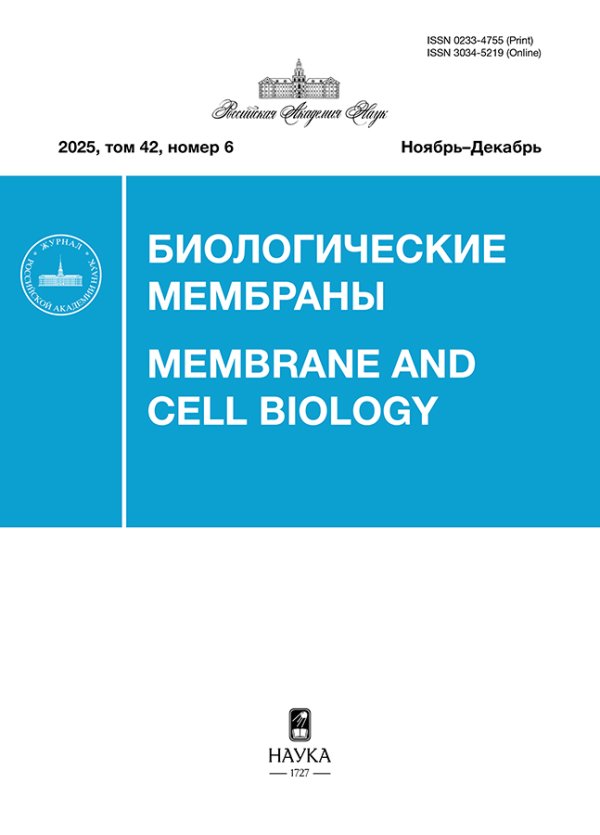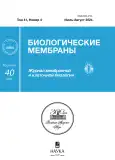Expression of myoglobin by tumor cells and its role in progression of malignancy
- Authors: Postnikova G.B.1, Shekhovtsova E.A.1
-
Affiliations:
- Institute of Cell Biophysics, Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 41, No 4 (2024)
- Pages: 283-296
- Section: ОБЗОРЫ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0233-4755/article/view/268403
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0233475524040011
- EDN: https://elibrary.ru/axjysw
- ID: 268403
Cite item
Full Text
Abstract
The review examines available literature data on the expression of myoglobin in various tumors and tumor cell lines of non-muscle nature, and the effect of hypoxia, reactive oxygen and nitrogen species, hormones, growth factors, gender and age on this process. The influence of tumor myoglobin on processes occurring in cells – oxidative stress, inhibition of mitochondrial respiration by nitric oxide and fatty acid metabolism is also analyzed, both in the case of intrinsic endogenous (ectopic) expression of small amounts (~1 µM) of myoglobin and overexpression of the protein (~150 µM) via the myoglobin gene embedded in the tumour cell genome. It is concluded that hypoxia-induced intrinsic expression of low concentrations of myoglobin, due to its ability to utilise reactive oxygen and nitrogen species that can damage tumour cells, ensures their better survival, promoting tumour progression and metastasis. Accordingly, this myoglobin expression is generally associated with a more aggressive tumour type and poor prognosis for the course and outcome of the disease, and may thus serve as a “marker” of an aggressive malignancy. In contrast, artificial overexpression of myoglobin can significantly inhibit tumour development and improve disease course by switching cancer cell metabolism from tumour-specific glycolysis to oxidative phosphorylation inherent in healthy tissue. Myoglobin overexpression may thus be an effective therapeutic tool in oncology.
Keywords
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Первые данные о том, что синтез миоглобина не ограничен лишь типами опухолей, возникших из мышечной ткани, такими как саркома и карцинома человека, а происходит и в раковых клетках немышечных органов, появились в 1984 году в работе Смита и Дэвидсона [1]. Хотя затем это было подтверждено исследованиями других авторов, эту экспрессию миоглобина в немышечных опухолях долгое время ассоциировали исключительно с рабдомиоидной дифференциацией раковых клеток, а миоглобин рассматривался как маркер рабдомиоидной дифференциации раковой ткани [2, 3]. Более того, предполагали, что источником миоглобина в опухолях немышечной природы, как например, рака груди, является окружающая мускулатура [4].
Проблема была окончательно решена в 2009 году, когда экспрессия миоглобина и миоглобиновой мРНК была показана в различных клеточных линиях опухолей груди, легких, желудка, поджелудочной железы, ободочной кишки и костной ткани, но миоглобин не обнаруживался ни в линиях здоровых клеток, ни в тканевых образцах [5]. На сегодня экспрессия миоглобина исследована в самых разнообразных опухолях немышечных органов и клеточных линиях, включая опухоли яичников, простаты, почек, легких, головы и шеи человека, а также мозга [6–12]. Она обнаруживается в доброкачественных, и особенно, в злокачественных образованиях как при первичной опухоли, так и в случае рецидива. Соседняя же с опухолью здоровая ткань совсем не содержит или содержит очень мало миоглобина. Как и в случае здоровой ткани, миоглобин локализован в цитозоле опухолевых клеток иногда в виде характерных мозаичных структур, однако в некоторых случаях наблюдалось его присутствие в мембранах и (или) ядрах [10, 12]. Концентрация миоглобина в опухолях (~ 1 мкМ) гораздо меньше, чем в мышцах (200–300 мкМ). Количество миоглобина оценивали в лизатах опухолевых клеток и/или гистохимических срезах опухолевой ткани с помощью иммунохимических методов вестерн-блоттинг и ELISA с использованием моноклональных антител к миоглобину с присоединенными к ним спектральными (по поглощению и флуоресценции) или радиоактивными метками. Содержание миоглобиновой мРНК определяли количественным методом ПЦР.
Установлено, что синтез миоглобина в опухолях индуцирован гипоксией, которая является, по-видимому, общей природой опухолевых клеток [7, 8, 13]. Уже на ранней стадии развития опухоли ограничивается локальный доступ крови, а в процессе малигнизации образуются области с низким содержанием кислорода (очаговая гипоксия) [14]. В этих гипоксических участках (очагах) опухоли наблюдаются сильная дезорганизация сосудистой структуры ткани и изменение состояния самих кровеносных сосудов (ангиогенез), а клеточный метаболизм сдвигается от аэробного дыхания к гликолизу с образованием лактата и закислением среды (ацидоз) [14]. Гипоксия и переход к гликолизу как результат активации онкогенов являются, очевидно, преимуществом раковых клеток и необходимы для ракового роста, так как гликолиз сохраняется даже при избытке кислорода при нормоксии (аэробный гликолиз) [13, 14]. Гипоксия и ацидоз снижают цитотоксический эффект иммунных клеток, проникающих в опухоль, делая ее иммунорезистентной и способствуя ее прогрессии и метастазированию. Гипоксия является также препятствием для радиационной терапии и некоторых видов антираковых препаратов, для фармацевтического эффекта которых нужен кислород.
Найдено, что помимо гипоксии на экспрессию миоглобина влияют активные формы кислорода и азота, уровень жирных кислот, гормоны, факторы роста и другие белковые факторы, а также пол и возраст [5, 6, 8, 10, 15]. Однако на сегодня биологическая функция и физиологическая роль опухолевого миоглобина до конца не выяснены. Согласно одним авторам, экспрессия миоглобина увеличивает скорость пролиферации и подвижность опухолевых клеток, что способствует лучшему выживанию и экспансии опухоли [5, 7, 9, 12, 16]. В то же время другие исследователи показывают, что в присутствии миоглобина рост опухолевой ткани уменьшается, а инвазия и метастазирование ингибируются, обеспечивая лучший прогноз течения и исхода заболевания [6, 10, 11, 15].
МИОГЛОБИН И ЕГО СВОЙСТВА
Миоглобин сердечной и скелетных мышц позвоночных животных и человека относится к большому семейству глобинов, глобулярных белков, содержащих в качестве простетической группы железопорфириновый комплекс – гем. Мономерные и олигомерные мио- и гемоглобины млекопитающих, рыб, птиц, членистоногих, моллюсков, насекомых и азотфиксирующих клубеньков бобовых растений сильно различаются по первичной аминокислотной последовательности, но имеют гомологичную пространственную структуру и сходные спектральные характеристики, обусловленные гемовой группой. Последняя встроена в гидрофобную полость глобина, где пятым лигандом атома Fe служит инвариантный гистидин F-спирали, His F8, а шестое лигандное место либо свободно, либо может быть занято внешним лигандом. Остальные четыре из шести координационных вакансий атома Fe гема постоянно заняты атомами азота порфиринового кольца. Все глобины способны обратимо связывать газообразные лиганды О2, СО и NO. Очень важную роль в глобинах играет инвариантный дистальный гистидин E-спирали, His E7, в гемовой полости, который образует водородную связь с лигандом О2, стабилизируя кислородный комплекс ферромиоглобина.
Основная функция миоглобина млекопитающих состоит в обеспечении кислородом цитохром С-оксидазы митохондрий во время мышечных сокращений, когда доставка О2 кровью уменьшается. Особенно велико содержание миоглобина в мышцах высокогорных животных и морских ныряльщиков (киты, тюлени), достигая концентрации 200–300 мкМ. Со времен работ Хилла и Милликана [17, 18] бытовало представление, которое и сейчас еще очень распространено, о том, что оксимиоглобин (MbO2) является пассивным хранителем резервного запаса О2 в клетке, «депо кислорода», освобождая его при наступлении гипоксии. В отличие от этого, нами было доказано, что отщепление кислорода от MbO2 происходит лишь при взаимодействии белка с «дышащими» митохондриями, а если MbO2 отделен от митохондрий полупроницаемой мембраной, то никакого отщепления кислорода от MbO2 не наблюдается даже при очень низких значениях рО2 < 1 мм рт. ст. [19]. Детально изучен механизм миоглобин-митохондриального взаимодействия [20–23] и показано, что MbO2 в процессе дезоксигенации связывается с фосфолипидными участками внешней мембраны митохондрий. То есть миоглобин является не пассивным «депо», сродство которого к О2 считалось постоянным, а активным переносчиком O2, сродство которого к лиганду, как и у других белков-переносчиков, регулируется его взаимодействием с мишенью – митохондриями, дыхательная активность которых полностью определяет скорость дезоксигенации MbO2. Новый механизм функционирования миоглобина, с одной стороны, свободен от серьезных противоречий, с которыми сталкиваются механизмы «депо кислорода» и «облегченной диффузии» [24–26], а с другой – позволяет объяснить его роль в обеспечении кислородом каких-либо важных зависимых от кислорода процессов в клетке даже при малых концентрациях белка.
Наряду с функцией связывания кислорода в последние годы были открыты и изучены другие важнейшие свойства миоглобина, которые могут иметь физиологическое значение. Найдено, что in vitro ферро- и ферримиоглобины могут взаимодействовать с супероксид-анионом (О2–)и перекисью водорода как конечным продуктом его диспропорционирования [27]. Так как активные формы кислорода (АФК) являются важнейшим фактором разрушения тканей в процессе окислительного стресса, пероксидазная активность миоглобина может заключаться в устранении АФК и антиоксидантной защите клеток [28].
Показано также, что MbO2 проявляет NO-диоксигеназную активность, окисляя NO до нитрата и образуя метMb (уравнение (1)). В связи с этим предполагается, что в работающей мышце NO может связываться с гемовым центром MbO2, предотвращая ингибирование оксидом азота митохондриального дыхания, и влиять, таким образом, на процесс окислительного фосфорилирования [29]. В свою очередь, дезоксиMb(Fe2+), как было найдено, способен работать как потенциальная нитрит-редуктаза с образованием NO и метMb(Fe3+), сдвигая функцию белка от утилизации NO к его образованию (уравнение (2)).
Mb(Fe2+)O2 + NO → метMb(Fe3+) + NO3– (1)
NO2 + дезоксиMb(Fe2+) + H+ → NO + +метMb(Fe3+) + OH– (2)
Показано, что нитрит сам по себе не влияет на дыхание изолированных митохондрий, а в присутствии миоглобина он ингибирует дыхательную цепь в кардиомиоцитах [30]. Обе роли миоглобина в образовании NO и его утилизации регулируются уровнем рО2 в клетке, близким к р50 миоглобина [31].
Наконец, хорошо изучена способность разных лигандных форм этого белка связывать жирные кислоты, что позволяет говорить о возможном участии миоглобина в их транспорте и метаболизме [32–34]. При этом показано, что безлигандный дезоксиMb и окисленный метMb практически полностью теряют способность связывать жирные кислоты (связывают их на 60–70% меньше по сравнению с MbO2).
Следует отметить, что в животных организмах найдены новые представители глобинового семейства: мономерный нейроглобин (Ngb), который вырабатывается в малых количествах в мозге, и димерный цитоглобин (Cgb), присутствующий практически во всех немышечных тканях [35–38]. Эти глобины в отличие от пятикоординированного мышечного миоглобина и гемоглобина крови содержат шестикоординированный гем, где в качестве шестого лиганда атома Fe выступает дистальный His E7 белка. Несмотря на то что Ngb и Cgb способны связывать кислород, они из-за их малой концентрации, в особенности Ngb, по-видимому, не играют особой роли в клеточном потреблении кислорода. В качестве основной своей функции Ngb и Cgb, как полагают, имеют антиоксидантную защиту клеток, а не снабжение их кислородом.
Оба глобина, Ngb и Cgb, экспрессируются в малых концентрациях порядка 1 мкМ также в опухолях. Синтез Ngb наряду с миоглобином был исследован в образцах ткани рака легкого и панелях раковых клеточных линий [39]. Экспрессия Cgb обнаружена в карциномах груди и легких, где сопровождалась уменьшением роста опухоли [40]. Экспрессия Ngb и Cgb наряду с миоглобином и гемоглобином, а также соответствующих мРНК показана также в плотных опухолях и панелях клеток рака груди человека [41] и в тканевых образцах и клеточных линиях глиобластомы мозга [42]. Как и в случае миоглобина, синтез этих глобинов в опухолях индуцируется гипоксией и коррелирует с уровнем факторов гипоксии HIF-1/2.
Интересен тот факт, что и миоглобин в малых концентрациях может синтезироваться здоровыми немышечными клетками в ответ на гипоксию. Представление о том, что этот белок является продуктом исключительно сократительных мышц, было опровергнуто в 2006 году, когда было показано, что устойчивый к гипоксии карп Cyprinus carpio содержит миоглобин не только в мышцах, но и в других метаболически активных тканях, включая, печень, жабры и мозг [43]. При этом были найдены два разных транскрипта миоглобиновой мРНК, MbI и MbII, кодируемых разными генами, и экспрессия одного из них сильно увеличивалась в условиях длительного недостатка кислорода.
СИНТЕЗ МИОГЛОБИНА В ОПУХОЛЯХ
Активация миоглобинового гена при гипоксии, присутствие альтернативных промоторов
В панелях опухолевых клеточных линий человека различного типа и локализации (груди, легких, ободочной кишки, желудка, поджелудочной железы, сетчатки глаза) обнаружено содержание миоглобиновой мРНК, количество которой сильно (в 30–1000 раз) отличалось в зависимости от генетики клеточной линии [5]. Активация гена миоглобина связана, как отмечалось, с гипоксией, наличие которой доказывали с помощью маркера экзогенной гипоксии пимонидазола [44]. О гипоксии свидетельствует также присутствие в опухолях активатора клеточного ответа на гипоксию – белкового фактора HIF [45]. Индуцируемые гипоксией гетеродимерные транскрипционные белковые факторы HIF (HIF-1, HIF-2 и HIF-3) инициируют экспрессию транспортера глюкозы, гликолитических ферментов и ингибиторов метаболизма митохондрий и играют ключевую роль в опухолевом метаболизме и онкогенезе [14]. Они содержат чувствительную к кислороду α-субъединицу, которая стабильна при гипоксии в условиях эксперимента, но деградирует в протеосоме при нормоксии.
При изучении активации гена миоглобина в клетках линии рака груди MDA-Mb-468 человека под действием факторов HIF-1/2 было обнаружено присутствие нескольких транскриптов миоглобиновой мРНК, содержащих различные 5΄-нетранслируемые области, что свидетельствовало о том, что транскрипция гена ведется с разных промоторов [7]. Наряду со стандартным транскриптом Mb-S, который доминирует в сердечной и скелетных мышцах млекопитающих, авторы обнаружили альтернативный транскрипт Mb-A. При нормальном рО2 этого транскрипта синтезировалось в 300 раз больше, чем Mb-S, а в условиях гипоксии его количество увеличивалось еще в 2.2 раза, тогда как содержание Mb-S не изменялось. Оба варианта транскрипта миоглобиновой мРНК экспрессируются также в раковой ткани опухолей груди человека [7]. На основании полученных данных был сделан вывод, что Mb-A является специфическим транскриптом раковых клеток, и его синтез активируется в условиях гипоксии факторами HIF-1/2. Поскольку при гипоксии в здоровых немышечных тканях карпа Cyprinus carpio, как отмечалось, также наблюдается синтез двух разных миоглобинов, возможно, что транскрипт Mb-A не является специфичным лишь для опухолей, а активируется под влиянием гипоксии и в здоровой ткани.
Позднее при изучении экспрессии миоглобина в клеточной линии MDA-Mb-468 и линии рака ободочной кишки DLD-1 были обнаружены четыре альтернативных транскрипта миоглобиновой мРНК, которые синтезируются в ответ на гипоксию и транскрибируются с альтернативных промоторов, отличающихся от промотора гена миоглобина [12]. Эти транскрипты миоглобиновой мРНК были найдены также в клеточных линиях глиобластомы мозга [42].
Влияние различных факторов на экспрессию миоглобина опухолевыми клетками
Гипоксия, корреляция с факторами HIF-1/2α и маркерами гипоксии. Количество миоглобина и миоглобиновой мРНК в опухолях коррелирует с содержанием О2 в среде и длительностью гипоксии, а также с содержанием мРНК и белков – маркеров гипоксии, синтез которых регулируется HIF-1/2 (табл. 1). Согласно данным разных авторов, содержание миоглобиновой мРНК и белка в опухолевых клетках рака груди линий MDA-Mb-231, MDA-Mb-468 и MCF-7 увеличивается в 2–4 раза за сутки при 1% О2 и еще более возрастает при более длительной гипоксии, а также при уменьшении концентрации О2 в среде. Значительное увеличение содержания миоглобиновой мРНК и миоглобина в этих линиях клеток рака груди (в 3–7 раз) при длительной (24–48 ч) гипоксии (1% О2) отмечается также в работе Флонта и соавт. [5], а также для различных клеточных линий карциномы почек [8]. В случае рака легкого увеличение содержания миоглобиновой мРНК через 48 ч при 1% О2 сильно различалось для разных клеточных линий от 2-кратного для линии COR-L88 до 9-кратного для линии UTB-182 и совсем не изменялась в клетках линии DMS-53, также как в случае линии шейной карциномы HeLa (табл. 1). По мнению авторов, синтез миоглобина может регулироваться не только на уровне миоглобиновой мРНК, но и на уровне белка, который в этих экспериментах не контролировался.
В клетках разных линий рака груди наблюдалась естественная корреляция индуцируемой гипоксией экспрессии миоглобиновой мРНК и миоглобина с содержанием факторов HIF-1/2α, тогда как в опухолевых клетках рака легкого уровень HIF-1/2α оставался постоянным, не изменяясь под влиянием гипоксии (табл. 1). Это может быть связано с нестабильностью фактора HIF-1/2α в условиях эксперимента, так как содержание других маркеров гипоксии, карбоангидразы IX (CAIX) и сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF), увеличивалось в 10 и 5–6 раз соответственно. Корреляция экспрессии миоглобиновой мРНК и миоглобина с содержанием факторов HIF-1/2α была показана позднее для клеток рака мозга [12]. При этом наблюдалась также корреляция с маркерами гипоксии – лактатдегидрогеназой и CAIX. Корреляция индуцируемого гипоксией синтеза миоглобина с содержанием CAIX, VEGF и транспортера глюкозы (GLUT1) исследована также на разных клеточных линиях рака груди, легкого и гепатомы человека (табл. 1).
Таблица 1. Влияние гипоксии на экспрессию миоглобина опухолевыми клетками рака груди, рака легкого, гепатомы и шейной карциномы человека
Вид опухоли, клеточная линия | % О2 | Время, ч | Mb мРНК | Mb белок | HIF-1/2α мРНК | CAIX мРНК | VEGF мРНК | GLUT1 мРНК | Ссылка |
отн. ед. | |||||||||
Рак груди человека MCF-7 MDA-Mb-468 | 20 1.0 1.0 1.0 | 72 24 48 72 | 1.0 3.6 ± 0.5 4.2 ± 0.6 5.0 ± 0.5 | 1.0 2.3 ± 0.4 3.4 ± 0.1 5.1 ± 0.3 | – – – – | 1.0 27 ± 12 – – | – – – – | – – – – | [7] |
18.6 1.0 0.1–0.2 | 16 16 16 | 1.0± 0.1 1.15 ± 0.11 1.3 ± 0.13 | – – – | – – – | – – – | – – – | 1.0 ± 0.2 1.1 ± 0.1 2.9 ± 0.4 | [41] | |
20 1.0 1.0 1.0 | 72 24 48 72 | – – – – | 1.0 1.6 ± 0.4 4.1 ± 0.6 4.6 ±0.7 | 1.0 2.0 ± 0.3 4.0 ± 0.5 4.2 ±1.3 | – – – – | – – – – | – – – – | [7] | |
21 1.0 | 72 24 | 1.0 2.7 ± 0.6 | – – | 1.0 1.3 ± 0.8 | – – | – – | – – | [16] | |
Рак легкого COR-L88 HTB-182 DMS-53 | 20 1.0 | 48 48 | 1.0 1.8 ± 0.1 | – – | 1.0 ± 0.01 1.1 ± 0.2 | 1.0 11.0 ±0.01 | 1.0 60.0 ±0.01 | – – | [39] |
20 1.0 | 48 48 | 1.0 9.0 ± 2.0 | – – | 1.0 ± 0.01 0.9 ± 0.01 | 1.0 10.0 ± 0.1 | 1.0 6.0 ± 0.01 | – – | ||
20 1.0 | 48 48 | 1.0 1.0 ± 0.1 | – – | 1.0 ±0.01 1.0 ±0.01 | 1.0 11 ± 0.1 | 1.0 5.0 ± 0.01 | – – | ||
Гепатома Hep3B | 18.6 1.0 0.1–0.2 | 16 16 16 | 1.0 ± 0.3 2.0 ± 1.0 1.5 ±0.5 | – – – | – – – | – – – | – – – | 1.0 2.0 ± 0.5 4.0 ± 0.6 | [41] |
Шейная карцинома HeLa | 18.6 1.0 0.1–0.2 | 16 16 16 | 1.0 ± 0.05 0.9 ± 0.05 0.8 ± 0.2 | – – – | – – – | – – – | – – – | 1.0 1.8 ± 0.8 3.4 ± 0.6 | |
Активные формы кислорода и азота. АФК, которые продуцируются митохондриями, играют активную роль в формировании окислительного стресса в патогенезе опухолей, а также участвуют в том числе в качестве сигнальных молекул в развитии патологии [46–48]. На модели клеточной линии рака груди человека MCF-7 показано [5], что окислительный стресс, вызываемый добавлением перекиси водорода (0.5–1.0 ммоль/л), является основным сигналом, который в условиях гипоксии (1% О2) запускает экспрессию миоглобина выше основного уровня (24 нг на 106 клеток).
В условиях гипоксии (1% О2) содержание миоглобина в раковых клетках линии MCF-7 увеличивалось также в присутствии донора NO S-нитрозо-N-ацетилпеницилламина (0.1–0.3 мМ) [5]. Известно, что NO вызывает ингибирование цитохром С-оксидазы митохондрий и митохондриального дыхания, стимулируя выработку АФК [49]. Роль NO в развитии рака до конца не изучена. С одной стороны, имеются данные, что NO в микромолярных концентрациях убивает раковые клетки, инициируя апоптоз, а с другой – что при малых концентрациях NO может вносить вклад в прогрессию опухоли, усиливать пролиферацию и трансформацию раковых клеток [50, 51]. Стабилизируя фактор HIF-1α и мимикрируя гипоксию, NO «запускает» генетическую программу, которая помогает опухоли выживать и расти, в частности, стимулируя ангиогенез [52]. Поскольку и АФК, и NO стабилизируют уровень фактора HIF-1α, их эффект на рост экспрессии миоглобина в опухолевых клетках может быть связан с усилением гипоксии [53].
Гормоны, факторы роста, пол и возраст. Экспрессия миоглобина коррелирует с синтезом стероидных гормонов. Так, на клеточной линии рака груди MCF-7 было показано, что недостаток эстрогена индуцирует выработку миоглобиновой мРНК, а эстрогеновая терапия ингибирует ее образование [6]. Аналогично, на клетках линии рака простаты LNCaP было показано, что недостаток андрогенов способен индуцировать, а их назначение подавлять экспрессию миоглобиновой мРНК [15]. Синтез миоглобина в клеточной линии MCF-7 индуцировался также добавлением эпидермального фактора роста (EGF) [5] и VEGF в клеточной линии LNCaP [15].
Корреляция между экспрессией миоглобина и возрастом, и полом была обнаружена в карциномах ротовой полости, глотки и гортани [10]. У более молодых пациентов наблюдали более высокую экспрессию миоглобина, которая уменьшалась с возрастом, а также была более выражена у женщин, чем у мужчин. При этом более высокая экспрессия миоглобина детектировалась в ротовой полости и глотке, а более низкая – в гортани. Корреляция экспрессии миоглобина с возрастом наблюдалась при раке груди у женщин, возможно, из-за гормонального уровня у пациенток в периоды пре- или постменопаузы, а обратная зависимость наблюдалась в популяции мужчин с раком простаты. Не наблюдалось какой-либо связи экспрессии миоглобина с полом, возрастом при раке легкого [39].
ВЛИЯНИЕ МИОГЛОБИНА НА ПРОЦЕССЫ, ПРОТЕКАЮЩИЕ В ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТКАХ
Гипоксия, активные формы кислорода и азота
Поскольку главной функцией миоглобина млекопитающих является доставка О2 к митохондриям, исследовали влияние опухолевого миоглобина на снабжение клеток опухоли кислородом. Показано, что в клетках линии рака груди MDA-Mb-468, синтезирующих миоглобин, уровень фактора HIF-1α был существенно ниже, чем в клетках этой линии без миоглобина, синтез которого блокировали с помощью антисмысловой миоглобиновой мРНК [16]. Это могло свидетельствовать о сдвиге клеточного метаболизма в раковых клетках, синтезирующих миоглобин, в сторону аэробного дыхания. Однако более вероятно, что, как и Ngb и Cygb в немышечных тканях, опухолевый миоглобин выполняет роль, прямо не связанную с запасанием и транспортом О2 [7].
Экспрессия миоглобина, по-видимому, призвана защитить раковую клетку от окислительного стресса благодаря способности белка удалять АФК. Действительно, после блокирования синтеза миоглобина в опухолевых клетках линии MDA-Mb-468 уровень АФК в них был значительно выше, чем в контрольных клетках этой линии, а обработка их H2O2 приводила к значительному увеличению зоны центрального некроза опухоли. Обработка клеток линии MDA-Mb-468, содержащих миоглобин, оксидом азота сопровождалась значительным уменьшением некротических участков, что можно объяснить способностью MbO2 утилизировать NO. После блокады синтеза миоглобина в раковых клетках этой линии размер очагов некроза увеличивался, в том числе в условиях нормоксии [16].
Метаболизм жирных кислот
Помимо утилизации активных форм кислорода и азота функция опухолевого миоглобина может состоять в регуляции метаболизма жирных кислот [6, 54]. Рост большого количества опухолей связан с увеличением синтеза жирных кислот. В опухолях груди и простаты человека синтез миоглобина коррелирует с экспрессией синтетазы жирных кислот (FASN), а ингибирование FASN уменьшает экспрессию миоглобина в клетках рака груди, указывая на то, что миоглобин может быть причастен к синтезу жирных кислот in vivo в качестве переносчика [6, 54]. Об этом же свидетельствуют солокализация миоглобина и FASN в цитоплазме, а также тот факт, что миоглобин облегчает диффузию жирных кислот, которая необходима для липогенеза с участием FASN [55].
В большинстве исследований делается вывод, что синтезируемый миоглобин является частью адаптивной системы опухолей, обеспечивающей их прогрессию и метастазирование [5, 7, 9, 12, 16, 39, 42]. С этим согласуются и результаты наблюдений, что экспрессия миоглобина связана с более агрессивным клеточным фенотипом и худшим прогнозом течения и исхода заболевания у пациентов. Однако имеется и альтернативная точка зрения, что экспрессия миоглобина может быть связана с ослаблением опухолевого роста и лучшим прогнозом течения заболевания, что наблюдалось у пациентов при раке груди, простаты, карциномах ротовой полости, глотки и гортани [6, 10, 11, 15, 56, 57]. В экспериментах in vitro было также показано, что экспрессия миоглобина в клетках линий MDA-Mb-231, MDA-Mb-468 и MCF-7 приводила к блокировке митотического клеточного цикла при переходе от G1- к S-фазе и ингибированию клеточной пролиферации и роста опухоли [11]. Как полагают, ингибирующий эффект экспрессии миоглобина может объясняться тем, что, утилизируя активные формы кислорода и азота, он не только снимает окислительный стресс и поддерживает митохондриальную активность и аэробный метаболизм, но и выполняет регуляторную функцию, предотвращая активацию сигнального каскада, необходимого для опухолевого перерождения и роста опухоли [6, 11].
Искусственная модель экспрессии миоглобина в опухолях
Функциональная роль экспрессируемого раковыми клетками миоглобина изучалась на Mb-отрицательных клетках линии карциномы легких человека A-549, в которые с помощью генной инженерии был введен ген миоглобина мыши, что позволило им «дышать» даже в гипоксическом окружении [13]. Содержание миоглобина в раковых клетках этой линии многократно (~ 150 раз) превышало обычно синтезирующуюся в опухолях концентрацию порядка 1 мкМ. Сверхэкспрессия миоглобина не оказывала токсического эффекта на раковые клетки линии A-549. Клетки, экспрессирующие миоглобин, росли с той же скоростью, как и клетки контрольной линии (табл. 2).
Таблица 2. Влияние сверхэкспрессии миоглобина на свойства опухолевых клеток линии А-549 карциномы легких человека [13]
Клеточная линия | % О2 (время) | Потребление О2, нмоль/мин/106клеток | ATP, отн.ед. | Лактат, мг/106 клеток |
А-549 | 21 (24 ч) | 3.0 ± 0.2 | 8.2 ± 0.1 | 3.0 ± 0.2 |
1.0 (24 ч) | 1.9 ± 0.1 | 6.8 ± 0.1 | 7.0 ± 1.0 | |
А-MbO2-549 | 21 (24 ч) | 3.2 ± 0.4 | 8.4 ± 0.2 | 2.6 ± 0.5 |
1.0 (24 ч) | 2.8 ± 0.2 | 8.0 ± 0.2 | 4.6 ± 0.6 |
В выращенных в условиях гипоксии клетках линии А-MbО2-549 со сверхэкспрессией миоглобина увеличивалось потребление кислорода (на 37%) и содержание ATP (на 17%), а также существенно (в 2 раза) уменьшалось содержание лактата (табл. 2). После инкубации в течение 3 ч в условиях снижения концентрации кислорода (21, 3, 1 и 0.1% О2) синтезирующие миоглобин клетки линии А-549 обнаруживали существенно более низкие уровни HIF-1α, чем контрольные, указывая на то, что миоглобин уменьшает гипоксический ответ раковых клеток, увеличивая их оксигенацию.
В экспериментальных опухолях легких у мышей миоглобиновой группы, образование которых было индуцировано введением животным клеток линии А-MbО2-549, содержание О2 было более, чем в 4 раза выше по сравнению с контролем, они содержали почти в 10 раз меньше HIF-1α – положительных и метастатических клеток, чем в контрольной группе (табл. 3). То есть сверхэкспрессия миоглобина приводила к уменьшению инвазии и метастазирования, и в соответствии с этим существенно замедлялось формирование экспериментальной опухоли и ее рост; в этих опухолях также регистрировались более низкие по сравнению с контролем пролиферативный и апоптотический индексы (табл. 3).
Таблица 3. Влияние сверхэкспрессии миоглобина на экспериментальные опухоли легких мышей, инъецированных клетками линии карциномы легких человека А-549. Показатели были определены через 5 недель после инъекции [13]
Клетки инъекции | Среднее время формиро-вания опухоли, дни | Вес опухоли, мг | рО2 внутри опухоли, мм рт.ст. (% О2) | HIF-1α*, отн. ед. | AI** | PI*** | Cпонтанное метастазиро-вание**** |
Здоровые легкие мыши | – | – | 30.9 ± 10.0 (4.1%) | – | – | – | – |
А-549 | 6 | 791 ± 161 | 5.5 ± 2.7 (0.7%) | 73 ± 21 | 0.163 ± 0.059 | 0.372 ± 0.028 | 45.6 ± 1.6 |
А-MbO2-549 | 18 | 163 ± 41 | 21.6 ± 9.9 (3.0%) | 7.0 ± 3.0 | 0.024 ± 0.018 | 0.175 ± 0.062 | 5.2 ± 3.3 |
A-[His F8(Tyr)-метMb]-549 | 6 | 1089 ± 321 | 5.4 ± 2.9 (0.7%) | 85 ± 26 | – | – | 77.4 ± 14.4 |
A-[His F8(Ala)-His E7(Ala)-метMb]-549 | 6 | 1107 ± 297 | 5.1 ± 3.1 (0.7%) | 71 ± 19 | – | – | 103.2 ± 17.9 |
* HIF-1α экспрессию измеряли по количеству HIF-1α положительных клеток на поле методом иммунофлуоресценции.
** AI – апоптотический индекс, определяли иммуногистохимически в срезах опухоли с помощью окрашивания очагов некроза.
*** PI–пролиферативный индекс, определяли иммуногистохимически в срезах опухоли с использованием антител против митотического маркера Ki67.
**** Измерено по содержанию копий gfp-гена геномной ДНК легких модели мышей.
Способность сверхэкспрессии миоглобина ингибировать метастазирование экспериментальных опухолей была подтверждена также на двух других моделях мышей с использованием клеток линий меланомы человека MDA-Mb-435-HGF и карциномы молочной железы мыши TSA. Гистологический анализ опухолевой ткани мышей, синтезирующей миоглобин, показал, что она содержит гораздо меньше (в ~ 7 раз) некротических областей с недостаточным уровнем О2 и лучше дифференцирована, напоминая легочную структуру здоровых легких мышей. Опухолевая ткань мышей со сверхэкспрессией миоглобина сильно отличалась от опухолевой ткани мышей контрольной линии, содержащей некротические области недифференцированных клеток.
Чтобы проверить, связан ли биологический эффект сверхэкспрессии миоглобина только с его кислородтранспортной функцией, была исследована также сверхэкспрессия мутантных форм миоглобина, в которых инвариантный проксимальный His F8 был замещен на тирозин, линия А-[His F8(Tyr)-метMb]-549, или оба инвариантных остатка, проксимальный His F8 и дистальный His E7, заменены на аланин, линия А-[His F8(Ala)-His E7(Ala)-метMb]-549. Оба мутантных миоглобина постоянно находятся в окисленной мет-форме (Fe3+) и неспособны связывать кислород. Опухолевые клетки линии рака легких A-549, экспрессирующие мутантные миоглобины, росли и развивались так же, как контрольные клетки, экспрессирующие миоглобин дикого типа, однако они обнаруживали более высокую способность утилизировать AФК по сравнению с диким типом, что согласуется с более высокой пероксидазной активностью метMb.
В опытах с использованием химического донора NO опухолевые клетки, экспрессирующие первый мутант, проявляли меньшую по сравнению с диким типом способность к нейтрализации NO в соответствии с тем, что метMb, в отличие от MbO2, не обладает NO-диоксигеназной активностью. Однако клетки линии A-549, экспрессирующие второй мутантный миоглобин, были так же эффективны в отношении утилизации NO, как и клетки дикого типа, подтверждая тот факт, что замена дистального His E7 неполярной аминокислотой сильно увеличивает сродство метMb к NO [58].
На экспериментальных опухолях мышей in vivo никакого ингибирующего эффекта экспрессии мутантных миоглобинов на их рост и метастазирование не наблюдалось (табл. 3), то есть этот эффект связан только с кислородтранспортной функцией миоглобина. Напротив, экспрессия обоих мутантных миоглобинов способствовала лучшему росту опухоли и инвазии, так как эти белки, неспособные связывать О2, успешно защищали раковые клетки от окислительного стресса благодаря своей пероксидазной и NO-диоксигеназной активности. Как видно из табл. 3, в обоих случаях на ~ 40% увеличивался вес опухоли и в 1.5–2 раза возрастало спонтанное метастазирование по сравнению с исходным безмиоглобиновым А-549 типом опухоли, при этом концентрация О2 и уровень HIF-1α в них практически не изменялись. Во всех случаях сверхэкспрессия миоглобина дикого типа сопровождалась подавлением роста экспериментальной опухоли и уменьшением метастазирования по сравнению с контролем, в то время как сверхэкспрессия мутантных миоглобинов, неспособных связывать кислород, но сохраняющих пероксидазную и NO-диоксигеназную активности, способствовала росту и метастазированию опухоли.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данные, полученные при изучении экспрессии миоглобина опухолями, показали, что пероксидазная и NO-диоксигеназная активности белка, которые были давно и детально исследованы в химических экспериментах in vitro и рассматривались как возможно имеющие физиологическое значение, действительно играют важнейшую роль в физиологии клетки. Это убедительно продемонстрировано в опытах по блокированию синтеза миоглобина в опухолевых клетках с помощью антисмысловой миоглобиновой мРНК [16] и в опытах с мутантными миоглобинами, неспособными связывать кислород [13].
Активные формы кислорода, супероксид анион О2– и Н2О2 как конечный продукт его диспропорционирования, продуцируются в процессе окислительного фосфорилирования из-за «утечки» электронов из электрон-транспортной цепи. Этот процесс особенно активизируется при гипоксии в условиях недостатка конечного акцептора электронов О2 для цитохром С-оксидазы. Роль миоглобина, таким образом, состоит в том, что он предотвращает образование АФК, доставляя кислород в нужном количестве в митохондрии, и в то же время обезвреживает АФК благодаря своей пероксидазной активности.
В биологии рака свободные радикалы кислорода играют двоякую роль: c одной стороны, они являются сигнальными молекулами для развития опухоли, а с другой – повреждают важные компоненты опухолевой клетки, приводя к ее гибели. Поэтому пероксидазная функция миоглобина очень важна для ее выживания и развития. Оксид азота, ингибируя цитохром С-оксидазу и каталазу, также способствует выработке АФК митохондриями, поэтому NO-диоксигеназная функция миоглобина также очень важна для клетки. Именно благодаря способности миоглобина утилизировать АФК и NO экспериментальные опухоли рака легких у мышей, в которых имела место сверхэкспрессия мутантных миоглобинов, развивались и метастазировали даже лучше, чем в контрольной группе, не содержащей миоглобина, и намного (в 6–7 раз) эффективнее, чем при сверхэкспрессии MbO2 дикого типа, где процессы роста и метастазирования опухоли ингибировались. Очевидно, что экспрессия миоглобина не является единственным способом обеспечения лучшего выживания опухолевых клеток, так как миоглобин синтезируется не во всех опухолях и клеточных линиях, а в случае однотипных видов опухолей его синтез детектируется только у 40–60% пациентов [55].
Поскольку с помощью мутантных миоглобинов убедительно показано, что подавление роста опухоли связано только с кислородтранспортной функцией миоглобина, благоприятное влияние экспрессии малых количеств эндогенного белка на исход заболевания, который в основном наблюдали в случае гормон-зависимых опухолей (грудь, простата), по-видимому, обусловлен другими факторами, не связанными с функциями миоглобина. Рак является сложным многостадийным патологическим состоянием, основным характерным признаком которого является гипоксия, а также связанные с гипоксией типичные признаки, такие как ангиогенез, гликолиз, неконтролируемый рост, иммунорезистентность, инвазивность и метастазирование. Возможно, что в описанных случаях благоприятного влияния синтеза собственного миоглобина на течение и исход заболевания, «миоглобиновой» защиты раковых клеток недостаточно, а решающее значение имеют сопряженные с экспрессией миоглобина другие факторы, возможно, связанные с гормональной регуляцией и липогенезом, которые приводят к подавлению опухолевого роста, скорее всего, из-за продукции избыточного количества активных форм кислорода и азота [11, 55].
Таким образом, роль миоглобина в функционировании клетки зависит от характера клеточного метаболизма: при аэробном дыхании и нормальном рО2 основной является кислородтранспортная функция миоглобина, а в условиях гипоксии, когда концентрация O2 мала и имеет место гликолиз, главными становятся его пероксидазная и NO-диоксигеназная активности. Поэтому ситуация в здоровых мышечных клетках и опухолевых клетках со сверхэкспрессией миоглобина, содержащих большие количества белка, и тех клетках, в которых миоглобина мало, принципиально различается. В первом случае с помощью MbO2 поддерживается митохондриальное дыхание и аэробный метаболизм, характерные для здоровой ткани, но не для опухоли, что способствует подавлению ее роста. С этим согласуется тот факт, что сердечная и скелетные мышцы животных, содержащие много миоглобина, меньше подвержены опухолевому перерождению по сравнению с другими органами без миоглобина.
В случае низкой концентрации миоглобина, когда его кислородтранспортная функция неэффективна (или малоэффективна), на первый план выходят пероксидазная и NO-диоксигеназная активности белка, способные защитить клетки от гибели. В мозге и почти всех немышечных органах с развитой системой кровеносных сосудов, обеспечивающих бесперебойную доставку кислорода, тем не менее, показан синтез небольших количеств (порядка 1 мкМ) родственных миоглобину белков, Ngb и Cgb, основной функцией которых, как полагают, является антиоксидантная защита клеток. И миоглобин, как отмечалось выше, также присутствует в немышечных органах устойчивых к гипоксии организмов [43, 55].
Индуцируемая гипоксией экспрессия миоглобина в опухолевых клетках также должна, очевидно, способствовать прогрессии опухоли и ее метастазированию. Это действительно характерно для большого числа исследованных опухолей и связано, как правило, с более агрессивным типом опухоли и плохим прогнозом течения и исхода заболевания [5, 7, 9, 12, 16, 39, 42]. Экспрессия опухолевого миоглобина, таким образом, может служить «маркером» агрессивного злокачественного образования. В свою очередь, сверхэкспрессия миоглобина в опухоли способна значительно улучшить течение болезни за счет переключения метаболизма раковой клетки с гликолиза на окислительное фосфорилирование, то есть служить терапевтическим средством [59–61].
Вопрос об участии миоглобина в качестве переносчика в метаболизме жирных кислот в клетке пока остается открытым, хотя данные о его совместной локализации с FASN и о том, что ингибирование FASN уменьшает экспрессию миоглобина в клетках рака груди, могут указывать на такую возможность [6, 54]. Следует отметить, что миоглобин был открыт почти сто лет назад [17, 18] и, так как он может быть получен в больших количествах и легко кристаллизуется, был первым белком, пространственная структура которого была расшифрована с атомарным разрешением [62]. Свойства миоглобина детально изучены с помощью самых разных экспериментальных и теоретических методов физикохимии белков, в том числе новейших современных подходов, апробация которых проводится, как правило, на миоглобине. И, тем не менее, этот белок до сих пор остается интересным объектом для исследователей, которые открывают и изучают все новые особенности этого гемопротеина. Поскольку даже при нормоксии миоглобин присутствует в немышечных клетках в очень малых пикомолярных концентрациях (как например, концентрация при раке груди составляет 4 пМ [6]), то, учитывая его способность активно взаимодействовать с фосфолипидными мембранами, нельзя исключить возможности его функционирования в качестве сигнальной молекулы для инициации и/или ингибировании каких-либо клеточных процессов.
Вклад авторов. Г. Б. Постникова – концепция и руководство работой, написание текста; Е. А. Шеховцова– написание текста, редактирование текста статьи.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии у них конфликта интересов в финансовой или какой-либо другой сфере.
Источники финансирования. Работа выполнена в рамках государственного задания от 07.02.2024 г. № 075–00609–24–01 на 2024–2026 гг.
Соблюдение этических норм. Настоящая статья не содержит описания выполненных авторами исследований с участием людей или использованием животных в качестве объектов.
Список сокращений: Mb – миоглобин; MbO2 – физиологически активный оксимиоглобин; метMb – окисленный миоглобин; NO – оксид азота; Ngb – нейроглобин; Cgb – цитоглобин; HIF-1/2α – фактор, индуцируемый гипоксией; АФК – активные формы кислорода; EGF – эпидермальный фактор роста; VEGF – сосудистый эндотелиальный фактор роста; CAIX – карбоангидраза IX; GLUT1 – транспортер глюкозы; FASN – синтетаза жирных кислот; рО2 – парциальное давление кислорода; p50 – значение рО2, при котором Mb оксигенирован наполовину.
About the authors
G. B. Postnikova
Institute of Cell Biophysics, Russian Academy of Sciences
Email: shekhovtsova.ekaterina@mail.ru
Russian Federation, Pushchino, Moscow region, 142290
E. A. Shekhovtsova
Institute of Cell Biophysics, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: shekhovtsova.ekaterina@mail.ru
Russian Federation, Pushchino, Moscow region, 142290
References
- Smith T.W., Davidson R.I. 1984. Medullomyoblastoma. A histologic, immunohistochemical, and ultrastructural study. Cancer. 54, 323–332.
- Emoto M., Iwasaki H., Kikuchi M., Shirakawa K. 1993. Characteristics of cloned cells of mixed mullerian tumor of the human uterus. Carcinoma cells showing myogenic differentiation in vitro. Cancer. 71, 3065–3075.
- Carda C., Ferrer J., Vilanova M., Peydró A., Llombart-Bosch A. 2005. Anaplastic carcinoma of the thyroid with rhabdomyosarcomatous differentiation: a report of two cases. Virchows Arch. 446, 46–51.
- Eusebi V., Bondi A., Rosai J. 1984. Immunohistochemical localization of myoglobin in nonmuscular cells. Am.J. Surg. Pathol. 8, 51–55.
- Flonta S.E., Arena S., Pisacane A., Michieli P., Bardelli A. 2009. Expression and functional regulation of myoglobin in epithelial cancers. Am.J. Pathol. 175, 201–206.
- Kristiansen G., Rose M., Geisler C., Fritzsche F.R., Gerhardt J., Luke C., Ladhoff A.M., Knuchel R., Dietel M., Moch H., Varga Z., Theurillat J.P., Gorr T.A., Dahl E. 2010. Endogenous myoglobin in human breast cancer is a hallmark of luminal cancer phenotype. Br.J. Cancer. 102, 1736–1745.
- Kristiansen G., Hu J., Wichmann D., Stiehl D.P., Rose M., Gerhardt J., Bohnerdt A., ten Haaf A., Moch H., Raleigh J., Varia M.A., Subarsky P., Scandurra F.M., Gnaiger E., Gleixner E., Bicker A., Gassmann M., Hankeln Th., Dahl E., Gorr, Th.A. 2011. Endogenous myoglobin in breast cancer is hypoxia-inducible by alternative transcription and functions to impair mitochondrial activity. A role in tumor suppression? J. Biol. Chem. 286, 43417–43428.
- Behnes C.L., Bedke J., Schneider S., Küffer S., Strauss A., Bremmer S., Ströbel P., Radzun H.J. 2013. Myoglobin expression in renal cell carcinoma is regulated by hypoxia. Exp. Mol. Pathol. 95, 307–312.
- Bicker A., Brahmer A.M., Meller S., Kristiansen G., Gorr T.A., Hankeln T. 2015. The distinct gene regulatory network of myoglobin in prostate and breast cancer. PloS One. 10, e0142662.
- Meller S., van Ellen A., Gevensleben H., Bicker A., Hankeln Th., Gorr Th.A., Sailer V., Dröge F., Schröck F., Bootz F., Schröck A., Perner S., Dietrich D., Kristiansen G. 2016. Ectopic myoglobin expression is associated with a favourable outcome in head and neck squamous cell carcinoma patients. Anticancer Research. 36, 6235–6242.
- Braganza A., Quesnelle K., Bickta J., Reyes Ch., Wang Y., Jessup M., St. Croix C., Scott J., Singh Sh.V., Shiva S. 2019. Myoglobin induces mitochondrial fusion thereby inhibiting breast cancer cell proliferation. J. Biol. Chem. 294, 7269–7282.
- Elsherbiny M.E., Shaaban M., El-Tohamy R., Elkholi I., Hammam O.A., Magdy M., Allalunis-Turner J., Emara M. 2021. Expression of myoglobin in normal and cancer brain tissues: correlation with hypoxia markers. Frontiers in Oncology. 11, 590771.
- Galluzzo M., Pennacchietti S., Rosano S., Comoglio P.M., Michielli P. 2009. Prevention of hypoxia by myoglobin expression in human tumor cells promotes differentiation and inhibits metastasis. J. Clin. Invest. 119, 865–875.
- Hsu P.P., Sabatini D.M. 2008. Cancer cell metabolism: Warburg and beyond. Cell. 134, 703–707.
- Meller S., Bicker A., Montani M., Ikenberg K., Rostamzadeh B., Sailer V., Wild P., Dietrich D., Uhl B., Sulser T., Moch H., Gorr T.A., Stephan C., Jung K., Hankeln T., Kristiansen G. 2014. Myoglobin expression in prostate cancer is correlated to androgen receptor expression and markers of tumor hypoxia. Virchows Arch. 465, 419–427.
- Quinting Th., Heymann A.K., Bicker A., Nauth Th., Bernardini A., Hankeln Th., Fandrey J., Schreiber T. 2021. Myoglobin protects breast cancer cells due to its ROS and NO scavenging properties. Frontiers in Endocrinology (Lausanne). 12, 732190.
- Hill R.L. 1933. Oxygen affinity of muscle haemoglobin. Nature. 132, 897–898.
- Millikan G.A. 1939. Muscle hemoglobin. Physiol.Rev. 19, 503–523.
- Postnikova G.B., Shekhovtsova E.A. 2013. Myoglobin and mitochondria: How does the «oxygen store» work? J. Phys. Chem. Biophys. 3, 126.
- Postnikova G.B., Shekhovtsova E.A. 2014. The interaction of myoglobin with neutral and negatively charged artificial bilayer phospholipid membranes. Their effect on conformation of myoglobin and its affinity for oxygen. Physiol. Sci. 1, 1–11.
- Postnikova G.B., and Shekhovtsova E.A. 2014. Myoglobin acts as the oxygen carrier to mitochondria. Physiol. Sci. 1, 12–16.
- Postnikova G.B., Shekhovtsova E.A. 2015. The effect of mitochondrial and artificial bilayer phospholipid membranes on conformation of myoglobin and its affinity for oxygen. Am.J. Biol. Chem. 3, 16–32.
- Postnikova G.B, Shekhovtsova E.A. 2018. Myoglobin: Oxygen depot or oxygen transporter to mitochondria? A novel mechanism of myoglobin deoxygenation in cells. Biochemistry (Moscow). 83, 168–183.
- Jones D.P., Kennedy F.G. 1982. Intracellular O2 gradients in cardiac myocytes. Lack of a role for myoglobin in facilitation of intracellular O2 diffusion. Biochem. Biophys. Res. Commun. 105, 419–424.
- Jurgens K.D., Papadopoulos S., Peters T., and Gross G. 2000. Myoglobin: Just an oxygen store or also an oxygen transporter? News Physiol. Sci. 15, 269–274.
- Wittenberg J.B., Wittenberg B.A. 2003. Myoglobin function reassessed. J. Experim. Biol. 206, 2011–2020.
- Sievers G., Ponnberg M. 1978. Study of the pseudoperoxidatic activity of soybean leghemoglobin and sperm whale myoglobin. Biochim. Biophys. Acta. 533, 293–301.
- Flogel U., Godecke A., Klotz L.O., Shrader J. 2004. Role of myoglobin in the antioxidant defense of the heart. FASEB J. 18, 1156–1158.
- Brunori M. 2001. Nitric oxide, cytochrome c oxidase and myoglobin. Trends Biochem. Sci. 26, 21–23.
- Doeller J E., Wittenberg B.A. 1991. Myoglobin function and energy metabolism of isolated cardiac myocytes: Effect of sodium nitrite. Am.J. Physiol. 261, 53–62.
- Jourd’heuil D., Mills L., Miles A.M., Grisham M.B. 1998. Effect of nitric oxide on hemoprotein-catalyzed oxidative reactions. Nitric Oxide. 2, 37–44.
- Götz F.M., Hertel M., Gröschel-Stewart U. 1994. Fatty acid binding of myoglobin depends on its oxygenation. Biol. Chem. Hoppe-Seyler. 375, 387–392.
- Shih L., Chung Y., Sriram R., Jue T. 2014. Palmitate interaction with physiological states of myoglobin. Biochim. Biophys. Acta. 1840, 656–666.
- Sriram R., Kreutzer U., Shih L., Jue T. 2008. Fatty acid binding to myoglobin. FEBS Lett. 582, 3643–3649.
- Pesce A., Bolognesi M., Bocedi A., Ascenzi P., Dewide S., Moens L., Hankeln Th., Burmester Th. 2002. Neuroglobin and cytoglobin. Fresh blood for the vertebrate globin family. EMBO Rep. 3, 1146–1151.
- Riggs A.F., Gorr Th.A. 2006. A globin in every cell? Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 103, 2469–2470.
- Burmester Th., Gerlach F., Hankeln Th. 2007. Regulation and role of neuroglobin and cytoglobin under hypoxia. Edv. Exp. Med. Biol. 618, 169–180.
- D’Aprile A., Scrima R., Quarato G., Tataranni T., Falzetti F., Di Ianni M. 2014. Hematopoietic stem/progenitor cells express myoglobin and neuroglobin: Adaptation to hypoxia or prevention from oxidative stress? Stem Cells. 32, 1267–1277.
- Oleksievicz U., Daskoulidou N., Liloglou T., Tasopoulou K., Bryan J., Gosney J.R., Field J.K., Xinarianos G. 2011. Neuroglobin and myoglobin in non-small cell lung cancer: expression, regulation and prognosis. Lung Cancer. 74, 411–418.
- Shivapurkar N., Stastny V., Okumura N., Girard L., Xie Y., Prinsen C., Thunnissen F.B., Wistuba I.I., Czerniak B., Frenkel E., Roth J.A., Liloglou T., Xinarianos G., Field J.K., Minna J.D., Gazdar A.F. 2008. Cytoglobin, the newest member of the globin family, functions as a tumor suppressor gene. Cancer Res. 68, 7448–7456.
- Gorr T.A., Wichmann D., Pilarsky C., Theurillat J.-P., Fabrizius A., Laufs T., Bauer T., Koslowski M., Horn S., Burmester T., Hankeln T., Kristiansen G. 2011. Old proteins – new locations: Myoglobin, haemoglobin, neuroglobin and cytoglobin in solid tumours and cancer cells. Acta Physiologica. 202, 563–581.
- El-Tohamy R., Elkholi I., Elsherbiny M.E., Magdy M., Hammam O., Allalunis-Turner J., Emara M. 2020. Myoglobin variants are expressed in human glioblastoma cells-hypoxia effect? Oncology Reports. 43, 975–985.
- Fraser J., Vieira de Mello L., Ward D., Rees H.H., Williams D.R., Fang Y., Brass A., Gracey A.Y., and Cossing A.R. 2006. Hypoxia-inducible myoglobin expression in nonmuscle tissues. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 103, 2977–2981.
- Arcasoy M.O., Amin K., Karayal A.F., Chou S.C., Raleigh J.A., Varia M.A., Haroon Z.A. 2002. Functional significance of erithropoetin receptor expression in breast cancer. Lab. Invest. 82, 911–918.
- Zhukova A.G., Kazitskaya A.S., Sazontova T.G., Mikhailova N.N. 2019. Hypoxia-inducible factor (HIF): Structure, function and genetic polymorphism. Hygiene and Sanitation. 98, 723–728.
- Bensaad K., Tsuruta A., Selak M.A., Nieves Calvo Vidal M., Nakano K., Bartrons R., Gottlieb E., Vousden K.H. 2006. TIGAR, a p53-inducible regulator of glycolysis and apoptosis. Cell. 126, 107–120.
- Konstantinov A.A., Peskin A.V., Popova E., Khomutov G.B., Ruuge E.K. 1987. Superoxide generation by the respiratory chain of tumor mitochondria. Biochim. Biophys. Acta. 894, 1–10.
- Kaelin W.G. Jr. 2005. ROS: Really involved in oxygen sensing. Cell Metab. 357–358.
- Borutaite V., Brown G.C. 1996. Rapid reduction of nitric oxide by mitochondria, and reversible inhibition of mitochondrial respiration by nitric oxide. Biochem. J. 315 (Pt 1), 295–299.
- Salimian Rizi B., Caneba C., Nowicka A., Nabiyar A.W., Liu X., Chen K., Klopp A., Nagrath D. 2015. Nitric oxide mediates metabolic coupling of omentum-derived adipose stroma to ovarian and endometrial cancer cells. Cancer Res. 75, 456–471.
- Kim J.K., Jeon H.M., Jeon H.Y., Oh S.Y., Kim E.J., Jin X., Kim S.H., Jin X., Kim H. 2018. Conversion of glioma cells to glioma stem-like cells by angiocrine factors. Biochem. Biophys. Res. Commun. 496, 1013–1018.
- Quintero M., Brennan P.A., Thomas G.J., Moncada S. 2006. Nitric oxide is a factor in the stabilization of hypoxia-inducible factor-1 alpha in cancer: Role of free radical formation. Cancer Res. 66, 770–774.
- Simon M.C. 2006. Mitochondrial reactive oxygen species are required for hypoxic HIF alpha stabilization. Adv. Exp. Med. Biol. 588, 165–170.
- Hendgen-Cotta U.B., Esfeld S., Coman C., Ahrends R., Klein-Hitpass L., Flögel U., Rassaf T., Totzeck M. 2017. A novel phisiological role for cardiac myoglobin in lipid metabolism. Scientific Reports. 7, 43219.
- Elkholi I.E., Elsherbiny M.E., Emara M. 2022. Myoglobin: From physiological roles to potential implication in cancer. BBA – Reviews on cancer. 1877, 188706.
- Aboouf M.A., Armbruster J., Thiersch M., Guscetti F., Kristiansen G., Schraml P., Bicker A., Petry R., Hankeln Th., Gassmann M., Gorr T.A. 2022. Pro-apoptotic and anti-invasive properties underscore the tumor-suppressing impact of myoglobin on a subset of human breast cancer cells. Int. J. Mol. Sci. 23, 11483.
- Aboouf M.A., Armbruster J., Guscetti F., Thiersch M., Boss A., Gödescke A., Winning S., Padberg C., Fandrey J., Kristiansen G., Bicker A., Hankeln Th., Gassmann M., Gorr T.A. 2023. Endogenous myoglobin expression in mouse models of mammary carcinoma reduces hypoxia and metastasis in PyMT mice. Sci. Rep. 13, 7530.
- Eich R.F., Li T., Lemon D.D., Doherty D.H., Curry Sh. R., Aitken J.F., Mathews A.J., Johnson K.A., Smith R.D., Phillips G.N., Jr., Olson J.S. 1996. Mechanism of NO-induced oxidation of myoglobin and hemoglobin. Biochemistry. 35, 6976–6983.
- Yamada T., Morita Y., Takada R., Funamoto M., Okamoto W., Kohno M., Komatsu T. 2023. Zinc substituted myoglobin-albumin fusion protein: A photosensitizer for cancer therapy. Chemistry. 29, e202203952.
- Ma X., Liang X., Yao M., Gao Y., Luo Q., Li X., Yu Y., Sun Y., Cheng M.H.Y., Chen J., Zheng G., Shi J., Wang F. 2023. Myoglobin-loaded gadolinium nanotexaphyrins for oxygen synergy and imaging-guided radiosensitization therapy. Nat. Commun. 14, 6187.
- Zhang L., Yang L., Du K., Yang Y. 2024. Myoglobin improves doxycycline sensitivity in pancreatic cancer through promoting heme oxygenase-1-mediated ferroptosis. Environ. Toxicol. 39, 2166–2181.
- Kendrew J.C., Dickerson R.T., Strandberg B.E., Hart R.G., Davis D.R., Phillips D.C., Shore V.C. 1960. Structure of myoglobin. A three-dimensional Fourier synthesis at 2 Å resolution. Nature (London). 185, 422–427.
Supplementary files