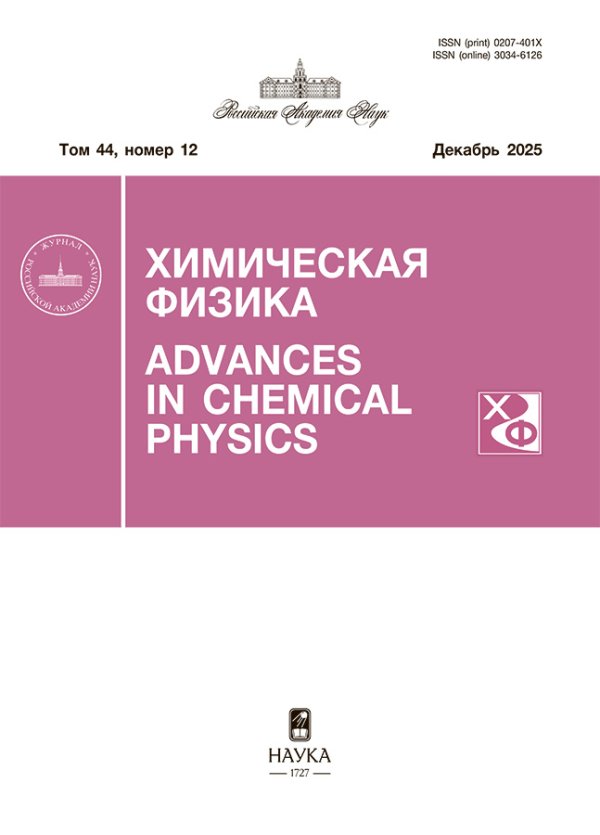Ion confinement efficiency in a complex plasma of glow discharge
- Authors: Polyakov D.N.1, Shumova V.V.1,2, Vasilyak L.M.1
-
Affiliations:
- Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences
- Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 43, No 8 (2024)
- Pages: 109-115
- Section: ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0207-401X/article/view/280189
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0207401X24080127
- ID: 280189
Cite item
Full Text
Abstract
The parameters of the plasma of a low-pressure glow discharge in neon with microparticles are determined numerically, at which regions with equal values of the ion confinement efficiency in the cloud of microparticles are realized. It is noted that such features are characteristic of dissipative synergetic systems controlled by feedback. Simulation of a complex glow discharge plasma in neon with microparticles showed that feedback in the plasma is realized through the source of the main losses of its energy a cloud of microparticles. Controlling the discharge parameters by changing the concentration of microparticles in the cloud makes it possible to control the concentration of ions in the plasma.
Full Text
1. ВВЕДЕНИЕ
Ионы, образованные в плазме технологических и исследовательских реакторов и получаемые в том числе в химически активных средах, играют основную роль в химических и плазменных процессах [1]. Параметры ионов, принимающих участие в плазмохимических процессах, не всегда возможно определить существующими экспериментальными методами [2], однако они могут быть получены численными методами, примененными к измеренным параметрам положительного столба плазмы тлеющего разряда с микрочастицами [3, 4]. Комплексная (пылевая) плазма образуется при взаимодействии различного вида плазмы с нано- и микроразмерными частицами конденсированной фазы (пылевыми частицами) [5, 6]. Комплексная плазма существует в природе повсеместно – от межзвездной среды до различных планетарных атмосфер, где она образуется в облаках левитирующих частиц в результате воздействия на них космического излучения [7–11]. Комплексная плазма применяется или образуется в плазменных технологических реакторах [5, 6, 12, 13], а также ее получают и исследуют в лаборатории [3–6, 12, 14]. С наличием микрочастиц в горючих смесях связаны многие особенности воспламенения и горения [15]. Влияние даже одиночных микрочастиц проявляется в ходе экспериментов в установках быстрого сжатия [16] и в ударных трубах [17], где микрочастицы могут быть центрами очагового воспламенения [18] вследствие нагрева [19].
В лабораторных экспериментах, как правило, исследуется комплексная плазма электрических разрядов в различных газах низкого давления с частицами микронных размеров, что весьма удобно, так как микрочастицы, устойчиво удерживаясь в плазме разряда, отчетливо визуализируются в отраженном излучении в видимой области спектра. Взаимодействие микрочастиц с плазмой разряда носит коллективный (кооперативный) характер [20]; при этом взаимодействие зарядов в комплексной плазме и химическая связь имеют аналогичную электростатическую природу. Микрочастицы заряжаются потоками ионов и электронов и самоорганизуются в ограниченном пространстве в облако, образуя квазинейтральную среду [3, 4, 18, 21, 22]. Облако отрицательно заряженных микрочастиц (далее по тексту – облако) совместно с плазмой формирует ловушку, которая способна эффективно локализовать, накапливать и удерживать ионы внутри облака в течение длительного времени [4]. Возможность образования подобных ионных ловушек в естественных условиях, например в хвостах комет, была показана ранее [22]. Гипотетически в атмосфере Земли ионные ловушки могут существовать в облаках заряженных аэрозолей, взаимодействующих с плазмой, образованной природными электрическими явлениями и локальными электрическими полями глобальной электрической цепи Земли [11, 23–26].
Коллективный эффект взаимодействия плазмы газового разряда с облаком столь значительный, что влияние облака распространяется также и на окружающую его плазму, приводя к перераспределению в ней плотности заряженных компонент [3, 4, 14, 26], и даже может привести к тушению разряда [27]. Отметим, что аналогично случаю, рассмотренному в работе [27], воздействие большого количества микрочастиц на метановоздушную смесь может приводить к увеличению задержек воспламенения [17].
Исследование свойств ионных ловушек весьма актуально в астрохимии и химии атмосферы. В этих областях науки ионные ловушки представляют собой идеальный инструмент для изучения скоростей ионно-молекулярных реакций, а также коэффициентов переноса в условиях низких и криогенных температур [28]. В области “сold controlled chemistry”, как и в плазмохимии, усилия исследователей направлены на достижение внешнего контроля за динамикой химических реакций с участием ионов. Такой контроль возможен, например, путём внешнего управления параметрами ионов в ловушке, а его эффективность может быть определена через анализ влияния концентрации микрочастиц на показатели эффективности удержания ионов в ловушке (эффективности ионной ловушки) [21].
Цель данной работы состояла в том, чтобы выявить возможность получения одинаковой энергетической эффективности накопления ионов для ионной ловушки, образованной облаком заряженных микрочастиц, в зависимости от их концентрации при параметрах комплексной плазмы электрического разряда в неоне, полученных в эксперименте.
2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОМПЛЕКСНОЙ ПЛАЗМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО РАЗРЯДА
Механизм взаимодействия компонент комплексной плазмы описывается системой нелинейных дифференциальных уравнений, решаемой численно в рамках жидкостной модели плазмы. На рис. 1 показана схема участка плазмы 1 электрического разряда в цилиндрической разрядной трубке 2 радиусом R с однородным облаком заряженных микрочастиц 3 радиусом rc, поясняющая подход к расчету эффективности накопления ионов в облаке. Параметры эффективности были определены по расчетам пространственных распределений концентраций компонент плазмы, выполненных с использованием экспериментальных значений параметров комплексной плазмы неона [3]. Моделирование плазмы разряда с микрочастицами проведено в диффузионно-дрейфовом приближении. В такой плазме электроны и ионы подвержены дрейфу и диффузии в направлении стенки разряда и вдоль него. Двигаясь вдоль разряда с аксиальным электрическим полем Ez, они создают полный электрический ток I (рис. 1):
Рис. 1. Схема участка положительного столба тлеющего разряда с микрочастицами: 1 – плазма, 2 – разрядная трубка радиусом R, 3 – облако микрочастиц радиусом rc, 4 – условное изображение обратной связи.
где me,i – подвижности и ne,i,p – концентрации электронов, ионов и микрочастиц; e – элементарный заряд. Модель предполагает выполнение условия сохранения полного тока. В стационарном режиме в направлении стенки разряда радиальные потоки электронов и ионов одинаковы и полный радиальный ток равен нулю. В этом случае радиальное электрическое поле Er(r) не участвует в диссипации энергии, а его роль заключается в удержании отрицательно заряженного пылевого облака в плазме в радиальном направлении.
Микрочастицы в облаке при воздействии потоков электронов и ионов заряжаются отрицательно, и равновесный заряд q частицы радиусом a равен 4pe0aj/e, где j – поверхностный потенциал микрочастицы, e0 – электрическая постоянная. Величина, знак заряда микрочастиц и возникновение радиального электрического поля обусловлены большей подвижностью электронов. Потери частиц плазмы на микрочастицах приводят к возникновению в ней положительной обратной связи (4 на рис. 1), приводящей к дополнительной ионизации, компенсирующей потери в условиях сохранения полного тока разряда (более подробно см. [3]).
Плазма как квазинейтральная среда описывается уравнением электронейтральности: ni = = npq/e + ne. Поскольку заряд на микрочастицах может составлять несколько тысяч элементарных зарядов, то для сохранения баланса зарядов образуется избыток ионов около отдельной микрочастицы и в среднем внутри облака по сравнению с окружающей его плазмой. В облаке накапливаются ионы, концентрация которых может быть в несколько раз выше, чем в разряде без микрочастиц [4]. Так как накапливаемые ионы находятся внутри облака, то при определении показателей эффективности мы учитывали только часть полного тока – ток Ic, протекающий через облако с радиусом rc (рис. 1). Учитывая малую подвижность ионной компоненты тока относительно электронной, ионную долю тока можно не учитывать. Тогда ток Ic можно выразить через полный ток:
Пространственные распределения концентраций компонент плазмы могут быть получены путем совместного решения уравнений непрерывности для потоков заряженных частиц и сохранения заряда с граничными условиями, соответствующими геометрической постановке задачи. При моделировании плазмы разряда в неоне с микрочастицами учтены процессы образования, диффузии и дрейфа компонент плазмы, тепловыделения и диссипация энергии плазмы в процессе гибели электронов, ионов и метастабильных атомов неона в объеме плазмы, на поверхности микрочастиц и на стенках разрядного устройства. Рассмотрены ионизация прямым электронным ударом, хемиионизация и ступенчатая ионизация через метастабильный уровень неона с энергией 16.62 эВ. Температура электронов, транспортные коэффициенты и коэффициенты реакций возбуждения и ионизации с участием электронов получены с использованием расчетных пакетов BOLSIG+ [29] и LXCat [30].
Распределения ионов, электронов и метастабильных атомов удовлетворяют нулевым краевым условиям ni,e,m|r=R = 0 на стенке и условиям, которые следуют из симметрии задачи: (dni,e,m/dr)|r=0 = 0. Распределение пылевых частиц по радиусу принято однородным и было задано осесимметричным плоским профилем np(r) = n при r ≤ rc с экспоненциальным размытием по краям np(r) = n exp[(rc – r)/0.1R] при r > rc. Более полно модель представлена в работах [4, 16, 31].
3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИОННОЙ ЛОВУШКИ
Эффективность ионной ловушки определяется на основе расчета ряда показателей, относящихся к одной микрочастице и облаку в целом [21]. Показатели эффективности для части разряда, занятой облаком, можно определить через ток Ic, протекающий внутри облака, значения погонной вкладываемой в разряд мощности и средние концентрации ионов для разрядов с облаком и без него.
Показатель, определяющий аккумулирующую способность одной микрочастицы, равен отношению усредненного по радиусу облака rc значения приращения концентрации ионов, обусловленного присутствием микрочастиц в разряде, к концентрации микрочастиц:
(1)
где ⟨ni(rc,np)⟩ и ⟨ni(rc,0)⟩ – средние концентрации ионов в облаке и в разряде без микрочастиц в области, ограниченной радиусом облака, соответственно. Этот показатель рассчитывается для концентрации микрочастиц, равной или превышающей единицу.
Эффективность облака как ловушки ионов в целом определяется эффективностью накопления ионов и диссипируемой энергией в этой области разряда. Эффективность накопления ионов облаком микрочастиц, z, определяется как отношение усредненных по радиусу облака rc значений концентрации ионов в разряде с микрочастицами к концентрации ионов в разряде без микрочастиц:
(2)
Относительный энергетический КПД накопления ионов облаком, η, равен
(3)
где Pi = IcEz∕Ni(rc,np) и Pi0 = Ic0Ez0∕Ni(rc,0) – мощности удельных энергетических затрат существования одного иона в облаке микрочастиц и в разряде без микрочастиц в области, ограниченной радиусом облака, соответственно. Здесь IcEz и Ic0Ez0 – линейные потери мощности внутри облака и в разряде без микрочастиц в области, ограниченной радиусом облака, соответственно;
и
– погонные количества ионов в облаке и в разряде без микрочастиц в области, ограниченной радиусом облака, соответственно.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Расчет параметров плазмы и показателей эффективности был проведен с учетом параметров эксперимента. Расчет был выполнен для разряда постоянного тока в неоне с радиусом R = 0.825 см с микрочастицами диаметром 2.55 мкм и размером пылевого облака rc = 0.5R и вариации концентрации микрочастиц в облаке np от 1 ⋅ 105 см−3 до 4 ⋅ 105 см−3. Величина полного тока I в расчетах ограничена минимальным током горения разряда с микрочастицами, равным 0.5 мА, а максимальная его величина, равная 3 мА, ограничена примерным значением, при котором наблюдались однородные облака микрочастиц [12, 32].
Основной результат, отражающий достижения поставленной задачи, показан на рис. 2. Показаны домены с равными значениями рассмотренных выше показателей эффективности ионной ловушки, образующиеся при изменении концентрации микрочастиц в облаке и ограниченные параметрами расчета – током разряда и давлением неона.
Рис. 2. Домены с равными показателями эффективности ионной ловушки при разной концентрации микрочастиц np в диапазоне изменений давления неона P от 30 до 120 Па и тока разряда I от 0.5 до 3 мА. Граничные линии доменов соответствуют значениям P = 120 Па, I = 0.5 мА (штриховые линии) и P = 40 Па, I = 3 мА (сплошные линии).
Для одной микрочастицы выражение (1) описывает эффективное накопление ионов в облаке при условии [⟨ni(rc,np)⟩ − ⟨ni(rc,0)⟩] > np, когда приращение концентрации ионов, обусловленное присутствием микрочастиц в разряде, превышает концентрацию микрочастиц, что выполняется при zp > 1. Очевидно, что эффективные состояния накопления ионов облаком аналогично реализуются при z ≥ 1 и η ≥ 1. Поэтому приведенные на рис. 2 домены показаны ограниченными данными условиями.
Рассматривая полученную диаграмму (рис. 2) можно отметить следующие ее особенности:
- одинаковые значения тока разряда и давления неона, соответствующие линиям 1 и 2, ограничивающие максимальные и минимальные значения для всех показателей эффективности;
- совпадающие значения концентрации микрочастиц для доменов z и η, определяющие эффективность облака как ловушки ионов в целом;
- область существования для домена zp по концентрации значительно меньше, чем для доменов z и η;
- области значений z и η расширяются с ростом концентрации микрочастиц.
В первом случае совпадение параметров для линий 1 и 2 следует из одинакового характера изменения значений рассматриваемых показателей в зависимости от давления и тока в полученном диапазоне изменений концентраций микрочастиц.
Вторая особенность указывает на квазиэквивалентность показателей z и η. Этот вывод подтверждается в результате приведения уравнений (2) и (3) к виду, соответствующему одинаковой размерности. В этом случае получаем отношение η∕z, пропорциональное коэффициенту K = = IcEz∕Ic0Ez0, отражающему изменение погонной мощности, выделяемой в разряде, связанное с наличием облака микрочастиц.
Область существования для домена zp, характеризующего аккумулирующую способность индивидуальной микрочастицы, по концентрации ограничена значением np* ~1.5 ⋅ 105 см−3 (рис. 2). Эта концентрация, по всей видимости, соответствует объёмной плотности облака, при которой происходит изменение характера взаимодействия микрочастиц с плазмой [33], который был выявлен из анализа поведения экспериментальной зависимости приращения напряженности электрического поля от погонной плотности микрочастиц. При концентрации ниже этого значения микрочастицы взаимодействуют с плазмой как индивидуальные объекты, слабо влияющие, например, на распределение электронной концентрации. В обратном случае микрочастицы воздействуют на плазму коллективно, т.е. характер взаимодействия начинает зависеть от параметров пылевого облака и разряда, сильно влияя на параметры окружающей плазмы, например истощая концентрацию электронов внутри облака [4].
Расширение области значений z и η при увеличении концентрации микрочастиц указывает на их растущую роль в процессах аккумуляции ионов и управлении параметрами комплексной плазмы. Ранее было обнаружено, что распределения ионов внутри облака можно контролировать путем изменения концентрации или количества микрочастиц [3, 4, 21]. При этом была выявлена особенность комплексной плазмы, не свойственная плазме разряда без микрочастиц, которая заключалась в существовании областей (доменов) с совпадающей концентрацией ионов при разных давлениях и токах электрического разряда [3], что указывало на возможность контроля за концентрацией ионов в широком диапазоне изменений параметров комплексной плазмы. По существу, полученные домены эффективности представляют собой области управления комплексной плазмой, а их существование указывает на самосогласованный характер процессов взаимодействия газоразрядной плазмы как с облаком в целом, так и с отдельными микрочастицами. Подобное свойство присуще диссипативным синергетическим плазменным системам, которые, как правило, обладают сильной (глубокой) обратной связью, что позволяет контролировать и поддерживать необходимые значения одних параметров системы в широком диапазоне изменения других [3]. Звеном обратной связи в элементарных процессах в комплексной плазме в нашем случае служит облако микрочастиц, а глубина обратной связи определяется степенью воздействия микрочастиц на плазму (рис. 1). При этом возможность контроля системы может способствовать повышению стабильности и воспроизводимости ее параметров. Комплексная плазма в данном аспекте представляет собой открытую диссипативную синергетическую систему с сильными обратными связями между плазменными процессами [3, 12].
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для облаков микрочастиц, удерживаемых в плазме электрического разряда, показана возможность получения одинаковой энергетической эффективности накопления ионов в широком диапазоне изменения параметров разряда. Также показано, что эта возможность появляется в результате того, что в комплексной плазме электрического разряда образуется сильная обратная связь, обусловленная присутствием микрочастиц и их сильным взаимодействием с компонентами плазмы разряда. Наличие сильной обратной связи позволяет управлять параметрами плазмы путем изменения концентрации микрочастиц. Вопросы управления параметрами плазмы актуальны при осуществлении плазменно-химических реакций в технологических процессах.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Министерством науки и высшего образования в рамках госзадания (тема № 075-00270-24-00).
About the authors
D. N. Polyakov
Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: cryolab@ihed.ras.ru
Russian Federation, Moscow
V. V. Shumova
Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences; Semenov Institute of Chemical Physics, Russian Academy of Sciences
Email: cryolab@ihed.ras.ru
Russian Federation, Moscow; Moscow
L. M. Vasilyak
Joint Institute for High Temperatures, Russian Academy of Sciences
Email: cryolab@ihed.ras.ru
Russian Federation, Moscow
References
- I. Adamovich, S. Agarwal, E. Ahedo et al., J. Phys. D: Appl. Phys. 55, 373001 (2022). https://doi.org/10.1088/1361-6463/ac5e1c
- F. Schlichting and H. Kersten, EPJ Techn. Instrum. 10, 19 (2023). https://doi.org/10.1140/epjti/s40485-023-00106-4
- D.N. Polyakov, V.V. Shumova, and L.M. Vasilyak, Plasma Sources Sci. Technol. 30, 07LT01 (2021). https://doi.org/10.1088/1361-6595/ac0a46
- V.V. Shumova, D.N. Polyakov, and L.M. Vasilyak, J. Appl. Phys. 128, 053301 (2020). https://doi.org/10.1063/5.0014944
- J. Beckers, J. Berndt, D. Block et al., Phys. Plasmas 30, 120601 (2023). https://doi.org/10.1063/5.0168088
- M.Y. Pustylnik, A.A. Pikalev, A.V. Zobnin, et al., Contribut. Plasma Phys. 61 (10), e202100126 (2021). https://doi.org/10.1002/ctpp.202100126
- G.V. Golubkov, M.I. Manzhelii, A.A. Berlin, A.A. Lushnikov, and L. V. Eppelbaum, Russ. J. Phys. Chem. B 12, 725 (2018). https://doi.org/10.1134/S1990793118040061
- G.V. Golubkov, N.V. Ardelyan, V.L. Bychkov, and K.V. Kosmachevskii, Russ. J. Phys. Chem. B 12, 755 (2018). https://doi.org/10.1134/S1990793118040073
- Y. Chengxun, L. Zhijian, V. L. Bychkov et al., Russ. J. Phys. Chem. B 16(5), 955 (2022). https://doi.org/10.1134/S1990793122050189
- M.G. Golubkov, A.V. Suvorova, A.V. Dmitriev, and G.V. Golubkov, Russ. J. Phys. Chem. B 14, 873 (2020). https://doi.org/10.1134/S1990793120050206
- D.N. Polyakov, V.V. Shumova, and L.M. Vasilyak, Russ. J. Phys. Chem. B 17 (5), 1241 (2023). https://doi.org/10.1134/S1990793123050263
- D.N. Polyakov, L.M. Vasilyak, and V.V. Shumova, Surf. Eng. Appl. Electrochem. 51, 143 (2015). https://doi.org/10.3103/S106837551502012X
- Y. Huttel, Gas-phase synthesis of nanoparticles. – John Wiley & Sons, Weinheim 2017. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9783527698417
- V.V. Shumova, D.N. Polyakov, and L.M. Vasilyak, Russ. J. Phys. Chem. B 14 (6), 959 (2020). https://doi.org/10.1134/S1990793120060275
- V.N. Mikhalkin, S.I. Sumskoi, A.M. Tereza et al. Russ. J. Phys. Chem. B 16 (4), 629 (2022). https://doi.org/10.1134/S1990793122040261
- V.V. Leschevich, V.V. Martynenko, O.G. Penyazkov, K.L. Sevrouk, and S.I. Shabunya, Shock Waves 26, 657 (2016). https://doi.org/10.1007/s00193-016-0665-9
- G.L. Agafonov, and A.M. Tereza, Russ. J. Phys. Chem. B 9, 92 (2015). https://doi.org/10.1134/S1990793115010145
- S.P. Medvedev, B.E. Gelfand, S.V. Khomik, and G.L. Agafonov, J. Engineer. Phys. and Thermophys. 83, 1170 (2010). https://doi.org/10.1007/s10891-010-0440-1
- V.V. Shumova, D.N. Polyakov, and L.M. Vasilyak, Russ. J. Phys. Chem. B 17 (4), 986 (2023). https://doi.org/10.1134/S1990793123040280
- L.M. Vasilyak, S.P. Vetchinin, D.N. Polyakov, and V.E. Fortov, J. Exp. Theor. Phys. 94 (3), 521 (2002). https://doi.org/10.1134/1.1469151
- D.N. Polyakov, V.V. Shumova, and L.M. Vasilyak, Plasma Sources Sci. Technol. 31, 074001 (2022). https://doi.org/10.1088/1361-6595/ac7c36
- W.M. Farrell, J.E. Wahlund, M. Morooka et al., J. Geophys. Res. Planets 122, 729 (2017). https://doi.org/10.1002/2016JE005235
- E.R. Williams, Atmos. Res. 91, 140 (2009). https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2008.05.018
- N.V. Ardelyan, V.L. Bychkov, G.V. Golubkov, and K.V. Kosmachevskii, Russ. J. Phys. Chem. B 12, 749 (2018). https://doi.org/10.1134/S1990793118040036
- A.V. Kostrov, Plasma Phys. Rep. 46 (4), 443 (2020). https://doi.org/10.1134/S1063780X20040066
- R. Tian, Y. Liang, S. Hao, et al., Plasma Sci. Technol. 25, 095401 (2023). https://doi.org/10.1088/2058-6272/acc44a
- D.N. Polyakov, V.V. Shumova, and L.M. Vasilyak, IEEE Trans. Plasma Sci. 42, 2684 (2014). https://doi.org/10.1109/TPS.2014.2311584
- R.V. Krems, Phys. Chem. Chem. Phys. 10, 4079 (2008). https://doi.org/10.1039/B802322K
- G.J.M. Hagelaar, and L. C. Pitchford, Plasma Sources Sci. Technol. 14, 722 (2005). http://dx.doi.org/10.1088/0963-0252/14/4/011
- L.C. Pitchford, J. Phys. D: Appl. Phys. 46, 330301 (2013). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0022-3727/ 46/33/330301
- V.V. Shumova, D.N. Polyakov, and L.M. Vasilyak, Russ. J. Phys. Chem. B 15 (4), 691 (2021). https://doi.org/10.1134/S1990793121040242
- V.V. Shumova, D.N. Polyakov, and L.M. Vasilyak, Russ. J. Phys. Chem. B 14 (4), 666 (2020). https://doi.org/10.1134/S1990793120040223
- D.N. Polyakov, V.V. Shumova, and L.M. Vasilyak, Plasma Phys. Rep. 43 (3), 397 (2017). https://doi.org/10.1134/S1063780X17030096
Supplementary files