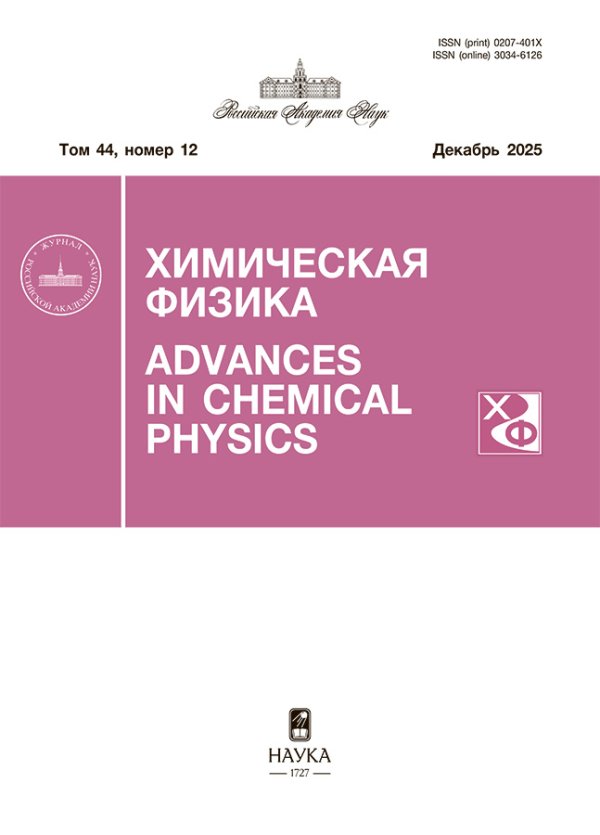Methods for measuring electron concentration in shock waves
- Authors: Gerasimov G.Y.1, Levashov V.Y.1, Kozlov P.V.1, Bykova N.G.1, Zabelinsky I.E.1
-
Affiliations:
- Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University
- Issue: Vol 43, No 7 (2024)
- Pages: 31-46
- Section: Combustion, explosion and shock waves
- URL: https://bakhtiniada.ru/0207-401X/article/view/274707
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0207401X24070047
- ID: 274707
Cite item
Full Text
Abstract
The current state of research on measuring the electron concentration in low-temperature plasma in the vicinity of a strong shock wave, which simulates the conditions of the descend spacecraft entry into the Earth’s atmosphere is considered. Various physicochemical processes leading to the formation of low-temperature plasma both ahead of the shock wave front and in the shock-heated gas are analyzed. A critical review of various plasma diagnostic methods is made, their advantages and disadvantages are noted. An analysis of numerous experimental data on measuring the electron concentration in various shock-heated gases under various conditions was carried out.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Неравновесные физико-химические процессы, протекающие в ударно-нагретом слое воздуха вблизи поверхности спускаемого космического аппарата при его движении в атмосфере Земли, приводят к частичной ионизации газовой среды. При этом электроны оказывают существенное влияние на формирование радиационных тепловых потоков, направленных к поверхности аппарата [1]. В первую очередь это объясняется тем, что возбуждение электронных уровней атомов и молекул электронным ударом при высоких скоростях ударной волны становится преобладающим столкновительным процессом, инициирующим переход поступательной энергии ударно-нагретого газа в радиационную энергию [2]. Наличие высокой степени ионизации воздуха вблизи поверхности космического аппарата влияет также на распространение радиоволн, что может вызвать нарушение радиосвязи с аппаратом [3, 4]. Поэтому правильная оценка концентрации электронов в ударно нагретом газе играет важную роль в обеспечении безопасности полета [5].
Наиболее удобным инструментом для изучения неравновесных процессов, протекающих в низкотемпературной плазме, являются ударные трубы. В настоящее время в мировой практике эксплуатируется большое количество ударных труб, отличающихся друг от друга размерами, конструкцией и целью проводимых исследований. Достаточно полное описание действующих ударных установок приведено в обзорах [6–9]. Большой объем информации по радиационным характеристикам ударно-нагретого воздуха получен на установках EAST (Electric Arc Shock Tube) Исследовательского центра NASA (Ames, USA) [10], T6 Stalker (результат совместной работы Оксфордского университета и Центра гиперзвуковых исследований Университета Квинсленда) [11], а также на ударных туннелях X1, X2 и X3 Университета Квинсленда (Австралия) [12]. Среди действующих отечественных установок следует отметить экспериментальный комплекс “Ударная труба” НИИ механики МГУ, с использованием которого ведется исследование различных высокотемпературных процессов [13–16].
Измерение концентрации электронов в ударных волнах проводится с применением различных методов диагностики плазмы, которые фактически являются развитием известных подходов к изучению газоразрядной плазмы [17]. К ним в первую очередь относятся зондовые, спектроскопические, интерферометрические и другие методы [18, 19]. В настоящей работе рассмотрено современное состояние исследований по данному направлению. В связи с тем, что количество публикаций по методам диагностики плазмы достаточно велико, в обзоре приведены наиболее типичные работы по каждому из рассмотренных вопросов.
ИОНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Физико-химические процессы, приводящие к образованию низкотемпературной плазмы в окрестности сильной ударной волны, протекают как перед ее фронтом, так и в ударно-нагретом газе. Возникновение электронов перед ударной волной объясняется двумя конкурирующими механизмами: диффузией электронов из послеударной области и фотоионизацией молекул коротковолновым вакуумно-ультрафиолетовым излучением ударно-нагретого газа [20]. Схематично эти процессы представлены на рис. 1, где показано, что ударная волна движется справа налево. Как показали эксперименты с электростатическими и магнитными зондами по исследованию диффузии электронов перед ударными волнами с числом Маха M = 8–12 в аргоне [21], диффузионный процесс способен обеспечить плотность электронов ne ≈ 107 см–3 на расстоянии около 1 м перед фронтом волны. Эти данные подтверждаются результатами моделирования диффузионного процесса с участием электронов [22].
Рис. 1. Схематичное изображение ионизационных процессов перед ударной волной: а – диффузия, б – фотоионизация [20]. Стрелкой показано направление движения ударной волны.
Серия зондовых измерений параметров низкотемпературной плазмы перед фронтом падающей ударной волны, проведенная в работе [23], позволила выделить причины изменения потенциала зонда, связанные с процессами фотоэффекта и фотоионизации, а также определить момент начала образования электронов перед фронтом ударной волны за счет излучения газа из высокотемпературной области за ударной волной. Как показано в работе [24], основным источником фотоэлектронов в воздухе являются молекулы O2, которые поглощают излучение, испускаемое молекулами азота в синглетных возбужденных состояниях b1 P, b′1 Σ+u и c4′1 Σ+u в области длин волн от 98 до 102.5 нм. Для расчета скорости фотоионизации разработана математическая модель, которая удовлетворительно согласуется с экспериментальными данными [25]. Более поздние варианты модели [26, 27] позволили ближе подойти к реальному физическому процессу.
Ионизационные процессы в ударно-нагретых молекулярных газах инициируются химическими реакциями ассоциативной ионизации [28]. В частности, в воздушной среде к ним относятся следующие реакции: N + O → NO+ + e, N + N → N2+ + e, O + O → O2+ + e. В приближении, когда прямо за ударным фронтом электроны отсутствуют, эта группа реакций отвечает за формирование первичных электронов. Процесс ассоциативной ионизации особенно важен в неравновесной зоне ударно-нагретого газа, так как именно он отвечает за формирование радиационного теплового потока, направленного к поверхности спускаемого космического аппарата [29]. В атомарных газах инициирование ионизационного процесса в послеударной области осуществляется посредством реакции ионизации атома при его столкновении с другим атомом [30]. При этом рассматривается двухступенчатая модель реакции, когда атом при столкновении возбуждается до первого возбужденного состояния, а потом мгновенно ионизируется в результате другого столкновения.
ЗОНДОВЫЙ МЕТОД
Одним из наиболее ранних методов диагностики плазмы является метод зондов Ленгмюра [17]. Суть метода заключается во введении в плазму электрода-зонда, на который перетекают ионы и электроны из окружающей его газовой среды. При этом возникает ток, который зависит от напряжения между плазмой и поверхностью электрода. Параметры плазмы получаются из анализа вольт-амперной характеристики, полученной путем сканирования напряжения зонда. Основы теории ленгмюровского зонда подробно изложены в ряде работ и монографий (см., например, [31–33]). Основным достоинством метода является локальность измеряемых характеристик плазмы. К другому его преимуществу можно отнести простоту используемой аппаратуры, что позволяет быстро и без высоких затрат получить результат. И, наконец, число измеряемых параметров и диапазоны их измерений столь велики, что не имеют аналогов среди других методов диагностики плазмы.
В традиционной зондовой теории Ленгмюра предполагается, что l >> rp >> lD, где l – длина свободного пробега электронов в плазме, rp – размер зонда и lD – дебаевский радиус [31]. При высоких давлениях это соотношение нарушается и необходимо использовать теорию континуума [34]. Второе соотношение указывает на предельный случай бесконечно тонкого призондового слоя, что позволяет существенно упростить интерпретацию результатов зондовых измерений применительно к зондам цилиндрической и сферической формы. В целом область применения зондовой теории Ленгмюра охватывает диапазон давлений от 10−5 до 103 Торр и диапазон концентраций электронов от 107 до 1015 см−3 [35]. Следует отметить, что интерпретация зондовых измерений сама по себе может быть предметом отдельного изучения, так как она существенным образом зависит от параметров плазмы, размеров и формы зонда [36, 37].
Зондовая методика хорошо работает при измерении концентрации электронов в области перед фронтом сильной ударной волны. Как отмечалось в предыдущем разделе, процесс фотоионизации молекул O2 ведет к образованию электронов-предшественников перед ударной волной. Этот эффект, в свою очередь, увеличивает толщину ударного слоя перед спускаемым космическим аппаратом, а также неравновесную температуру за фронтом ударной волны, что приводит к избыточному радиационному нагреву. Как показывают результаты численного анализа [38, 39], учет этого эффекта в условиях входа аппарата в атмосферу Земли со сверхорбитальной скоростью может привести к увеличению теплового потока, составляющему до 20%.
Серия экспериментов по зондовому измерению температуры и концентрации электронов перед сильной ударной волной в воздухе проведена в двухдиафрагменной поршневой ударной трубе HVST (Hyper Velocity Shock Tube), эксплуатируемой в Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA) [40]. Начальное давление воздуха перед фронтом ударной волны p0 во всех экспериментах равнялось 0.23 Торр, скорость ударной волны VSW изменялась от 10.7 до 12.3 км/с. Измерения температуры (Te) и концентрации (ne) электронов выполнены с использованием одиночного зонда, сделанного из медного электрода диаметром 2 мм, боковая поверхность которого покрыта защитной керамической оболочкой. Зонд вставлялся вертикально в стенку ударной трубы, во избежание возможного влияния фотоэффекта. Обработка вольт-амперных характеристик зонда проведена с использованием простых аналитических соотношений.
Зависимость концентрации электронов ne от расстояния х до ударного фронта при различных скоростях ударной волны показана на рис. 2. Видно, что с увеличением х и уменьшением скорости ударной волны величина ne уменьшается. Концентрация нейтральных частиц газа в рассматриваемой области при p0 = 0.23 Торр и температуре T0 = 300 K составляет порядка 7.3 × 1015 см−3. Соответственно, степень ионизации воздуха при VSW = 12.3 км/с на расстоянии x = −80 мм равна примерно 0.1%. Электронная температура Te, необходимая для оценки концентрации ne, при данных скоростях ударной волны практически постоянна и составляет величину порядка (4000 ± 1000) K.
Рис. 2. Зависимость концентрации электронов перед сильной ударной волной в воздухе от расстояния до ударного фронта, измеренная зондовым методом при VSW = 12.3 (1), 11.5 (2) и 10.7 км/с (3) [40]. Начальное давление p0 = 0.23 Торр.
Эксперименты по измерению электронной концентрации перед ударной волной с помощью зондовой методики проводились также в электроразрядной ударной трубе ADST (Arc Driven Shock Tube), длительное время эксплуатируемой в ЦАГИ [41]. Использовались одиночные и двойные зонды с переменным и постоянным напряжением. Область исследованных параметров охватывает более широкий, чем в работе [40], интервал скоростей ударной волны (от 4.6 до 11.3 км/с при p0 = 0.2 Торр) и расстояний от ударного фронта (до 80 см). Полученные результаты по измерению электронной концентрации перед ударной волной примерно в два раза меньше соответствующих данных, приведенных в работе [40]. Аналогичные эксперименты, проведенные в чистом азоте [42], дают примерно такие же значения для электронной концентрации, что и в работе [40].
Измерение электронной концентрации пе в квазистационарной области течения за сильными ударными волнами в воздухе проводилось в электроразрядной ударной трубе ADST при начальном давлении p0 = 0.2 Торр и значении скорости ударной волны VSW в интервале от 4.3 до 15 км/с [43]. Так как в рассматриваемых условиях число Кнудсена составляет величину порядка единицы, для обработки данных зондовых измерений использовались результаты работы [44], в которой построена приближенная теория работы зондов в переходном режиме.
Результаты зондовых измерений электронной концентрации в ударно-нагретом воздухе, полученных на установке ADST, представлены на рис. 3. Заштрихованная область соответствует значениям пе, выбранным из большого числа экс периментов, проведенных при различных rp. Сплошной кривой показаны результаты равновесного расчета. Видно, что при скоростях ударной волны VSW > 8 км/с измеренные значения пе совпадают с равновесной кривой. При скоростях более 9 км/с равновесные значения пе значительно превышают экспериментальные. Этот факт может быть объяснен тем, что при VSW > 9 км/с на смену механизму ассоциативной ионизации приходит процесс ионизации электронным ударом. При этом в зоне за ударной волной, где концентрация электронов выходит на постоянный уровень, может не выполняться условие локального термодинамического равновесия вследствие обеднения возбужденных состояний атомов за счет высвечивания [45]. С другой стороны, при больших давлениях газа, которые реализуются за сильной ударной волной, традиционная зондовая теория Ленгмюра теряет силу, а различного рода поправки на большу́ю плотность газа и учет эффекта диффузии вблизи зонда, как правило, недостаточны для измерения абсолютных значений электронной концентрации [17]. Аналогичные измерения величины пе за сильной ударной волной в воздухе при скоростях VSW от 7 до 9 км/с и давлении p0 = 0.02 Торр проведены в работе [46].
Рис. 3. Зависимость концентрации электронов за сильной ударной волной в воздухе от скорости ударной волны, измеренная зондовым методом [43]. Линия – результаты равновесного расчета.
Зондовая методика широко используется также для измерения характеристик плазмы в различных газоразрядных и энергетических установках. В частности, временна́я эволюция плотности плазмы и температуры электронов в мощных импульсных магнетронных разрядах, где концентрация электронов может достигать значений ~1014 см−3, измерена в работе [47] с помощью ленгмюровского зонда и метода лазерного томсоновского рассеяния. Теоретические и экспериментальные результаты использования электрических зондов для получения информации об эффективной скорости хемоионизации в высокотемпературных химически реагирующих неравновесных газовых смесях за отраженными ударными волнами в ударных трубах рассмотрены в работе [48].
МЕТОДЫ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Спектроскопический метод является в настоящее время наиболее распространенным методом анализа низкотемпературной плазмы за сильной ударной волной [49]. Методология определения концентрации электронов основана на подгонке теоретически рассчитанных спектральных характеристик ударно-нагретого газа к их измеренным значениям. В первую очередь это относится к изучению уширения атомарных линий вследствие эффекта Штарка, т.е. в результате взаимодействия излучающих атомов с микрополями окружающих их электронов и ионов [50]. Другая разновидность спектрального метода – процедура сопоставления измеренных интенсивностей спектральных линий атомов с расчетными данными [51]. При этом используются достаточно сложные столкновительно-радиационные модели, которые затрудняют широкое применение данной разновидности на практике.
При спектроскопическом анализе низкотемпературной плазмы на основе штарковского уширения атомарных линий особый интерес представляет линия атома водорода Hβ (λ = 486 нм) серии Бальмера. В молекулярных газах с небольшой примесью паров воды или молекулярного водорода эта линия имеет ярко выраженный максимум на интегральной спектрограмме излучения и не затенена молекулярными полосами [52]. Расчет штарковского уширения линий атома водорода при различных значениях концентрации и температуры электронов представлен в работе [53] в виде табличных данных. В предположении, что электронная температура составляет ≈10 000 К, а приведенная масса иона равна 1.0, эти табличные данные для линии Hβ были параметризированы в работе [54] в виде ne = 1.0 × 1016 (∆λFWHM)1.47 см−3. В этом выражении ∆lFWHM представляет собой полную ширину на половине максимума (FWHM – full width at half maximum) интенсивности линии Hβ, измеренную в нанометрах. Данный метод анализа низкотемпературной плазмы, основанный на спектроскопическом измерении тонкой структуры линии Hβ, достаточно часто используется при определении концентрации электронов в неравновесной области ударно-нагретого газа (см., например, [55, 56]).
Измерение концентрации электронов в ударно-нагретом газе достаточно часто проводится на основе анализа штарковского уширения других атомарных линий. В частности, большой объем экспериментальной информации применительно к условиям входа космического аппарата в атмосферу Земли со сверхорбитальной скоростью получен на ударной установке EAST, где для определения величины ne используются измеренные профили линий Ha при λ = 656 нм и N при λ = 410 и 411 нм [57].
На рис. 4 представлена зависимость концентрации электронов ne от начального давления p0 в набегающем потоке и скорости ударной волны VSW. Линиями показаны результаты равновесного расчета. Видно, что с ростом p0 и VSW степень ионизации воздуха быстро увеличивается. Разброс экспериментальных данных достаточно хорошо соответствует равновесным значениям с небольшой тенденцией к превышению при низких скоростях и высоких давлениях. Интересно сравнить данные, приведенные на рис. 4, с результатами измерения ne зондовым методом, показанными на рис. 3. Анализ представленной информации позволяет сделать вывод о том, что зондовая методика плохо работает при высоких скоростях ударной волны, когда концентрация электронов в ударно-нагретом воздухе превышает 1015 см−3.
Рис. 4. Электронные концентрации, измеренные за сильной ударной волной в воздухе на основе анализа штарковского уширения линий N (410 и 411 нм) при p0 = 0.9 (1), 0.5 (2), 0.2 (3) и 0.1 Торр (4) [57]. Линии – результат равновесного расчета.
Исследование характеристик низкотемпературной плазмы, основанное на измерении поглощения лазерного излучения, проведено в работе [58]. В качестве рабочей среды использовалась ударно-нагретая смесь 1% O2 + Ar за отраженной ударной волной при температуре газа ~10 000 K и давлении ~0.5 атм. Концентрация электронов определялась по штарковскому сдвигу линии атома кислорода на длине волны λ = 926 нм, а также по штарковскому уширению линии атома кислорода на длине волны λ = 777 нм. Связь между ne и спектроскопическими параметрами определялась с помощью известных соотношений [59]. Для зондирования атомов кислорода в возбужденном состоянии использовались два лазера с распределенной обратной связью, настроенные на соответствующие переходы. На рис. 5 показана эволюция электронной концентрации за отраженной ударной волной при T = 11 209 K и p = 0.37 атм, измеренная различными методами. Сплошной линией показаны результаты расчета с использованием упрощенной столкновительно-радиационной модели [60]. Видно, что оба спектроскопических метода дают примерно одинаковые результаты, хорошо согласующиеся с расчетными данными. Аналогичное исследование применительно к ударно-нагретому кислороду и смеси CO + Ar проведено в недавней работе [61].
Рис. 5. Временна́я зависимость концентрации электронов в смеси 1% O2 + Ar за отраженной ударной волной при T = 11209 K и p = 0.37 атм, измеренная методами штарковского уширения (1) и штарковского сдвига (2) [58]. Линия – результаты расчета.
Для определения величины ne в низкотемпературной плазме достаточно широко используется метод OES (Optical Emission Spectroscopy) [49, 51, 62–64]. В основе метода лежит процедура подгонки относительных интенсивностей эмиссионных линий, рассчитанных по столкновительно-радиационной модели при определенных значениях ne, к экспериментальным данным. В частности, метод применен для исследования параметров плазмы магнетронного разряда на лабораторной установке UVN-200MI (Томский политехнический университет) [62]. В качестве тестового газа был выбран аргон. Наиболее яркие спектральные линии в зарегистрированном спектре эмиссии аргоновой плазмы соответствуют переходам 2p → 1s и лежат в диапазоне λ = 660–930 нм, верхний предел которого определяется чувствительностью спектрометра. Сравнение экспериментальных и теоретических значений интенсивности спектральных линий после минимизации оценочной функции показано на рис. 6. Экспериментальные данные соответствуют спектру излучения аргона, измеренному при мощности разряда 1 кВт и давлении 0.06 Па. Минимуму оценочной функции соответствует значение концентрации электронов ne = 3.15 × 1010 см−3.
Рис. 6. Интенсивность эмиссионных спектральных линий аргона, измеренная в плазме магнетронного разряда при мощности разряда 1 кВт и давлении 0.06 Па (1) и вычисленная с помощью столкновительно-радиационной модели (2) [62].
ИНТЕРФЕРОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
Для измерения больших значений концентрации электронов в низкотемпературной плазме (ne ≥ 1016 см−3) используются различные интерферометрические методы [65, 66]. В этих методах диагностика плазмы основывается на ее зондировании пучком электромагнитных волн и определении разности фаз между прошедшей через плазму волной и опорным когерентным сигналом. Измерение фазового сдвига проводится с помощью различного рода интерферометров [67]. Традиционно для интерферометрии плазмы используются интерферометры, построенные по схеме Майкельсона (Michelson) или Маха–Цендера (Mach–Zehnder) [68]. Интерферометрические методы достаточно широко используются как в исследованиях по физике плазмы [69–71], так и при изучении управляемого термоядерного синтеза [72, 73] как надежное средство измерения абсолютных значений электронной плотности.
Методы интерферометрического анализа структуры ударных волн и неравновесных явлений в ударных волнах не столь распространены, как зондовые и спектроскопические методы [74]. Исследование ионизационных процессов за сильной ударной волной в аргоне при числах Маха ударной волны M ~ 16, начальном давлении p0 = 5 Торр и конечной концентрации электронов ne ≈ 1017 см−3 проведено в работе [75]. Показано, что за фронтом падающей ударной волны развиваются синусоидальные неустойчивости, которые влияют на всю ударную структуру, включая область ионизационной релаксации, область каскадного нарастания электронной концентрации и конечное квазиравновесное состояние. Для экспериментов использовалась ударная труба UTIAS (University of Toronto’s Institute of Aerospace Studies), работающая по принципу детонационного горения и оснащенная интерферометром Маха–Цендера для определения параметров низкотемпературной плазмы за падающей ударной волной. Интерферометр имел импульсный рубиновый лазерный источник света и был способен одновременно снимать две интерферограммы на длинах волн 347.2 и 694.3 нм. С помощью этих интерферограмм определялись концентрация электронов и плотность газа в потоке.
На рис. 7 показано сравнение измеренной зависимости концентрации электронов ne от расстояния x до ударного фронта с имеющимися расчетными данными. Видно, что используемый интерферометрический метод хорошо работает при высоких концентрациях электронов в условиях достаточно протяженной неравновесной зоны. Теоретический расчет профиля концентрации ne = ne(x) выполнен в работе [76] с использованием столкновительно-радиационной модели, которая включает в себя 31 возбужденный уровень нейтрального аргона, а также основные состояния однозарядного иона. Наблюдается достаточно хорошее согласие измеренных и вычисленных значений ne.
Рис. 7. Сравнение экспериментальной зависимости ne = ne(x) за падающей ударной волной в Ar (1) при p0 = 5 Торр и VSW = 4.2 км/с [75] с результатами расчета (2) по столкновительно-радиационной модели [76].
Результаты измерения концентрации свободных электронов при окислении смесей ацетилена и метана с кислородом, сильно разбавленных аргоном, за отраженной ударной волной получены в работе [77] методом микроволновой интерферометрии. Использовались два типа СВЧ-интерферометров различной конструкции, различающихся как длиной волны СВЧ-излучения, так и системами ввода СВЧ-излучения в исследуемую плазму. В первом случае применялась рупорно-линзовая фокусировка (λ = 8 мм), во втором – фокусировка по линиям Лехера (Lecher) (λ = 16 мм).
На рис. 8 показано временно́е изменение концентрации электронов в продуктах сгорания смеси 0.5% СН4 + 2% O2 + 97.5% Ar за отраженной ударной волной при T = 2750 K и p = 1 атм. Видно, что профили концентрации электронов, измеренные двумя разными интерферометрами, практически идентичны друг другу. Аналогичные измерения концентрации электронов проведены в работе [78].
Интерферометрические методы используются также для измерения концентрации электронов в различных газоразрядных и лазерных устройствах. В частности, простой интерферометрический метод оценки ne в плазме, образующейся в переходном искровом разряде в аргоне при атмосферном давлении, разработан в работе [79]. Метод основывается на зондировании плазмы пучком He–Ne-лазера с использованием интерферометра Майкельсона. Измеренная плотность электронов составила величину ~1016 см−3 при напряжении 7.0 кВ. Изучение профиля плотности лазерной плазмы проведено в работе [80] с использованием оптического интерферометра Маха–Цендера. В качестве источника зондирующего света применялся азотный УФ-лазер (длина волны – 337 нм, энергия ~150 мкДж, длительность импульса ~5 нс). Для генерации лазерной плазмы использовалась металлическая мишень (Fe, Cu), на которую воздействовал мощный Nd-лазер (длина волны – 1.054 мкм, энергия импульса – до 20 Дж, длительность импульса – 15 нс).
Рис. 8. Сравнение временны́х зависимостей ne, измеренных СВЧ-интерферометром с линиями Лехера (треугольники) и рупорно-линзовой фокусировкой (квадраты) при воспламенении смеси 0.5% СН4 + + 2% O2 + 97.5% Ar за отраженной ударной волной [77].
ДРУГИЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ
Экспериментальное исследование ионизационных процессов в ударных волнах проводится и с помощью ряда других методов. В частности, для локальных измерений концентрации низкотемпературной плазмы используется метод резонансных СВЧ-зондов [81–83]. По сравнению с зондами Ленгмюра, которые традиционно применяются при измерении электронной концентрации, результаты измерений с помощью СВЧ-зонда в линейном режиме определяются только плотностью плазмы и не зависят от электронной температуры. Метод успешно применен для определения электронной концентрации за сильной ударной волной в воздухе при начальном давлении p0 = 0.2 Торр и значениях скорости ударной волны VSW в интервале от 5 до 7 км/с [43]. Измерения проводились в электроразрядной ударной трубе ADST с помощью СВЧ-рефлектометра, работающего на частоте 39 ГГц. Результаты измерения величины ne перед фронтом сильной ударной волны в воздухе при p0 = 0.2 Торр и скоростях ударной волны до 11.3 км/с приведены в работе [84].
Одним из наиболее точных методов измерения электронной плотности в плазме является метод лазерного томсоновского рассеяния [85]. Метод требует использования мощного импульсного лазера и сложной системы регистрации. Поэтому он относится к диагностическим методам, используемым в фундаментальных научных исследованиях, но из-за своей сложности малопригоден для широкого применения. Метод используется при исследовании газоразрядной [86, 87] и лазерно-индуцированной плазмы [88, 89]. Описание теории томсоновского рассеяния применительно к диагностике низкотемпературной лазерно-индуцированной плазмы и обзор результатов экспериментальных исследований с использованием данного метода приведены в работе [90]. В экспериментах обычно используется импульсный лазер, частота повторения импульсов в котором составляет величину ~10 или 100 Гц [91]. Для измерения электронной концентрации перед сильной ударной волной (VSW ~12 км/с) такой частоты повторения недостаточно [40].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наличие высокой степени ионизации воздуха вблизи спускаемого космического аппарата, движущегося в атмосфере Земли с орбитальной и суперорбитальной скоростью, приводит к возбуждению электронных уровней атомов и молекул электронным ударом, что инициирует переход поступательной энергии ударно-нагретого газа в радиационную энергию и, соответственно, определяет уровень радиационных тепловых потоков к поверхности аппарата.
Возникновение электронов перед ударной волной объясняется двумя конкурирующими механизмами: диффузией электронов из послеударной области и фотоионизацией молекул коротковолновым вакуумно-ультрафиолетовым излучением ударно-нагретого газа. Ионизационный процесс за ударной волной инициируется химическими реакциями ассоциативной ионизации. Данный процесс особенно важен в неравновесной зоне ударно-нагретого газа, так как именно он отвечает за формирование радиационных тепловых потоков.
Наиболее удобным инструментом для изучения неравновесных процессов, протекающих в низкотемпературной плазме вблизи поверхности спускаемого космического аппарата, являются ударные трубы. Измерение концентрации электронов проводится с использованием различных методов диагностики плазмы, основными из которых являются зондовые, спектроскопические и интерферометрические. Полученная экспериментальная информация имеет важное значение для тестирования моделей физической и химической кинетики возбуждения и дезактивации электронно-возбужденных состояний атомов и молекул, которые позволяют оценить радиационные тепловые потоки, направленные к поверхности аппарата
Работа выполнена в рамках госзадания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № АААА-А19-119012990112-4) при частичной финансовой поддержке Российским фондом фундаментальных исследований (грант № 23-19-00096).
About the authors
G. Ya. Gerasimov
Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University
Email: vyl69@mail.ru
Russian Federation, Moscow
V. Yu. Levashov
Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University
Author for correspondence.
Email: vyl69@mail.ru
Russian Federation, Moscow
P. V. Kozlov
Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University
Email: vyl69@mail.ru
Russian Federation, Moscow
N. G. Bykova
Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University
Email: vyl69@mail.ru
Russian Federation, Moscow
I. E. Zabelinsky
Institute of Mechanics, Lomonosov Moscow State University
Email: vyl69@mail.ru
Russian Federation, Moscow
References
- J.S. Shang and S.T. Surzhikov, Prog. Aerospace Sci. 53, 46 (2012). https://doi.org/10.1016/j.paerosci.2012.02.003
- S.T. Surzhikov, Rus. J. Phys. Chem. B 4, 613 (2010).
- N.G. Bykova, K.S. Gochelashvily, D.M. Karfidov et al., Appl. Optics. 56, 2597 (2017). https://doi.org/10.1364/AO.56.002597
- D. Luís, V. Giangaspero, A. Viladegut, A. Lani, A. Camps, and O. Chazot, Acta Astronaut. 212, 408 (2023). https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2023.07.028
- O. Uyanna and H. Najafi, Acta Astronaut. 176, 341 (2020). https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2020.06.047
- O. Igra and F. Seiler, Experimental methods of shock wave research (Springer, New York, 2016).
- P. Reyner, Prog. Aerospace Sci. 85, 1 (2016). https://doi.org/10.1016/j.paerosci.2016.04.002
- S. Gu and H. Olivier, Prog. Aerospace Sci. 113, 100607 (2020). https://doi.org/10.1016/j.paerosci.2020.100607
- G.Ya. Gerasimov, P.V. Kozlov, I.E. Zabelinsky, N.G. Bykova, and V.Yu. Levashov, Rus. J. Phys. Chem. B 16, 642 (2022).
- A.M. Brandis, C.O. Johnston, B.A. Cruden, D. Prabhu, and D. Bose, J. Thermophys. Heat Trans. 29, 209 (2015). https://doi.org/10.2514/1.T4000
- M. McGilvray, L.J. Doherty, R.G. Morgan, and D.E. Gildfind, AIAA Paper No. 2015-3543 (2015). doi: 10.2514/6.2015-3545
- H. Wei, R.G. Morgan, and T.J. McIntyre, AIAA Paper No. 2017-4531 (2017). https://doi.org/10.2514/6.2017-4531
- L.B. Ibragimova, A.L. Sergievskaya, V.Yu. Levashov, O.P. Shatalov, Yu.V. Tunik, and I.E. Zabelinskii, J. Chem. Phys. 139, 034317 (2013). https://doi.org/10.1063/1.4813070
- M.A. Kotov, P.V. Kozlov, G.Ya. Gerasimov et al., Rus. J. Phys. Chem. B 16, 655 (2022).
- A.M. Tereza, P.V. Kozlov, G.Ya. Gerasimov, V.Yu. Levashov, I.E. Zabelinsky, and N.G. Bykova, Acta Astronaut. 204, 705 (2023). https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2022.11.001
- N.G. Bykova, Zabelinsky I.E., P.V. Kozlov, G.Ya. Gerasimov, and V.Yu. Levashov, Rus. J. Phys. Chem. B 17, 1152 (2023).
- Y.V. Stupochenko, S.A. Losev, and A.I. Osipov, Relaxation in Shock Waves (Springer, New York, 1967).
- W. Lochte-Holtgreven, Plasma Diagnostics (Willey, New York, 1968).
- Y. B. Zel’dovich and Y. P. Raizer, Physics of Shock Waves and High Temperature Hydrodynamic Phenomena, 3rd ed. (Dover Publ., New York, 2002).
- A. Lemal, S. Nomura, and K. Fujita K., Hypersonic Meteoroid Entry Physics. Ed. by G. Colonna, M. Capitelli, and A. Laricchiuta (IOP Publ., Bristol, 2019). P. 9–1.
- H.D. Weymann, Phys. Fluids. 12, 1193 (1969). https://doi.org/10.1063/1.1692651
- M. Kim, A. Gülhan, and I.D. Boyd, J. Thermophys. Heat Transf. 26, 244 (2012). https://doi.org/10.2514/1.T3716
- M.A. Kotov, P.V. Kozlov, K.Yu. Osipenko et al., Rus. J. Phys. Chem. B 17, 1160 (2023).
- M.B. Zheleznyak, A.Kh. Mnatsakanyan, and S.V. Sizykh, High Temp. 20, 357 (1982).
- G.W. Penney and G.T. Hummert, J. Appl. Phys. 41, 572 (1970). https://doi.org/10.1063/1.1658715
- G.V. Naidis, Plasma Sources Sci. Technol. 15, 253 (2006). https://doi.org/10.1088/0963-0252/15/2/010
- M. Jiang, Y. Li, H. Wang, P. Zhong, and C. Liu, Phys. Plasmas. 25, 012127 (2018). https://doi.org/10.1063/1.5019478
- V.A. Gorelov, M.K. Gladyshev, A.Y. Kireev, and I.V. Yegorov, J. Thermophys. Heat Transf. 12, 172 (1998).
- A.S. Dikalyuk and S.T. Surzhikov, Fluid Dynam. 48, 123 (2013). https://doi.org/10.2514/2.6342
- H. Katsurayama, A. Matsuda, and T. Abe, AIAA Paper № 2007-4552 (2007). https://doi.org/ 10.2514/6.2007-4552
- B.E. Cherrington, Plasma Chem. Plasma Process. 2, 113 (1982). https://doi.org/10.1007/BF00633129
- B.V. Alekseev and V.A. Kotelnikov, Probe method for plasma diagnostics (Energoatomizdat, Moscow, 1988).
- V.I. Demidov, N.B. Kolokolov N.B., and A.A. Kudryavtsev, Probe methods for studying low-temperature plasma (Energoatomizdat, Moscow, 1996).
- P.M. Bryant, Plasma Sources Sci. Technol. 18, 014013 (2009). https://doi.org/10.1088/0963-0252/18/1/014013
- A.P. Ershov, Langmuir electrical probe method (MSU Press, Moscow, 2007).
- V.I. Demidov, S.V. Ratynskaia, and K. Rypdal, Rev. Sci. Instrum. 73, 3409 (2002). https://doi.org/10.1063/1.1505099
- R.L. Merlino, Am. J. Phys. 75, 1078 (2007). https://doi.org/ 10.1119/1.2772282
- S.A. Stanley and L.A. Carlson, J. Spacecr. Rockets 29, 190 (1992). https://doi.org/10.2514/3.26334
- C.O. Johnson, A. Mazaheri, G. Gnotto et al., AIAA Paper № 2011-3145 (2011). https://doi.org/10.2514/6.2011-3145
- S. Nomura, T. Kawakami, and K. Fujita, J. Ther mophys. Heat Transf. 35, 518 (2021). https://doi.org/10.2514/1.T6057
- V.A. Gorelov, L.A. Kildiushova, and V.M. Chernyshov, TsAGI Sci. Notes 8 (6), 49 (1977).
- K. Fujita, S. Sato, T. Abe, and A. Matsuda, AIAA Paper № 2001-2765 (2001). https://doi.org/10.2514/6.2001-2765
- V.A. Gorelov, L.A. Kildiushova, and V.M. Chernyshov, High Temp. 21, 449 (1983).
- R.H. Kirchhoff, Е.W. Peterson, and L. Talbot, AIAA J. 9, 1686 (1971). https://doi.org/10.2514/3.49974
- G.N. Zalogin, V.V. Lunev, and Y.A. Plastinin, Fluid Dyn. 15, 85 (1980).
- S. Wang, J.P. Cui, B.C. Fan, et al., Shock waves. Ed. by Z. Jiang (Springer, Berlin, 2005). P. 269.
- P.J. Ryan, J.W. Bradley, and M. D. Bowden, Phys. Plasmas. 26, 040702 (2019). https://doi.org/10.1063/1.5094602
- P.A. Vlasov, D.I. Mikhailov, I.L. Pankrat’eva, and V.A. Polyanskii, Fluid Dyn. 55, 735 (2020).
- K.K.N. Anbuselvan, V. Anand, Y. Krishna, and M.G. Rao, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf. 272, 107744 (2021). https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2021.107744
- N. Konjević, M. Ivković, and N. Sakan, Spectrochim. Acta Part B. 76, 16 (2012). https://doi.org/10.1016/j.sab.2012.06.026
- K.-B. Chai and D.-H. Kwon, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transf. 227, 135 (2019). https://doi.org/10.1016/j.jqsrt.2019.02.015
- P.V. Kozlov, I.E. Zabelinsky, N.G. Bykova, G.Ya. Gerasimov, V.Yu. Levashov, Yu.V. Tunik, Acta Astronaut. 194, 461 (2022). https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2021.10.032
- M.A. Gigosos and V. Cardeñoso, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 29, 4795 (1996). https://doi.org/10.1088/0953-4075/29/20/029
- M.A. Gigosos, M.A. Gonzalez, and V. Cardeñoso, Spectrochim. Acta Part B: Atom. Spectrosc. 58, 1489 (2003). https://doi.org/10.1016/S0584-8547(03)00097-1
- K. Fujita, S. Sato, T. Abe, and H. Otsu, J. Thermophys. Heat Transf. 17, 210 (2003). https://doi.org/10.2514/2.6753
- G. Yamada, AIAA J. 60, 5645 (2022). https://doi.org/10.2514/1.J061470
- B.A. Cruden, J. Thermophys. Heat Transf. 26, 222 (2012). https://doi.org/10.2514/1.T3796
- Y. Li, S. Wang, C.L. Strand, and R.K. Hanson, Plasma Sources Sci. Technol. 30, 025007 (2021). https://doi.org/10.1088/1361-6595/abdd12
- H. Griem, Spectral line broadening by plasmas (Academic Press: New York, 1974).
- Y. Li, S. Wang, C.L. Strand, and R.K. Hanson, J. Phys. Chem. A. 124, 3687 (2020). https://doi.org/10.1021/acs.jpca.0c00466
- N.Q. Minesi, A.P. Nair, M.O. Richmond, N.M. Kuenning, C.C. Jelloian, and R.M. Spearrin, Appl. Opt. 62, 782 (2023). https://doi.org/10.1364/AO.479155
- K.E. Evdokimov, M.E. Konischev, V.F. Pichugin, and Z. Sun, Resource-Efficient Technol. 3, 187 (2017). https://doi.org/10.1016/j.reffit.2017.04.002
- K. Lin, A. Nezu, and H. Akatsuka, Jpn. J. Appl. Phys. 61, 116001 (2022). https://doi.org/10.35848/1347-4065/ac88ac
- Y.-F. Wang and X.-M. Zhu, Spectrochim. Acta Part B. 208, 106777 (2023). https://doi.org/ 10.1016/j.sab.2023.106777
- M. A. Heald and C. B. Wharton, Plasma diagnostics with microwaves (Wiley: New York, 1965).
- V.E. Golant, Microwave methods for plasma research (Nauka: Moscow, 1968).
- L.A. Dushin, Microwave interferometers for measuring plasma density in a pulsed gas discharge (Atomizdat: Moscow, 1973).
- S.-H. Seo, Fusion Eng. Design. 190, 113501 (2023). https://doi.org/10.1016/j.fusengdes.2023.113501
- M.A. Cappelli, N. Gascon, and W.A. Hargus, Jr., J. Phys. D: Appl. Phys. 39, 4582 (2006). https://doi.org/10.1088/0022-3727/39/21/013
- K. Dittmann, C. Kullig, and J. Meichsner, Plasma Sources Sci. Technol. 21, 024001 (2012). https://doi.org/10.1088/0963-0252/21/2/024001
- O. Tudisco, A.L. Fabris, C. Falcetta, et al., Rev. Sci. Instrum. 84, 033505 (2013). https://doi.org/10.1063/1.4797470
- S.-H. Seo, J. Park, H.M. Wi, et al., Rev. Sci. Instrum. 84, 084702 (2013). https://doi.org/10.1063/1.4817305
- A.V. Sidorov, O.L. Krutkin, A.B. Altukhov, et al., Tech. Phys. 65, 553 (2022).
- P.A. Vlasov, Yu.K. Karasevich, I.L. Pankrat’eva, and V.A. Polyansky, Phys.-Chem. Kinet. Gaz. Dynam. 6 (1), 1 (2008).
- I.I. Glass and W.S. Liu, J. Fluid Mech. 84, 55 (1978). https://doi.org/10.1017/S002211207800004X
- M.G. Kapper and J.-L. Cambier, J. Appl. Phys. 109, 113308 (2011). https://doi.org/10.1063/1.3585688
- G.L. Agafonov, D.I. Mikhailov, V.N. Smirnov, A.M. Tereza, P.A. Vlasov, and I.V. Zhiltsova, Combust. Sci. Technol. 188, 1815 (2016). https://doi.org/10.1080/00102202.2016.1211861
- N. Toujani, A.B.S. Alquaity, and A. Farooq, Rev. Sci. Instrum. 90, 054706 (2019). https://doi.org/10.1063/1.5086854
- J.S. Lim, Y.J. Hong, B. Ghimire, J. Choi, S. Mumtaz, and E.H. Choi, Results Phys. 20, 103693 (2021). https://doi.org/10.1016/j.rinp.2020.103693
- O.B. Ananin, O.A. Bashutin, G.S. Bogdanov, et al., Phys. Procedia. 71, 142 (2015). https://doi.org/10.1016/j.phpro.2015.08.335
- D.V. Yanin, A.V. Kostrov, A.I. Smirnov, A.V. Stri kovsky, Tech. Phys. 53, 129 (2008).
- S.K. Karkari, A.R. Ellingboe, C. Gaman, Appl. Phys. Lett. 93, 071501 (2008). https://doi.org/10.1063/1.2971236
- A.G. Galka, M.S. Malyshev, and A.V. Kostrov, Radiophys. Quantum El. 65, 555 (2022). https://doi.org/10.1007/s11141-023-10236-0
- V.A. Gorelov and A.Yu. Kireev, Phys.-Chem. Kinet. Gaz. Dynam. 15 (1), 1 (2014).
- J.M.Palomares, S.Hübner, E.A.D.Carbone, et al., Spectrochim. Acta Part B. 73, 39 (2012). https://doi.org/10.1016/j.sab.2012.07.005
- S.H. Zaidi, Z. Tang, A.P. Yalin, P. Barker, and R.B. Miles, AIAA J. 40, 1087 (2002). https://doi.org/10.2514/2.1756
- K. Muraoka and A. Kono, J. Phys. D: Appl. Phys. 44, 043001 (2011). https://doi.org/10.1088/0022-3727/44/4/043001
- D.H. Fronda, J.S. Ross, L. Divol, and S.H. Glenzer, Rev. Sci. Instrum. 77, 10E522 (2006). https://doi.org/10.1063/1.2336451
- H. Zhang, J.J. Pilgram, C.G. Constantin, et al., Instruments. 7(3), 25 (2023). https://doi.org/10.3390/instruments7030025
- K. Dzierżga, A.Mendys, and B. Pokrzywka, Spectro chim. Acta Part B. 98, 76 (2014). https://doi.org/10.1016/j.sab.2014.03.010
- A.M. Roettgen, I. Shkurenkov, W.R. Lempert, and I.V. Adamovich, AIAA Paper № 2015-1829 (2015). https://doi.org/10.2514/6.2015-1829
Supplementary files