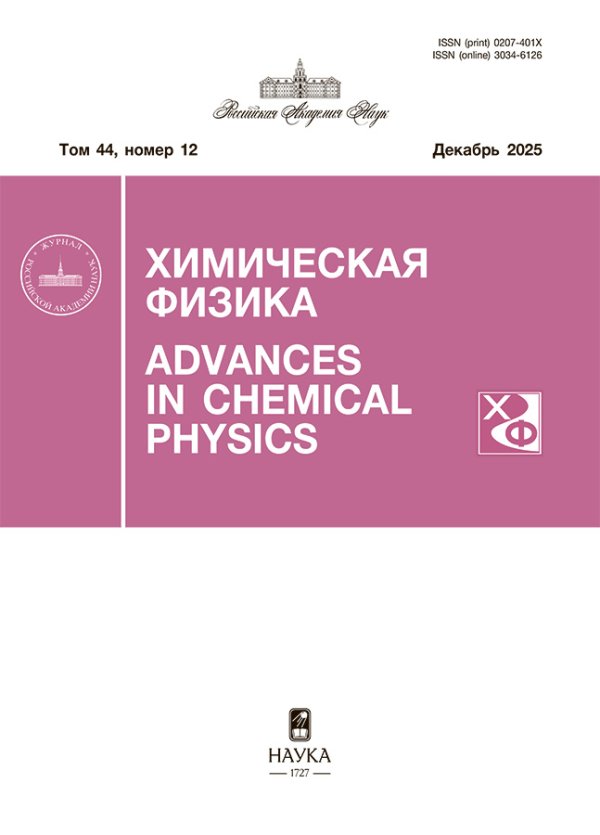Statistical analysis of flux enhancements of energetic electrons in the low-latitudinal ionosphere according to the data from the NOAA/POES and MetOp satellites from 1998 to 2022 years
- Authors: Golubkov M.G.1, Suvorova A.V.2, Dmitriev A.V.2, Golubkov G.V.1,3
-
Affiliations:
- Semenov Federal Research Center for Chemical Physics, Russian Academy of Sciences
- Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University
- National Research Center “Kurchatov Institute”
- Issue: Vol 43, No 6 (2024)
- Pages: 105-116
- Section: Химическая физика атмосферных явлений
- URL: https://bakhtiniada.ru/0207-401X/article/view/273108
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0207401X24060117
- ID: 273108
Cite item
Full Text
Abstract
The intense precipitation of energetic electrons from the Earth’s radiation belt (ERB) is one of the most important sources of ionization in the ionosphere and atmosphere. We have carried out a large-scale statistical analysis of data from continuous low-orbit satellite observations of solar-cycle variations in the flux enhancements of the ERB electrons with energy >30 keV at an altitude of 850 km, acquired from the NOAA/POES and MetOp fleet in the interval from 1998 to 2022. We have found and described basic features of artificial failures in the spaceborn database with high-time resolution measurements in the interval from 2014 to 2022. Data correction was done. It was shown that the annual number of days with the electron flux enhancements increases rapidly within three years after the solar-cycle maximum and reaches its greatest value near the middle of the declining phase of solar activity. Then the event occurrence begins to decrease within an 8-year interval, including the minimum, rising and maximum phases of the solar cycle. The minimum occurrence of the events is achieved at minimum solar activity.
Full Text
1. ВВЕДЕНИЕ
Проникновение частиц радиационного пояса Земли (РПЗ) в ионосферу и верхнюю атмосферу приводит к возбуждению и ионизации нейтральных атомов и молекул атмосферного газа [1, 2]. Вследствие этого, в частности, наблюдаются неконтролируемые спорадические нарушения в работе глобальных навигационных спутниковых систем [3]. Химические и физические процессы в области высоких широт детально исследовались экспериментально и теоретически на протяжении нескольких десятилетий, что привело к созданию современных моделей, описывающих изменчивость химического состава, динамику плазмы и структуры слоев верхней атмосферы, термосферы и ионосферы в зависимости от геомагнитной активности [4, 5].
Относительно новое направление исследований связано с аналогичными процессами в области низких широт. Потоки электронов РПЗ с энергией Ee > 30 кэВ периодически проникают в низкоширотную ионосферу вне зоны Южно-Атлантической аномалии (ЮАА) и вызывают дополнительную ионизацию F-слоя ионосферы. Значительный эффект наблюдается в виде повышения полного электронного содержания и обнаруживается на глобальных картах ионизации как положительная ионосферная буря [6–9]. Измерения локальной концентрации положительных ионов с помощью спутника C/NOFS позволили найти прямое доказательство возникновения ионизации под воздействием проникающих потоков электронов [10]. Однако вплоть до настоящего времени результаты исследований в этом направлении не могут ответить на некоторые принципиальные вопросы, что необходимо для успешного описания этих важных эффектов современными моделями [8, 9].
На сегодняшний день было обнаружено, что на низких широтах и высотах в несколько сотен километров, т.е. ниже внутреннего РПЗ, наблюдаются спорадические интенсивные потоки энергичных электронов с энергиями 10 < Ee <300 кэВ [6, 7]. В этой области электроны являются квазизахваченными, поскольку, дрейфуя поперек геомагнитного поля на восток, они менее чем за 20 ч достигают ЮАА, где опускаются на высоты ниже 100 км, что приводит к их термализации из-за потерь энергии на ионизацию. Источником таких электронов является внутренний РПЗ [11]. Механизм их переноса из РПЗ на низкие высоты до конца не исследован. Таким образом, энергичные электроны на низких широтах способны проникать в ионосферу и верхнюю атмосферу практически на любых долготах, а не только в области ЮАА.
Цель настоящей работы заключалась в проведении масштабного статистического анализа данных непрерывных низкоорбитальных спутниковых наблюдений солнечно-циклической вариации интенсивности потоков электронов РПЗ с энергией Ee > 30 кэВ на высоте 850 км, полученных в период с 1998 по 2022 г. В ходе исследования предполагалось также определить характер сбоев в массивах данных спутниковых измерений с высоким временны́м разрешением, полученных с 2014 по 2022 г., и провести их соответствующую коррекцию.
2. ДАННЫЕ СПУТНИКОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
Одной из задач низкоорбитальных полярных спутников NOAA/POES и MetOp является мониторинг радиационных условий под РПЗ. Непрерывные наблюдения однотипными детекторами [12] начались еще в 1998 г. Указанные спутники имеют солнечно-синхронную орбиту с наклонением 98° на высоте около 850 км, что позволяет им проводить измерения потоков заряженных частиц в фиксированном диапазоне местного времени (LT). В табл. 1 приведены периоды времени функционирования спутников и диапазоны местного времени. Несколько лет спутники NOAA/POES двигались преимущественно в трех орбитальных плоскостях, покрывающих временны́е диапазоны: терминатора (6–18 LT), утро–вечер (9–21 LT) и ночь–день (2–14 LT). К настоящему времени число плоскостей сократилось до двух: терминатора (7–19 LT) и утро–вечер (9–21 LT). Три европейских спутника серии MetOp двигаются в плоскости утро–вечер (9–21 LT).
Таблица 1. Доступность данных со спутников NOAA/POES и MetOp
Спутник | Обозначение | Интервал, годы | Местное время (LT), ч |
NOAA-15 | P5 | 1998–2019 | 6–18 → 7–19 |
NOAA-16 | P6 | 2001–2014 | 2–14 → 9–21 |
NOAA-17 | P7 | 2002–2013 | 9–21 → 7–19 |
NOAA-18 | P8 | 2005–2022 | 2–14 → 9–21 |
NOAA-19 | P9 | 2009–2022 | 2–14 → 7–19 |
MetOp-A | P1 | 2014–2022 | 9–21 |
MetOp-B | P2 | 2006–2021 | 9–21 |
MetOp-C | P3 | 2019–2022 | 9–21 |
На спутниках NOAA/POES и MetOp установлены идентичные детекторы для регистрации энергичных электронов и протонов в широком энергетическом диапазоне: от одного эВ до сотен МэВ. Пары детекторов с ортогональной ориентацией позволяют одновременно измерять интенсивности потоков квазизахваченных и высыпающихся частиц РПЗ. В нашем случае использовался детектор электронов, направленный в зенит и проводящий измерения в интегральном канале Ee > 30 кэВ. Таким образом, он измерял интенсивность потоков квазизахваченных электронов на низких широтах.
Массив данных, накопленный спутниками POES и MetOp в период с 1998 по 2022 год, включает в себя 23-й солнечный цикл (с 1998 по 2009 г.), 24-й солнечный цикл (с 2010 по 2019 г.) и фазу роста 25-го солнечного цикла вплоть до максимума (с 2019 по 2022 г.). Данные об интенсивности потоков энергичных электронов сравнивались с вариацией солнечной активности, которая характеризуется числом солнечных пятен. Сведения о них были получены от обсерватории WDC-SILSO (Королевская обсерватория Бельгии, Брюссель).
3. МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ
Следует отметить, что до 2014 г. информация со спутников предоставлялась в открытой базе данных в текстовом формате с усреднением по времени в 16 с и очищенная от сбоев. Примерно с 2013 г. появилась более полная информация в бинарном формате net-cdf, содержащем записи измерений с высоким временны́м разрешением (около 2 с) [13], но уже без предварительной фильтрации многочисленных сбоев. Часть из них мы идентифицировали как систематические и поэтому исключили из обработки, так как они могли исказить результаты статистического анализа из-за схожести с реальными возрастаниями потоков электронов. Примеры временных профилей систематических сбоев, на основе которых был определен подходящий критерий их автоматического определения, обсуждаются далее в этом разделе.
3.1. Критерий отбора электронных событий в верхней ионосфере
Очищенные от систематических сбоев данные были использованы для построения географических карт интенсивностей потоков частиц в течение суток, по которым проводился отбор событий с проникновением электронов с энергией Ee > 30 кэВ в область квазизахвата (на высоты около 850 км). С помощью географических карт определялись период времени и дни, когда наблюдались сильные возрастания потоков, превышающие фон на несколько порядков. При этом фоновым считался поток, равный 102 (см² ‧ с ‧ ср)-1.
Методика построения карт интенсивностей заключалась в определении максимальных потоков электронов с энергиями Ee > 30 кэВ в пространственных ячейках 3° × 2° географической долготы и широты, соответственно, для заданного интервала времени, например часы или сутки [14, 15]. Методика, включающая определение максимального потока, имеет очевидное преимущество над процедурой усреднения. Это связано с тем, что при усреднении данных по сотне и более витков нескольких спутников поиск возрастаний потока на низких широтах, включая сбои, становится малоэффективным, поскольку увеличения потоков имеют ограниченную длительность (минуты) и происходят относительно редко. При этом в основном преобладают фоновые потоки, наблюдаемые на длительных интервалах времени (сутки). При усреднении на интервале более одного дня картинка сглаживается, и возрастания потоков становятся неотличимыми от фонового потока. Поэтому анализ следует проводить, используя географические распределения максимальных потоков электронов, а далее необходимо осуществлять визуальную сортировку и отбор событий.
В качестве событий далее подразумеваются все возрастания потока квазизахваченных электронов, наблюдавшиеся в течение суток, т.е. учитывается количество дней, когда интенсивность потока превышала порог 104 (см² ‧ с ‧ ср)-1 на широтах до 30° вне зоны ЮАА. Среди прочих отбирались только Tₑ события, во временно́м профиле которых было хотя бы одно возрастание типа “купола”, т.е. с максимумом в районе магнитного экватора (см. рис. 1). В подавляющем большинстве случаев такие события имели интенсивность, превышающую установленный порог, и длительность около 10 мин. В течение суток разными спутниками могло наблюдаться несколько возрастаний на разных долготах. Однако это считалось как одно событие. Иногда этот процесс мог длиться несколько суток. Тогда это учитывалось как несколько событий [14]. Таким образом, для каждого года определялась частота наблюдений (в днях) возрастаний потоков с интенсивностью, превышающей 104 (см² ‧ с ‧ ср)-1, а далее проводился анализ вариации частоты в зависимости от изменения солнечной активности.
3.2. Критерий автоматического определения систематического сбоя данных
Географические карты интенсивностей потоков частиц помогают легко определить наличие каких-либо отклонений от общепринятой модели, в частности аномальных увеличений сигнала на низких широтах в верхней ионосфере. К таким увеличениям могли приводить не только возрастания потоков электронов, но и сбои в данных, которые необходимо отфильтровать.
Проведенный анализ характеров сбоев на примере электронов с энергиями Ee > 30 кэВ позволил нам разделить их условно на две категории по продолжительности: короткие с длительностью в несколько секунд и достаточно длинные, соответствующие временны́м интервалам в 10–15 мин. Короткие случайные одиночные увеличения амплитуды сигнала не влияли на результаты исследования, и их можно было игнорировать, так как в методике определения событий с проникновением электронов учитываются только длительные возрастания электронных потоков (в несколько минут) вблизи экватора. Длительные интервалы сбоев в спутниковых данных наблюдались исключительно вблизи экватора и были квазипериодическими (приблизительно один раз в 6–7 дней), что указывало на их систематический характер.
Для иллюстрации систематических сбоев на рис. 1 приведены географические карты, в которых использована исходная информация из оригинальной базы данных по потокам электронов с энергией Ee > 30 кэВ за 2014 и 2022 г. Фоновые потоки показаны в сине-голубой гамме, а возрастающие сверхфоновые – в цветах от зеленого до красного. На высоких широтах (более 50º), где силовые линии почти вертикальны, детектор, направленный в зенит (0°), регистрирует электроны, высыпающиеся из внешней зоны РПЗ в конус потерь и проникающие на высоты нижней ионосферы и верхней атмосферы. Поэтому проекция внешнего РПЗ на высоких широтах представляется в виде полос, расположенных симметрично в северном и южном полушариях. На низких широтах, где силовые линии магнитного поля расположены почти горизонтально, детектор регистрирует квазизахваченные частицы, которые быстро термализуются в верхних слоях атмосферы: во время азимутального дрейфа на восток их дрейфовые оболочки опускаются на высоты плотной атмосферы в области ЮАА. Проекция внутреннего РПЗ на высоты верхней ионосферы представляется крупным пятном в области ЮАА в секторе долгот от –100° до 0°. Отметим, что на низких широтах измерения со сбойными данными перекрываются с реальными данными о возрастании потоков квазизахваченных электронов, инжектированных из внутреннего РПЗ.
Накопленная за один год статистика показывает, что в зоне квазизахвата вне области ЮАА наблюдается высокая интенсивность потоков электронов. Однако следует иметь в виду, что это картина, полученная за длительный период времени. В реальности квазизахваченные электроны, инжектированные из внутреннего РПЗ в ионосферу, не формируют постоянную структуру в виде низкоширотного пояса, поскольку за время меньше суток они успевают продрейфовать в область ЮАА [1]. Заметим, что распределение по широте этих короткоживущих потоков должно быть симметричным относительно магнитного экватора, поскольку движение заряженных частиц упорядочивается дипольным магнитным полем. Однако в зоне квазизахвата отчетливо наблюдаются два типа структур: симметричная и несимметричная (см. рис. 1).
Рис. 1. Карты пространственного распределения максимальных интенсивностей потоков электронов с энергией Ee > 30 кэВ, высыпающихся из РПЗ, построенные в географических координатах по данным измерений спутников NOAA/POES и MetOp на высоте 850 км за один год: а – 2014 г.; б – 2022 г. Магнитный экватор показан кривой черного цвета.
Если симметричная структура безусловно связана с инжекциями электронов, то несимметричная не имеет отношения к потокам заряженных частиц. Во-первых, у несимметричных структур области повышенной интенсивности сигнала расположены либо к северу, либо к югу от экватора. Во-вторых, они состояли из двух или трех кластеров на разных долготах в 2014 и 2022 г. (см. рис. 1). В-третьих, максимальная интенсивность во всех пространственных ячейках этих кластеров имеет фиксированое значение (постоянный цвет без других оттенков), что нехарактерно для реально наблюдаемых потоков частиц [1]. Детальный анализ временны́х профилей сигналов показал, что несимметричные по широте структуры сформированы длительными сбоями в данных. Рассмотрим далее несколько примеров.
Рис. 2. Пример определения полезного и сигналов сбоя по данным спутниковых измерений: а – 3-суточная карта пространственного распределения максимальных интенсивностей потоков электронов с энергией Ee > 30 кэВ; б – временной профиль полезного сигнала; в – временно́й профиль сигнала сбоя. Цветовая шкала интенсивностей аналогична шкале на рис. 1.
На рис. 2а показана карта распределения максимальной интенсивности потока электронов с энергией Ee > 30 кэВ, построенная по данным с пяти спутников за интервал времени, равный 3 сут. На низких широтах, в зоне квазизахвата, хорошо видны два возрастания интенсивности (отдельные треки, пересекающие экватор) на долготах 90° и –170°, которые были зарегистрированы разными спутниками. Временны́е профили этих возрастаний показаны на рис. 2б и 2в. Очевидно принципиальное отличие временно́го профиля измерений реальной интенсивности электронов (см. рис. 2б) от длительного сбоя в данных (см. рис. 2в). Во время пролета спутника через зону квазизахвата (около 15 мин) сигналы от детектора, регистрирующего возрастающий поток частиц, формируют плавный куполообразный профиль с максимумом на магнитном экваторе (рис. 2б). В то же время сигнал на рис. 2в выглядит как цуг импульсов постоянной амплитуды, который, по-видимому, вырабатывается блоком электроники прибора.
Рис. 3. Пример наложения сигналов сбоя блока электроники на реальный сигнал от детектора, фиксирующий возрастание интенсивности потока электронов с энергией Ee > 30 кэВ в зоне квазизахвата.
На рис. 3 представлен другой пример временно́го профиля, сформированного одновременно от реальных сигналов, поступающих от детектора, и импульсов блока электроники данного прибора. Наложение сигналов сбоя на измеренные сигналы осуществляется за счет разной частоты опроса детектора и импульса от блока электроники.
Рис. 4. Пример временных разверток для сбойных интервалов, зарегистрированных полупроводниковыми детекторами спутника MetOp-A, измеряющими интенсивности потоков заряженных частиц с энергией Ee > 30 кэВ: а – поток электронов, ориентация детектора в зенит (q = 0°); б – поток электронов, ориентация детектора q = 90°; в – поток протонов, ориентация детектора q = 0°.
Комплекс научной аппаратуры, установленный на каждом спутнике, включал несколько приборов с разными типами детекторов, которые были предназначены для измерения потоков заряженных частиц в различных диапазонах энергии (от плазмы до высокоэнергичных частиц) и с разных направлений. Сравнение данных измерений полупроводниковых и сцинтилляционных детекторов во время низкоширотного пролета спутника MetOp-A представлено на рис. 4 и 5. Так, на рис. 4 приведены примеры сбоев для приборов с полупроводниковыми детекторами, ориентированными в двух направлениях (в зенит при q = 0° и перпендикулярно при q = 90°) и предназначенными для регистрации потоков электронов и протонов с энергией Ee > 30 кэВ.
Рис. 5. Пример временны́х разверток для интервалов сбоя, зарегистрированных полупроводниковыми и сцинтилляционными детекторами спутника MetOp-A, измеряющими интенсивности потоков протонов: а – Ep > 6 МэВ, ориентация детектора q = 0°; б – Ep > 6 МэВ, ориентация детектора q = 90°; в – Ep > 25 МэВ, всенаправленный поток.
На рис. 5 изображены временны́е профили сигналов, полученных с полупроводниковых и сцинтилляционного детекторов, измеряющих потоки протонов с энергиями Ep > 6 МэВ (в двух направлениях: q = 0° и q = 90°) и Ep > 25 МэВ (всенаправленный поток). Из приведенных данных видно, что все приборы на спутнике практически одновременно фиксируют начало сбоя на низких широтах. То есть, независимо от конструкции прибора и типа детектора, сбой данных на низких широтах фиксируется во всем комплексе аппаратуры, что свидетельствует, с одной стороны, об отсутствии связи с каким-либо природным процессом, а с другой – о его неслучайном происхождении.
Как видно из приведенных примеров, в каждом из детекторов максимальная амплитуда в интервалах сбоев всегда оказывалась постоянной. Чтобы исключить сбойные интервалы для потоков электронов в канале с энергией Ee > 30 кэВ достаточно было установить контрольный порог интенсивности в пределах 105.231±0.001 (см² ‧ с ‧ ср)-1. При этом небольшая часть полезной информации терялась (менее минуты по времени пролета спутника или до двух пространственных ячеек), но на выборку событий с инжекциями электронов длительностью в несколько минут это не влияло.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Как уже упоминалось выше (см. п. 3.1), для анализа солнечно-циклической вариации для каждого года определялось количество суток с возрастаниями потоков. В настоящей работе мы обновили результаты предыдущего статистического анализа [15], добавив измерения во время фазы роста 25-го солнечного цикла (период с 2020 по 2022 г.).
Рис. 6. Статистический анализ солнечно-циклической вариации потоков энергичных электронов по данным низкоорбитальных спутников NOAA/POES и MetOp за период с 1998 по 2022 г.: штриховая кривая – среднегодовые частоты возрастания интенсивности потока электронов с Ee > 30 кэВ в экваториальной ионосфере; сплошная кривая – среднегодовое число солнечных пятен (число Вольфа), усредненное с шагом в 1 месяц.
На рис. 6 представлены результаты статистического анализа солнечно-циклической вариации потоков энергичных электронов по данным низкоорбитальных спутников NOAA/POES и MetOp и чисел солнечных пятен (чисел Вольфа) за период с 1998 по 2022 г. Мощность солнечного цикла определяется по максимальному числу Вольфа за 11-летний период. Заметим, что два последних солнечных цикла: 24-й и 25-й, уступают по мощности 23-му циклу. Исследуемый период начинается с середины фазы роста 23-го цикла (1998–2000 гг.), во время которой было обнаружено немного событий (менее 10 в год). С учетом того, что в это время измерения проводились только одним спутником (см. табл. 1), количество событий, по-видимому, занижено. Для остального интервала (2000–2022 гг.) достоверность наблюдаемой солнечно-циклической закономерности хорошо обеспечена статистически.
Из сравнения динамики потоков на фазах роста 24-го и 25-го слабых солнечных циклов видно, что количество событий уменьшается ежегодно примерно с 50 до 30–40. В максимальной фазе циклов (периоды 2000–2001 гг. и 2013–2014 гг.) частота событий продолжает падать, достигая минимального числа событий – около 10. Такая же тенденция отчетливо прослеживается и вблизи максимума 25-го цикла (в 2022 г.). С началом фазы спада 23-го и 24-го циклов (2002 и 2014 гг. соответственно) частота событий снова быстро растет в течение 3-х лет, достигая наибольших значений приблизительно после середины фазы спада (2005–2006 гг. и 2017 г.), а затем начинает заметно уменьшаться на 8-летнем интервале, включая фазы минимума, роста и максимума циклов. При этом в слабом 24-м цикле (2017 г.) наблюдается абсолютный максимум количества событий за весь 25-летний период.
Ранее в работе [1] было показано, что на фазе спада мощного 23-го и слабого 24-го солнечных циклов интенсивности потоков электронов достигали величин 107 (см² ‧ с ‧ ср)-1. При этом в более мощном 23-м цикле таких случаев с экстремально высокими потоками было значительно больше. То есть события на фазе спада мощного 23-го цикла происходили реже, но интенсивность потоков заряженных частиц в среднем была выше, чем у событий в слабом 24-м цикле. Согласно новым данным по квазизахваченным электронам на фазах роста и максимума 24-го и 25-го слабых циклов характеристики возрастаний потоков близки по величине: интенсивность потоков заряженных частиц в среднем составила 5 · 104 (см² ‧ с ‧ ср)-1 и, как правило, не превышала 5 · 105 (см² ‧ с ‧ ср)-1.
Влияние солнечной активности на проникновение в низкоширотную ионосферу электронов с энергией Ee > 30 кэВ рассматривалось ранее в работах [1, 10, 15–17]. Накопление статистики позволяет сделать более определенные выводы для фазы роста солнечных циклов. В целом 25-летние спутниковые измерения позволили выявить следующие закономерности в солнечно-циклической вариации электронных потоков:
- количество событий увеличивается в течение первых 3 лет фазы спада солнечной активности и уменьшается на протяжении последующих 8 лет;
- усредненная за цикл интенсивность потоков коррелирует с мощностью солнечного цикла;
- мощность солнечного цикла не оказывает существенного влияния на количество событий.
Уменьшение интенсивности потоков в последних двух циклах происходило вследствие того, что источники электронов РПЗ были заметно ослаблены [18]. В то же время количество событий в слабом 24-м цикле увеличилось. В основном это произошло за счет преобладания одиночных возрастаний потока с невысокой интенсивностью. Т.е. инжекции электронов в ионосферу, хоть и не столь интенсивные, продолжались, даже когда солнечные драйверы и, соответственно, геомагнитная активность ослабли. Последнее обстоятельство указывает на изменение внутренних условий, связанных с геомагнитным полем Земли на низких широтах, которые подробно обсуждались в работе [18].
Исследования, проведенные в работе [11], показали, что увеличение интенсивности и частоты наблюдения потоков энергичных электронов над Тихим океаном можно объяснить инжекцией частиц в верхнюю ионосферу из внутреннего РПЗ. Анализ распределения квазизахваченных электронов на низких широтах на высоте 850 км дал надежное подтверждение механизма радиального переноса энергичных электронов из РПЗ по направлению к Земле с последующим азимутальным дрейфом на восток. Мы полагаем, что основным агентом в этом механизме является индуцированное электрическое поле в послеполуночном секторе, поскольку именно в интервале 2.00–6.00 LT обнаружена наибольшая вероятность инжекций электронов [10, 14, 15]. По грубой оценке, приведенной в работе [7], для этого требуется поле напряженностью не менее 2 мВ/м.
В работе [19] авторы провели моделирование наблюдаемой инжекции во время сильной магнитной бури, используя упрощенную модель воздействия усиленного конвекционного электрического поля на внутренний РПЗ, и получили величину напряженности поля в 5 мВ/м. Однако вопрос о том, какой электродинамический процесс приводит к появлению достаточно сильных электрических полей с напряженностью несколько мВ/м на высотах менее 2000 км от поверхности Земли, до сих пор остается открытым. Особенно удивительным является факт проникновения электронов на высоты ионосферы в отсутствие магнитных и ионосферных бурь, что часто наблюдается во время фазы минимума солнечного цикла [20]. В этом исследовании было показано, что триггером являются локальные импульсы давления плазмы солнечного ветра, связанные с динамикой форшока перед земной головной ударной волной.
Не менее интересными являются данные, указывающие на явный дефицит количества инжекций электронов во время максимальной фазы солнечных циклов. Проведенный статистический анализ физических параметров солнечного ветра во время трех солнечных циклов (с 20-го по 23-й) [21] показал, что альфвеновское число Маха MA и отношение теплового давления плазмы к давлению магнитного поля, b, имеют точно такую же солнечно-циклическую вариацию, которая практически не зависит от мощности солнечного цикла. Оба параметра антикоррелируют с солнечным циклом: в максимуме цикла MA и b уменьшаются, а в минимуме – увеличиваются. Известно, что MA является одним из ключевых параметров, контролирующих воздействие солнечного ветра на магнитосферу, поскольку геомагнитная активность на высоких широтах растет с уменьшением MA [22]. Последнее означает, что при уменьшении геомагнитной активности проводимость высокоширотной ионосферы на ночной стороне падает, создавая условие для проникновения электрического поля на более низкие широты. Корреляционный анализ, выполненный в работе [17], показал, что между частотой инжекций электронов и этими двумя параметрами солнечного ветра действительно имеется достаточно сильная связь. Этот факт является важным аргументом в пользу механизма проникновения электрического поля с высоких широт на экватор.
Как уже было показано выше, систематические сбои в данных спутников POES и MetOp легко могут быть приняты за реальные возрастания потоков электронов. Идентифицировать их следует по специфическому временно́му профилю и фиксированной амплитуде сигнала. Аномальные возрастания скорости счета детекторов частиц длительностью 6–8 мин были обнаружены также в работе [23] в наблюдениях спутника Метеор-М с 2014 по 2022 г. в том же географическом районе на низких широтах над Тихим океаном. Авторы указанной работы отмечают, что возрастания происходят в энергетических каналах в диапазоне от 100 кэВ до 8 МэВ всех установленных на борту типов детекторов: черенковский и гейгеровские счетчики, полупроводниковые и сцинтилляционные детекторы. Такая интерпретация, подкрепленная соответствующими теоретическими расчетами, сводится к тому, что наблюдаемые возрастания являются высыпаниями электронов из внутреннего РПЗ. При баунс-колебаниях электроны попадают в циклотронный резонанс с радиоизлучением от наземных и/или судовых передатчиков. В свою очередь мы показали, что в случае с космическими аппаратами POES и MetOp систематические сбои в данных имеют инструментальную природу. Ее анализ выходит за рамки данной работы.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Спутниковые наблюдения за системой атмосфера–ионосфера–магнитосфера последних лет показывают, что энергичные электроны РПЗ играют важную роль в процессах, связанных с ионизацией верхней атмосферы и ионосферы на всех широтах. Одним из важнейших результатов в этой области стало получение прямого экспериментального доказательства возникновения ионизации под воздействием проникающих потоков электронов, инжектированных в верхнюю ионосферу вблизи экватора вне ЮАА. Исследования закономерностей в динамике инжектированных потоков электронов помогают найти ответы на вопросы, касающиеся ионосферных бурь, больших флуктуаций ионосферной электронной плотности, а также тестировать современные модели глобальных электродинамических процессов.
В данной работе проведен масштабный статистический анализ данных непрерывных низкоорбитальных спутниковых наблюдений солнечно-циклической вариации возрастания интенсивности потоков электронов РПЗ с энергией Ee > 30 кэВ на высоте 850 км, полученных со спутников NOAA/POES и MetOp в период с 1998 по 2022 г. В ходе исследования установлен и подробно описан характер возможных технических сбоев в массивах данных спутниковых измерений с высоким временны́м разрешением, полученных с 2014 по 2022 г. Проведена соответствующая коррекция данных. Показано, что среднегодовое количество суток с возрастаниями потоков энергичных электронов быстро растет в течение 3 лет после прохождения максимума солнечного цикла и достигает наибольших значений вблизи середины фазы спада солнечной активности. Затем частота событий начинает заметно уменьшаться на 8-летнем интервале, который включает фазы минимума, роста и максимума солнечного цикла. Минимальный уровень достигается в максимуме солнечной активности. Хорошая корреляция между солнечно-циклическими вариациями частоты возрастания потоков электронов и величиной альфвеновского числа Маха MA однозначно указывает на действие механизма проникновения электрического поля с высоких широт на экватор.
Авторы благодарят подразделение Полярных орбитальных космических спутников NOAA/POES и MetOp за предоставление экспериментальных данных о потоках высокоэнергетичных заряженных частиц.
Работа выполнена в рамках госзадания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (тема № 122040500060–4).
About the authors
M. G. Golubkov
Semenov Federal Research Center for Chemical Physics, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: golubkov@chph.ras.ru
Russian Federation, Moscow
A. V. Suvorova
Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University
Email: golubkov@chph.ras.ru
Russian Federation, Moscow
A. V. Dmitriev
Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics, Lomonosov Moscow State University
Email: golubkov@chph.ras.ru
Russian Federation, Moscow
G. V. Golubkov
Semenov Federal Research Center for Chemical Physics, Russian Academy of Sciences; National Research Center “Kurchatov Institute”
Email: golubkov@chph.ras.ru
Russian Federation, Moscow; Moscow
References
- Golubkov G.V., Dmitriev A.V., Suvorova A.V., Golubkov M.G. // Russ. J. Phys. Chem. B 2019. V. 13. P. 874. https://doi.org/10.1134/S1990793119050166
- Frolov V.L., Kulikov Y.Y., Troitsky A.V. // Russ. J. Phys. Chem. B 2022. V. 16. P. 965. https://doi.org/10.1134/S1990793122050190
- Golubkov G.V., Berlin A.A., Dyakov Y.A. et al. // Russ. J. Phys. Chem. B 2023. V. 17. P. 1216. https://doi.org/10.1134/S1990793123050214
- Klimenko M.V., Klimenko V.V., Sukhodolov T.V. et al. // Adv. Space Res. 2023. V. 71. P. 4576. https://doi.org/10.1016/j.asr.2023.01.012
- Bakhmetieva N.V., Zhemyakov I.N. // Russ. J. Phys. Chem. B 2022. V. 16. P. 990. https://doi.org/10.1134/S1990793122050177
- Suvorova A.V., Tsai L.C., Dmitriev A.V. // Planet. Space Sci. 2012. V. 60. P. 363. https://doi.org/10.1016/j.pss.2011.11.001
- Suvorova A.V., Dmitriev A.V., Tsai L.C. et al. // J. Geophys. Res.: Space Phys. 2013. V. 118. P. 4672. https://doi.org/10.1002/jgra.50439
- Suvorova A.V., Huang C.M., Dmitriev A.V. et al. // J. Geophys. Res.: Space Phys. 2016. V. 121. P. 5880.https://doi.org/10.1002/2016JA022622
- Dmitriev A.V., Suvorova A.V., Klimenko M.V. et al. // J. Geophys. Res.: Space Phys. 2017. V. 122. P. 2398. https://doi.org/10.1002/2016JA023260
- Golubkov M.G., Suvorova A.V., Dmitriev A.V., Golubkov G.V. // Russ. J. Phys. Chem. B 2020. V. 14. P. 873. https://doi.org/10.1134/S1990793120050206
- Suvorova A.V., Huang C.M., Matsumoto H. et al. // J. Geophys. Res.: Space Phys. 2014. V. 119. P. 9283. https://doi.org/10.1002/2014JA020349
- Evans D.S., Greer M.S. NOAA Technical Memorandum, Ver. 1.4. Space Environ. Center, Boulder, 2004.
- NOAA/POES Space Environment Monitor [Electronic resource]; https://www.ngdc.noaa.gov/stp/satellite/poes/
- Suvorova A.V., Dmitriev A.V. In: Cyclonic and Geomagnetic Storms: Predicting Factors, Formation and Environmental Impacts, Ed. by V.P. Banks. Nova Sci., New York, 2015. P. 19.
- Suvorova A.V., Geophys J. // Res.: Space Phys. 2017. V. 122. P. 12274. https://doi.org/10.1002/2017JA024556
- Dmitriev A.V., Suvorova A.V., Ghosh S., Golubkov G.V., Golubkov M.G. // Atmosphere. 2022. V. 13. P. 322. https://doi.org/10.3390/atmos13020322
- Suvorova A.V. // Universe. 2023. V. 9. P. 374. https://doi.org/10.3390/universe9080374
- Golubkov M.G., Dmitriev A.V., Suvorova A.V., Golubkov G.V. // Russ. J. Phys. Chem. B 2022. V. 16. P. 537. https://doi.org/10.1134/S199079312203006X
- Selesnick R.S., Su Y.J., Sauvaud J.A., Geophys J. // Res.: Space Phys. 2019. V. 124. P. 5421. https://doi.org/10.1029/2019JA026718
- Suvorova A.V., Dmitriev A.V., Parkhomov V.A. // Ann. Geophys. 2019. V. 37. P. 1223. https://doi.org/10.5194/angeo-37-1223-2019
- Dmitriev A.V., Suvorova A.V., Veselovsky I.S. In: Handbook on Solar Wind: Effects, Dynamics and Interactions, Ed. by H.E. Johannson. Nova Sci., New York, 2009. P. 81. https://doi.org/10.48550/arXiv.1301.2929
- Borovsky J.E., Yakymenko K. // J. Geophys. Res.: Space Phys. 2017. V. 122. P. 2973. https://doi.org/10.1002/2016JA023625
- Ginzburg E.A., Zinkina M.D., Pisanko Y.V. // Geomagn. Aeron. 2023. V. 63. P. 735. https://doi.org/10.1134/S0016793223600546
Supplementary files