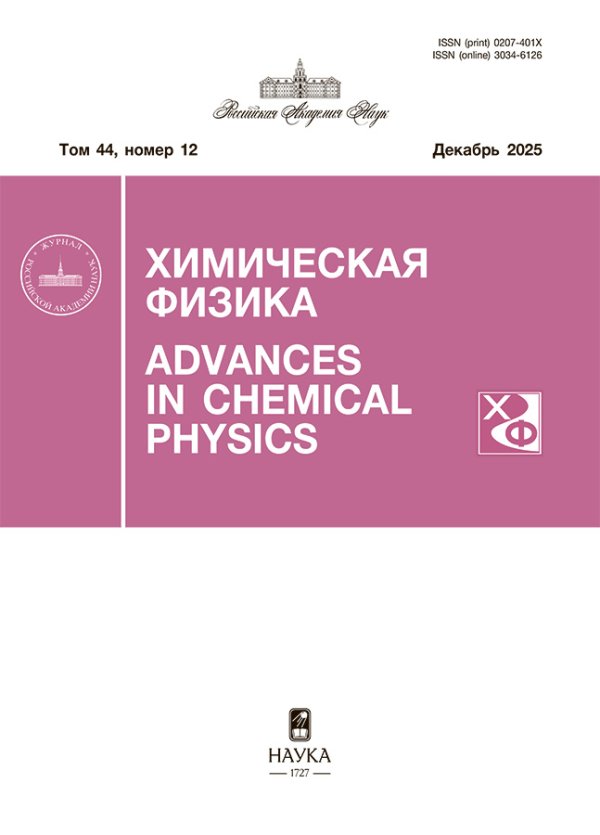Multimodel study of the influence of atmospheric waves from a tropospheric source on the ionosphere during a geomagnetic storm on may 27–29, 2017
- Authors: Kurdyaeva Y.A.1, Bessarab F.S.1, Borchevkina O.P.1, Klimenko M.V.1
-
Affiliations:
- Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere, and Radio-Wave Propagation, Kaliningrad Branch, Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 43, No 6 (2024)
- Pages: 91-104
- Section: Химическая физика атмосферных явлений
- URL: https://bakhtiniada.ru/0207-401X/article/view/273105
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0207401X24060105
- ID: 273105
Cite item
Full Text
Abstract
The influence of atmospheric waves generated by a tropospheric convective source on the state of the upper atmosphere and ionosphere during the recovery phase of the geomagnetic storm on May 27–28, 2017 was studied. A new approach to accounting for atmospheric waves generated by tropospheric convective sources in large-scale atmospheric models without using wave parameterization is proposed and implemented. The developed approach makes it possible to comprehensively study the effects generated by atmospheric waves against the background of various geophysical events, including geomagnetic storms. The multimodel study has shown that the proposed approach allows us to reproduce perturbations of the critical frequency ionosphere F₂ layer caused by the propagation of atmospheric waves generated by a tropospheric meteorological source. It is shown that the inclusion of a heat inflow source simulating the propagation of atmospheric waves from the lower atmosphere in the global model enhances the effects of a geomagnetic storm, which manifests itself as an additional decrease in the critical frequency of the F₂ layer, which can reach 7 % of absolute values.
Full Text
1. ВВЕДЕНИЕ
Пространственные градиенты и временны́е изменения плотности ионосферной плазмы влияют на условия распространения радиосигнала и за счет этого – на функционирование спутниковых систем связи и навигации [1]. На поведение параметров ионосферы оказывают существенное влияние процессы в магнитосфере, особенно во время геомагнитных бурь. С другой стороны, на состоянии верхних слоев атмосферы и ионосферы сказываются условия в нижних слоях атмосферы.
Акустические и внутренние гравитационные волны (АВ и ВГВ), генерируемые метеорологическими источниками в тропосфере, значительно влияют на динамические процессы в атмосфере и ионосфере [2–4]. Результаты исследований последних лет [5, 6] показали, что вклад волновых процессов в нижней и средней атмосфере в изменчивость параметров ионосферы может достигать 20%. Влияние атмосферных волн на ионосферу чаще всего изучается при отсутствии сильных геомагнитных возмущений, так как данные наблюдений не позволяют разделить эффекты явлений космической погоды от эффектов атмосферных возмущений. В то же время в работе [7] показано, что отклик ионосферы на геомагнитные бури в одни и Tₑ же сезоны может существенно различаться. Такое различие может быть обусловлено как индивидуальными особенностями каждого явления космической погоды, так и метеорологической активностью в тропосфере, влияющей на вариации ионосферных параметров. Явления космической погоды могут происходить одновременно с различными явлениями в нижней и средней атмосфере [8, 9]. Для таких событий в наблюдениях бывает сложно выделить роль каждого из возмущающих факторов в изменчивость термосферы и ионосферы [9, 10]. Экспериментальными методами исследования нельзя решить данную проблему из-за невозможности разделения вкладов различных источников в изменчивость термосферы и ионосферы.
Путем численного моделирования можно решить проблему исследования таких сложных комплексных событий в атмосфере и ионосфере. Созданные к настоящему моменту численные модели атмосферы [11–14] значительно улучшают понимание процессов, вызванных распространением волн из нижней атмосферы. Обычно в глобальных численных моделях всей атмосферы влияние атмосферных волн учитывается путем параметризации волновых эффектов до ограниченных высот [15–17]. Однако параметризация только приближенно учитывает вклад атмосферных волн от конвективных источников и может содержать неточности в самих источниках. На данный момент существует небольшое количество исследований [18–20], в которых осуществляется попытка воспроизведения волновых эффектов в верхней атмосфере во время отдельно взятых метеорологических событий.
Численное моделирование распространения АВ и ВГВ – вычислительно объемная задача, решение которой возможно с использованием небольшого количества моделей [19, 21]. В основном эти исследования касаются локальных кратковременных вариаций ионосферных параметров, связанных с распространением и диссипацией АВ и ВГВ [22]. Модельные исследования крупномасштабных изменений системы термосфера–ионосфера в периоды изменения волновой активности основаны лишь на идеализированных теоретических представлениях о распространении и диссипации АВ и ВГВ [23, 24].
В данной работе предложен метод учета в глобальной крупномасштабной модели волновых эффектов, создаваемых вследствие вертикального распространения волн, генерируемых метеорологическим тропосферным источником. Для решения этой задачи использовались численные модели нижней и верхней атмосферы.
Для апробации предложенного подхода было выбрано сильное метеорологическое событие – шквал в Московской области 29 мая 2017 г., который происходил на фазе восстановления геомагнитной бури, основная фаза которой пришлась на 27–28 мая 2017 г. Результаты моделирования позволили провести оценку изменения ионосферных параметров вследствие распространения АВ и ВГВ от метеорологического источника на фоне фазы восстановления геомагнитной бури.
2. ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЯЕМЫХ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ
В данном разделе описаны основные этапы разработки нового подхода: моделирование распространения атмосферных волн с применением нелинейной гидродинамической модели атмосферы высокого разрешения с источником возмущений, заданным на основе экспериментальных данных; расчет локальных спектральных характеристик волн, полученных в результатах численного моделирования; расчет притока тепла, обусловленного распространением волн; учет рассчитанного притока тепла в виде дополнительного источника в крупномасштабной модели.
2.1. Моделирование атмосферной динамики (AtmoSym)
Используемая на первом этапе численная модель атмосферных процессов высокого разрешения AtmoSym основана на решении системы нелинейных гидродинамических уравнений для атмосферного газа в поле силы тяжести. В этой модели [21] используются параллельные вычисления, что позволяет решать задачи распространения волн от различных начальных возмущений и источников волн в диапазоне высот 0–500 км над территорией с горизонтальным масштабом до нескольких тысяч километров. Модель основана на решении системы нелинейных гидродинамических уравнений и адаптирована для решения задач о распространении волн от вариаций давления на поверхности Земли [25]. Уравнения модели и используемые численные методы представлены в работах [21, 26–28]. Для модели AtmoSym строго доказана сходимость используемых численных методов и проведено сравнение расчетов с известными частными решениями. Такие математические исследования обеспечивают достоверность расчета волновой картины моделью.
Рис. 1. Вариации атмосферного давления, полученные сетью микробарографов (ст. ИФА, МГУ, Звенигород, Мосрентген) Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН (станции ИФА МГУ, Звенигород, Мосрентген) во время прохождения метеорологического шквала в Московской области 29 мая 2017 г.
Для задания источника возмущений в тропосфере в модели AtmoSym были использованы данные наблюдений вариаций атмосферного давления у поверхности Земли, полученные на четырех микробарографах Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН во время метеорологического шквала в Московской области (~55° с.ш., ~37° в.д.) 29 мая 2017 г. (рис. 1). Данное стихийное событие стало наиболее разрушающим за несколько десятилетий. Во время него был зафиксирован рекордный порыв шквалистого ветра в городе Москве. Использование данных о приземных вариациях давления в качестве нижнего граничного условия физически и математически обосновано и реализовано в работе [25].
Каждый из четырех источников возмущений в виде вариаций давления на нижней границе в модели аппроксимирован функцией вида:
, (1)
где xi и yi – координаты i-того микробарографа с номером i, а каждая функция qi описывает поведение волновой добавки к фоновому давлению на i-том микробарографе и строится на основе интерполяции оцифрованных данных колебаний атмосферного давления. Параметр λ характеризует эффективную ширину граничного источника. Результирующее поле вариаций атмосферного давления получается путем сложения отдельных полей, соответствующих вариациям давления вблизи каждого микробарографа.
Шаг расчетной сетки используемой версии модели AtmoSym по горизонтали – 4 км. Вертикальная сетка неравномерная и рассчитывается на основе реальной стратификации среды (в данном расчете шаг меняется от 400 м до 3 км). Горизонтальные масштабы расчетной области – 2000 км, вертикальный масштаб – 500 км. Источники волновых возмущений располагаются в центре расчетной области, расстояние между ними задано в соответствии с реальным расположением микробарографов. Зависимости параметров среды (коэффициентов вязкости и теплопроводности, фоновой плотности, температуры и давления) от высоты рассчитаны с использованием эмпирической модели атмосферы NRLMSISE-00 [29].
2.2. Моделирование верхней атмосферы
Трехмерная глобальная самосогласованная модель термосферы, ионосферы и протоносферы (ГСМ ТИП) разработана и усовершенствуется в Калининградском филиале ИЗМИРАН [30–32]. Эта модель позволяет рассчитывать глобальные распределения термосферных и ионосферных параметров в области высот от 80 до ~100 000 км и успешно применяется для исследования крупномасштабных процессов в верхней атмосфере. Она неоднократно и успешно применялась в фундаментальных исследованиях различного рода процессов в околоземной среде, в том числе для исследования отклика ионосферы на диссипацию ВГВ в нижней термосфере и на внезапные стратосферные потепления [33–35]. Модель основана на численном интегрировании системы трехмерных квазигидродинамических уравнений для многокомпонентной околоземной плазмы на высотах >80 км. В модели рассчитываются следующие параметры околоземной среды: концентрации ионов (O+, H+, NO+, O₂+, N2+), электронная концентрация, электронная и ионная температуры, компоненты вектора ионной скорости, электрическое поле магнитосферного и динамо происхождения, концентрации основных компонент нейтрального состава (O2, N2, O) и нечетного азота (NO, N(2D), N(4S)), температура нейтрального газа, компоненты вектора среднемассовой скорости. Модель позволяет описать высотные, широтные, долготные, суточные, сезонные, солнечно-циклические, магнитно-возмущенные (связанные с геомагнитными бурями и суббурями) крупномасштабные вариации моделируемых параметров.
2.3. Расчет притока тепла и его учет в виде дополнительного источника в модели ГСМ ТИП
Прямое использование данных об изменении гидродинамических функций, полученных при моделировании в AtmoSym, в крупномасштабных моделях атмосферы осложнено. Различие масштабов сеток региональных и крупномасштабных моделей не позволяет просто проинтегрировать полученные значения. Также необходимо обратить внимание на то, что модель АtmoSym позволяет рассчитывать гидродинамические поля с учетом нелинейных и диссипативных процессов. Это означает, что результаты расчетов содержат не только вклад, создаваемый волнами напрямую, но и косвенные эффекты, обусловленные нелинейным взаимодействием. Поэтому для качественной интеграции результатов расчетов из AtmoSym в ГСМ ТИП необходимо выделить конкретные волны, которые имеют определенный период и волновые числа.
Проводя спектральный анализ источника у поверхности Земли, сложно однозначно определить спектр волн в верхней атмосфере. Это связано с тем, что часть атмосферных волн, распространяясь вертикально, может затухать, отражаться или попадать в разного рода волноводы [36]. Этот факт говорит о необходимости локального исследования изменения волновых характеристик.
Определение спектральных характеристик волн на разных высотах позволило рассчитать приток тепла, создаваемый волнами. Это удобная величина для интеграции волновых эффектов в крупномасштабную модель, так как она позволяет учесть влияние атмосферных волн, не изменяя уравнения крупномасштабной модели.
Приток тепла определяется диссипацией энергии фонового, турбулентного и волнового движений. Оценить величину притока тепла можно по формуле:
, (2)
где
,
U – амплитуда колебаний горизонтальной скорости, ω – частота волны, kz – вертикальное волновое число и ρ0 – давление на выбранной высоте.
Формула (2) была выведена в работе [37], и ранее ее сложно было применить к экспериментальным или модельным данным из-за отсутствия хорошего пространственного и временного разрешения. Из формулы (2) видно, что для расчета притока тепла необходимо определить значения вертикального волнового числа, частоты и компонент горизонтальной скорости ветра. Полученные в модели AtmoSym значения гидродинамических функций и методы спектрального анализа позволяют рассчитать эти характеристики.
Рис. 2. Частотные характеристики колебаний температуры волн на высотах 100, 200 и 300 км в разных точках (горизонтальная координата – x; вертикальная – z) относительно расположения источника возмущений. Центр источника определен на нижней границе в районе точки x = 0 км.
Для исследования спектральных характеристик возмущений, полученных в модели AtmoSym, использовался фурье-анализ. Полученные спектрограммы продемонстрированы на рис. 2. Анализ показал, что уже через 30 мин после начала работы источника на высоте 100 км наблюдаются волны с периодами в 10–15 мин, а через 120 мин – на расстоянии 500 км от источника на высотах до 300 км наблюдаются волны с периодами в 15–30 мин. Полученные результаты согласуются с существующими представлениями о распространении АВ и ВГВ в верхнюю атмосферу. Подробное описание результатов спектрального анализа представлено в работе [38].
Рис. 3. Вертикальная структура возмущений температуры, полученная в численных расчетах с целью выделения характеристик волн в термосфере. Центр источника определен на нижней границе в районе точки x = 0 км.
Считается, что амплитуда вертикально распространяющихся атмосферных волн обнаруживается в нормализованных колебаниях температуры [39]. Для определения характерных вертикальных длин волн, распространяющихся от метеорологического источника, был применен вейвлет-анализ температурного профиля. Такой подход широко используется для оценки различных параметров внутренних гравитационных волн, таких как передача энергии и импульса от волны к атмосфере, спектральная плотность, а также вертикальные и горизонтальные длины акустических и внутренних гравитационных волн [40, 41]. Примеры рассчитанных длин волн для рассматриваемого события приведены на рис. 3. Таким образом, эти спектральные характеристики позволяют рассчитать приток тепла в определенное время и в определенной области пространства. Значения полученного притока тепла для некоторых моментов времени показаны на рис. 4.
Рис. 4. Значения притока тепла (ew), создаваемого при распространении атмосферных волн в верхнюю атмосферу.
Для моделирования термосферных и ионосферных эффектов во время геомагнитной бури и эффектов распространения атмосферных волн, инициированных метеорологическим источником, использовалась модель ГСМ ТИП. Скорость дополнительного нагрева от распространяющихся атмосферных волн, полученного по результатам модели AtmoSym, добавляется в уравнение теплового баланса нейтрального газа модели ГСМ ТИП в виде члена притока тепла от волновых эффектов в крупномасштабной модели.
Первые результаты численного моделирования ионосферных возмущений от точечного термосферного источника нагрева в модели ГСМ ТИП, имитирующего эффект диссипации АВ и ВГВ, распространяющихся из области метеорологического шторма представлены в работе [42].
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В качестве исследуемого геомагнитного события была выбрана умеренная геомагнитная буря, наблюдавшаяся в период между 27–29 мая 2017 г. [43, 44]. На рис. 5 представлены вариации геомагнитных индексов 26-30 мая 2017 г. (26 мая можно рассматривать в качестве фона). Главная фаза бури пришлась на ночь с 27 на 28 мая и характеризовалась падением значения DST-индекса до –125 нТл (рис. 5). Фаза восстановления геомагнитной бури началась примерно в 10 UT 28 мая 2017 г. и продлилась до 12 UT 29 мая, что совпадает со временем прохождения шквала в Московском регионе.
Рис. 5. Вариации индексов геомагнитной и солнечной активности с 26 по 30 мая 2017 г. F₁₀₇– в с.е.п., 1 с.е.п. = 10⁻²² Вт/(м² · Гц).
В ходе модельного исследования были проведены два численных эксперимента с применением модели ГСМ ТИП: расчет с учетом геомагнитной бури без включения члена в виде притока тепла (вариант М1) и расчет с учетом геомагнитной бури с включением члена притока тепла, обусловленного распространением атмосферных волн (вариант М²).
3.1. Ионосферный отклик на геомагнитную бурю
Для демонстрации ионосферных эффектов геомагнитного возмущения по результатам варианта моделирования М1 на рис. 6 показано временно́е развитие широтного хода зонально-усредненных значений критической частоты максимума F₂-слоя (f₀F₂) в период с 26 по 29 мая 2017 г.
Рис. 6. Динамика критической частоты F₂-слоя (время–широта) 26–29 мая 2017 г.
В день геомагнитной бури (28 мая) отмечаются положительные возмущения f₀F₂ в высоких широтах южного полушария (60–90º ю.ш.). В то же время в экваториальных широтах (0–20º ю.ш.) формируется отрицательный эффект относительно геомагнитно спокойного дня. Изменения критической частоты F₂-слоя в северном полушарии незначительны.
Для объяснения значительного положительного возмущения f₀F₂ в высоких широтах южного полушария следует отметить, что геомагнитная буря произошла в конце мая, т.е. за ~20 дней до летнего солнцестояния (22 июня). Из этого следует, что в северном полушарии условия были близки к летним, а в южном полушарии – соответственно, к зимним. Согласно результатам, полученным методом наложения эпох [7, 45], региональное электронное содержание в высоких широтах зимнего полушария имеет положительный отклик на геомагнитные бури, а в летнем полушарии отклик регионального электронного содержания на средних и высоких широтах отрицательный. Это полностью согласуется с результатами, полученными по модели ГСМ ТИП для случая, представленного в данной статье. Также положительный отклик f₀F₂ в высоких широтах местной зимой согласуется с наблюдаемыми возмущениями f₀F₂ зимой в восточной Сибири [46]. Причина отрицательных возмущений f₀F₂ в высоких широтах летнего полушария детально описана и подтверждена модельными расчетами и наблюдениями [47, 48]. Причина положительного возмущения электронной концентрации в высоких широтах в зимнее время противоречит концепции термосферной бури и может быть объяснена переносом плазмы из средних широт в высокоширотную зону, индуцированным усилением электрического поля ионосферной конвекции (storm-enhanced plasma density (SED) [49]) и усилением потоков мягких высыпаний во время геомагнитной бури [50].
3.2. Эффекты атмосферных волн в ГСМ ТИП
При распространении атмосферные волны переносят энергию и импульс, осуществляя динамическое взаимодействие различных атмосферных слоев. Вертикально распространяющиеся волны диссипируют на высотах мезосферы и термосферы, оказывая существенное влияние на изменение параметров и динамику термосферы и ионосферы. Экспериментальные работы (см., например, [51–53]) показывают, что в спокойных геомагнитных условиях изменение параметров термосферы и ионосферы во время метеорологических тропосферных процессов может приводить к возникновению области нагрева вследствие диссипации атмосферных гравитационных волн. Распространение и диссипация волн влияют на ионизационно-рекомбинационные процессы в ионосфере, что приводит к уменьшению полного электронного содержания и критической частоты F₂-слоя ионосферы. Оценки вкладов метеорологической активности в общую ионосферную возмущенность, выполненные в работах [54, 55], дают вклад, составляющий до 20% от изменчивости дневной среднеширотной ионосферы.
Для рассмотрения и выявления эффектов, вызванных добавлением в расчет теплового источника на фоне возмущенной геомагнитной обстановки, далее будем обсуждать разность между результатами расчетов по вариантам М² и М1. Это позволит оценить только вклад эффектов распространения атмосферных волн, инициированных метеорологическим источником.
Рис. 7. а – Разность в значениях зональноусредненной концентрации атомарного кислорода между вариантами расчетов М² и М1 на высоте 200 км 29 мая 2017 г. б – Разность в зональноусредненных значениях f₀F₂ между вариантами расчетов М² и М1 29 мая 2017 г.
На рис. 7а показана разность зонально-усредненной концентрации атомарного кислорода n[O] между вариантами расчетов М² и М1 на высоте 200 км 29 мая 2017 г. Видно, что с 14.00 до 18.00 UT 29 мая наблюдается понижение n[O] на широтах 50–60° с.ш. По-видимому, данная область понижения n[O] образовалась вследствие диссипации АВ и ВГВ на высотах ионосферы, что привело к повышению температуры, изменению градиента давления и ветроиндуцированному переносу атомарного кислорода.
Изменение зонально-усредненных значений f₀F₂ в варианте расчета М² относительно варианта М1 представлена на рис. 7б. Во второй половине дня 29 мая наблюдаются обособленные области понижений f₀F₂ в регионе 55–60° с.ш. и ее повышение в регионе 45–50° с.ш. в то же время. Величины возмущений зонально-усредненных значений f₀F₂ достигают амплитуды в 0.1 МГц, что составляет ≈ 2% от ее абсолютных среднезональных значений на этих широтах.
Видно, что на изменения f₀F₂ оказывают влияние возмущения концентрации атомарного кислорода. Однако не только этими изменениями определяются возмущения f₀F₂. По-видимому, необходимо учитывать электродинамические процессы, которые приводят к изменению электрического поля и более сложной картине изменения f₀F₂ в ионосфере. В теоретических работах (см., например, [56]) показано, что распространение акустических волн из нижней атмосферы может приводить к формированию возмущений термосферы непосредственно над областью метеорологического шторма, а в дальнейшем, вследствие диссипации АВ и ВГВ, в термосфере формируются крупномасштабные возмущения с размерами ~1000 км, которые влияют на ее циркуляцию и электродинамические процессы и приводят к существенным пространственным изменениям состояния ионосферы.
Рис. 8. Широтно-временные изменения критической частоты F₂-слоя 29 мая 2017 г. на долготах 25° в.д. (а), 35° в.д. (б), 45° в.д. (в).
Далее были рассмотрены временны́е вариации возмущений f₀F₂ в области метеорологического шквала. На рис. 8 представлены рассчитанные в модели широтно-временны́е изменения f₀F₂ на трех близких долготах европейского сектора 29 мая 2017 г. Максимальные изменения критической частоты достигают значения в 0,5 МГц, что составляет около ≈7% от абсолютной величины f₀F₂ при возмущенной геомагнитной обстановке. Долготные изменения f₀F₂, представленные на рис. 8 незначительны, однако отмечаются различия в амплитудных значениях f₀F₂. Так, максимальные отрицательные возмущения f₀F₂ на всех долготах формируются на широте 50–55° с.ш. в 16–18 UT 29 мая, тогда как положительные возмущения f₀F₂ формируются на долготах 40–50° с.ш. в 04–06 UT. Следует отметить, что на долготах 35° в.д и 45° в.д. хорошо видно формирование периодических структур с периодом ~ 2 ч в широтном диапазоне 40–60° с.ш. Это указывает на возможность формирования перемещающихся ионосферных возмущений в рассматриваемой пространственно-временно́й области. Известно, что акустические волны распространяются практически вертикально вверх, а ВГВ как продольно-поперечные волны могут распространяться под углом к Земле [57]. Диссипация волн на высотах 200–250 км может приводить к локальным областям возмущений с пространственным размером ~500 км. Рассматриваемая на рис. 8 область находится над источником предполагаемых возмущений в тропосфере, и волны распространяются и диссипируют квазивертикально. Ионосферные возмущения меньшего масштаба, наблюдаемые за пределами этой рассматриваемой области, могут быть инициированы как непосредственно этими вариациями ионосферной плазмы над источником, так и атмосферными волнами, имеющими больший угол распространения к Земле. Продолжительное существование ионосферных неоднородностей обеспечивается вследствие длительной релаксация нагретых волнами областей.
Обсуждаемые в этом разделе результаты демонстрируют адекватность предложенного подхода к реалистичному учету атмосферных волн, генерируемых тропосферными конвективными источниками, в крупномасштабных моделях атмосферы.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе предложен и реализован подход к учету атмосферных волн, генерируемых тропосферными конвективными источниками, в крупномасштабных моделях атмосферы без использования их параметризации. Разработанный подход позволяет комплексно исследовать эффекты, создаваемые волнами от различных источников в нижней атмосфере, на фоне различных геофизических событий, в том числе в условиях геомагнитной бури.
Модельное исследование изменения ионосферных параметров вследствие распространения АВ и ВГВ от источника в тропосфере в виде шквала в Московской области 29 мая 2017 г. на фоне возмущенной геомагнитной обстановки показало:
Распространение атмосферных волн от конвективных источников усиливает эффекты геомагнитной бури, что проявляется в виде дополнительного понижения f₀F₂ на субавроральных широтах северного полушария.
Региональные уменьшения f₀F₂ на субавроральных широтах на долготах метеорологического возмущения, вызванные распространением атмосферных волн, могут достигать 7% от абсолютных значений f₀F₂.
Долготные изменения f₀F₂ в области конвективного источника демонстрируют устойчивую отрицательную реакцию ионосферы на субавроральных широтах и положительные возмущения на средних широтах. В период метеорологического шквала отмечается формирование периодических структур с периодом ~2 ч в области метеорологического события, что указывает на возможность формирования перемещающихся ионосферных возмущений в рассматриваемой пространственно-временной области.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-17-00208.
About the authors
Y. A. Kurdyaeva
Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere, and Radio-Wave Propagation, Kaliningrad Branch, Russian Academy of Sciences
Email: olga.borchevkina@mail.ru
Russian Federation, Kaliningrad
F. S. Bessarab
Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere, and Radio-Wave Propagation, Kaliningrad Branch, Russian Academy of Sciences
Email: olga.borchevkina@mail.ru
Russian Federation, Kaliningrad
O. P. Borchevkina
Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere, and Radio-Wave Propagation, Kaliningrad Branch, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: olga.borchevkina@mail.ru
Russian Federation, Kaliningrad
M. V. Klimenko
Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere, and Radio-Wave Propagation, Kaliningrad Branch, Russian Academy of Sciences
Email: olga.borchevkina@mail.ru
Russian Federation, Kaliningrad
References
- Kuverova V.V., Adamson S.O., Berlin A.A. et al. // Adv. Space Res. 2019. V. 64. P. 1876; https://doi.org/10.1016/j.asr.2019.05.041
- Golubkov G.V., Adamson S.O., Borchevkina O.P. et al. // Russ. J. Phys. Chem. 2022. V. 16. P. 508; https://doi.org/10.1134/S1990793122030058
- Bakhmetieva N.V., Grigoriev G.I., Kalinina E.E. // Russ. J. Phys. Chem. B 2023. V. 17. P. 495–502; https://doi.org/10.1134/S1990793123020215
- Bakhmetieva N.V., Zhemyakov I.N. // Russ. J. Phys. Chem. B 2022. V. 16. P. 990; https://doi.org/10.1134/S1990793122050177
- Forbes J.M., Palo S.E., Zhang X., Atmos J. // Sol.-Terr. Phys. 2000. V. 62. P. 685; https://doi.org/10.1016/S1364-6826(00)00029-8
- Karpov I.V., Karpov M.I., Borchevkina O.P. // Russ. J. Phys. Chem. B 2019. V. 13. P. 714; https://doi.org/10.1134/S1990793119040067
- Ratovsky K.G., Yasyukevich Y.V., Vesnin A.M. et al. // Russ. J. Phys. Chem. 2020. V. 14. P. 862; https://doi.org/10.1134/S1990793120050243
- Fuller-Rowell T., Wu F., Akmaev R. et al. // J. Geophys. Res. 2010. V. 115. № A00G08. P. 1; https://doi.org/10.1029/2010JA015524
- Goncharenko L., Chau J.L., Condor P. et al. // Geophys. Res. Lett. 2013. V. 40. P. 4982; https://doi.org/10.1002/grl.50980.
- Yasyukevich A.S., Padokhin A.M., Mylnikova A.A. et al. // Memoirs of the Faculty of Physics. 2018. № 3. P. 1830901.
- Snively J., Pasko V. // Geophys. Res. Lett. 2003. V. 30. № 24. P. 303; https://doi.org/10.1029/2003GL018436
- Perevalova N.P., Polyakova A.S., Pogoreltsev A.I. // Geomagn. aeronom. 2013. V. 53. P. 397; https://doi.org/10.1134/S0016793213030146
- Gavrilov N.M., Koval A.V., Pogoreltsev A.I., Savenkova E.N. // Geomagn. aeronom. 2014. V. 54. P. 381; https://doi.org/10.1134/S0016793214030050
- Fovell R., Durran D., Holton J.R. // J. Atmos. Sci. 1992. V. 49. № 16. P. 1427; https://doi.org/10.1175/1520-0469(1992)049<1427:NSOCGS>2.0.CO;2
- Lindzen R.S., Holton J.R. // J. Atmos. Sci. 1968. V. 25. P. 1095; https://doi.org/10.1175/1520-0469(1968)025<1095:ATOTQB>2.0.CO;2
- Alexander M.J., Dunkerton T.J. // J. Atmos. Sci. 1999. V. 56. № 24. P. 4167; https://doi.org/10.1175/1520-0469(1999)056<4167:ASPOMF>2.0.CO;2
- Hines C.O. // J. Atmos. Sol.-Terr. Phys. 1997. V. 59. P. 371; https://doi.org/10.1016/S1364-6826(96)00079-X
- Meraner K., Schmidt H., Manzini E. et al. // J. Geophys. Res. 2016. V. 121. P. 12045; https://doi.org/10.1002/2016JD025012
- Costantino L., Heinrich P., Mzé N., Hauchecorne A. // Ann. Geophys. 2015. V. 33. P. 1155; https://doi.org/10.5194/angeo-33-1155-2015
- Borchevkina O.P., Kurdyaeva Y.A., Dyakov Y.A. // Atmosphere. 2021. V. 12 (11). P. 1384; https://doi.org/10.3390/atmos12111384
- Gavrilov N.M., Kshevetskii S.P. // Earth, Planets, Space. 2014. V. 66. P. 88; https://doi.org/10.1186/1880-5981-66-88
- Meng X., Komjathy A., Verkhoglyadova O.P. et al. // Geophys. Res. Lett. 2020. V. 42. P. 4736; https://doi.org/10.1002/2015GL064610
- Yamashita C., Liu H.-L., Chu X. // Geophys. Res. Lett. 2010. V. 37. P. L09803; https://doi.org/10.1029/2009GL042351
- Becker E., Vadas S.L. // J. Geophys. Res. Space Physics. 2020. V. 125. P. e2020JA028034; https://doi.org/10.1029/2020JA028034
- Kurdyaeva Y.A., Kshevetskii S.P., Gavrilov N.M., Golikova E.V. // Numerical Analysis and Applications. 2017. V. 10. P. 324; https://doi.org/10.1134/S1995423917040048
- Kshevetskii S.P. // Comput. Math. Math. Phys. 2001. V. 41. P. 273.
- Kshevetskii S.P. // Comput. Math. Math. Phys. 2002. V. 42. P. 1510.
- Kshevetskii S.P. // Nonlinear Process. Geophys. 2001. V. 8. P. 37; https://doi.org/10.5194/npg-8-37-2001
- Picone J.M., Hedin A.E., Drob D.P. // J. Geophys. Res. 2002. V. A12. P. 1468; https://doi.org/10.1029/2002JA009430
- Namgaladze A.A., Korenkov Yu.N., Klimenko V.V. et al. // PAGEOPH. 1988. V. 127. P. 219; https://doi.org/10.1007/BF00879812
- Namgaladze A.A., Korenkov Yu.N., Klimenko V.V. et al. // J. Atmos. Sol.-Terr. Phys. 1991. V. 53. P. 1113; https://doi.org/10.1016/0021-9169(91)90060-K
- Klimenko M.V., Bryukhanov V.V., Klimenko V.V. // Geomagn. aeronom. 2006. V. 46. P. 457; https://doi.org/10.1134/S0016793206040074
- Bessarab F.S., Korenkov Yu.N., Klimenko M.V. et al. // J. Atmos. Sol.-Terr. Phys. 2012. V. 90–91. P. 77; https://doi.org/10.1016/j.jastp.2012.09.005
- Klimenko M.V., Klimenko V.V., Zakharenkova E. et al. // Earth, Planets, Space. 2012. V. 64. P. 441; https://doi.org/10.5047/eps.2011.07.004
- Karpov I.V., Bessarab F.S., Korenkov Y.N., Klimenko V.V., Klimenko M.V. // Russ. J. Phys. Chem. B 2016. V. 16. P. 117; https://doi.org/10.1134/S1990793116010048
- Kshevetskii S.Р., Kurdyaeva Y.А., Gavrilov N.М. // Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics. 2022. V. 58. P. 30; https://doi.org/10.31857/S0002351523010078
- Gavrilov N.M. // Izvestiya of the Academy of Sciences of the USSR. Atmospheric and Oceanic Physics. 1974. V. 10. P. 83.
- Kurdyaeva Y.A., Borchevkina O.P., Golikova E.V., Karpov I.V. // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics.2024. V. 88.
- Nigussie M., Moldwin M., Yizengaw E. // Atmosphere. 2022. V. 13. P. 1414; https://doi.org/10.3390/atmos13091414
- John S.R., Kumar K.K. // Clim. Dyn. 2012. V. 39. P. 1489; https://doi.org/10.1007/s00382-012-1329-9
- Hindley N.P., Wright C.J., Smith N.D. et al. // Atmos. Chem. Phys. 2015. V. 15. P. 7797; https://doi.org/10.5194/acp-15-7797-2015
- Karpov I.V., Borchevkina O.P., Vasilev P.A. // Russ. J. Phys. Chem. B 2020. V. 14. P. 362; https://doi.org/10.1134/S1990793120020220
- Sori T., Shinbori A., Otsuka Y. et al. // J. Geophys. Res. Space Phys. 2023. V. 128. P. e2022JA031157; https://doi.org/10.1029/2022JA031157
- Kotova D.S., Zakharenkova I.E., Klimenko M.V. et al. // Russ. J. Phys. Chem. B 2020. V. 14. P. 377; https://doi.org/10.1134/S1990793120020232
- Ratovsky K.G., Yasyukevich Y.V., Vesnin A.M. et al. // Atmosphere. 2020. V. 11. P. 1; https://doi.org/10.3390/atmos11121308
- Pirog O.M., Polekh N.M., Tashchilin A.V. et al. // Adv. Space Res. 2006. V. 37. P. 1081; https://doi.org/10.1016/j.asr.2006.02.005
- Mayr H.G., Harris I., Spencer N.W. // Rev. Geophys. 1978. V. 16. P. 539; https://doi.org/10.1029/RG016i004p₀0539
- Ratovsky K.G., Klimenko M.V., Klimenko V.V. et al. // Sol.-Terr. Phys. 2018. V. 4. P. 26; https://doi.org/10.12737/stp-44201804
- Foster J.C. // J. Geophys. Res. 1993. V. 98. P. 1675; https://doi.org/10.1029/92JA02032
- Lu G., Richmond A.D., Roble R.G., Emery B.A. // J. Geophys. Res. 2001. V. 106. P. 24493; https://doi.org/10.1029/2001JA000003
- Borchevkina O.P., Karpov I.V. // Geomagn. Aeronom. 2017. V. 57. P. 624; https://doi.org/10.1134/S0016793217040041
- Polyakova A.S., Perevalova N.P. // Adv. Space Res. 2011. V. 48. P. 1196; https://doi.org/10.1016/j.asr.2011.06.014
- Bondur V.G., Pulinets S.A. // Issledovaniya zemli iz kosmosa. 2012. V. 3. P. 3.
- Rishbeth H., Mendillo M. // J. Atmos. Sol.-Terr. Phys. 2001. V. 63. P. 1661; https://doi.org/10.1016/S1364-6826(01)00036-0.
- Forbes J.M., Zhang X., Talaat E.R. et al. // J. Geophys. Res. 2003. V. 108. P. 1033; https://doi.org/10.1029/2002JA009262
- Karpov I.V., Kshevetskii S.P. // J. Atmos. Sol.-Terr. Phys. 2017. V. 164. P. 89; https://doi.org/10.1016/j.jastp.2017.07.019
- Kshevetskii S.P., Kurdyaeva Y.A., Gavrilov N.M. // Russ. J. Phys. Chem. B 2023. V. 17. P. 1228; https://doi.org/10.1134/S1990793123050238
Supplementary files