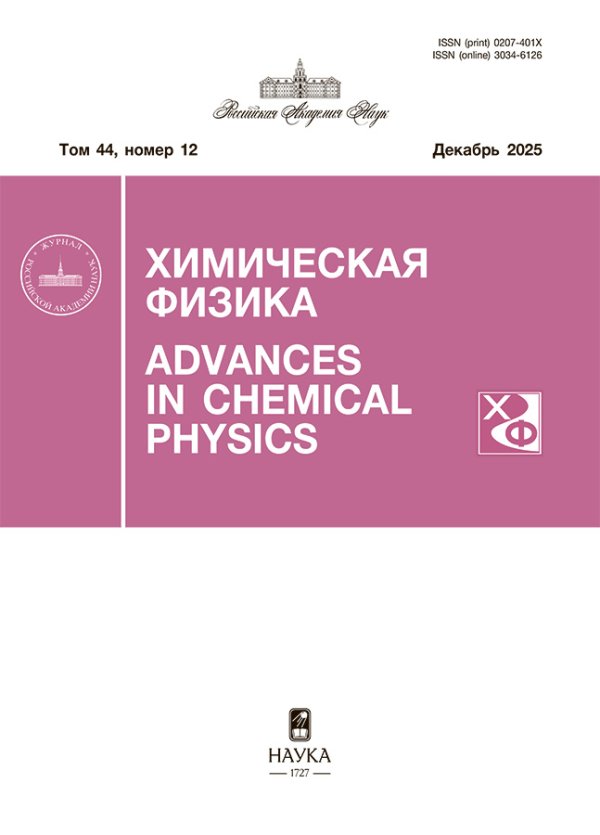Reaction mechanism of O₃ uptake on MgCl₂ · 6H₂O as a sea salt component
- Authors: Zelenov V.V.1, Aparina E.V.1
-
Affiliations:
- Semenov Federal Research Center for Chemical Physics, Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 43, No 6 (2024)
- Pages: 53-63
- Section: Химическая физика атмосферных явлений
- URL: https://bakhtiniada.ru/0207-401X/article/view/273087
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0207401X24060069
- ID: 273087
Cite item
Full Text
Abstract
Using a coated-insert flow tube reactor coupled to mass spectrometer with molecular beam sampling, the uptake of O₃ on a salt film coating of MgCl₂·6H₂O was studied under variation in the reactant concentration ([O₃] = 2.5 ‧ 10¹³ – 1.6 ‧ 10¹⁴ cm⁻³), humidity ([RH] = 0–24%), and reactor temperatures of 254 and 295 K. The time-dependent character of the uptake coefficient g(t) = γr exp(−t/τ) was obtained, the γr and t parameters being dependent on [O₃]. Using the method of mathematical modeling, based on the shape of the dependence of the uptake coefficient on ozone concentration and its time history, the uptake mechanism was proposed and the elementary kinetic parameters were assessed, on the basis of which it is possible to extrapolate the temporal behavior of the uptake coefficient to tropospheric conditions at arbitrary ozone concentrations. Based on their obtained dependencies, at room temperature the uptake occurs according to the reaction mechanism of an adsorbed molecule on the surface of the substrate: the mechanism includes the stage of reversible adsorption, formation of an adsorbed complex followed by its unimolecular decomposition with the release of molecular chlorine into the gas phase. At low temperatures, the uptake proceeds through recombination via the Eley–Ridil’s reaction mechanism: it includes reversible adsorption, formation of a surface complex, its reaction with an ozone molecule from the gas phase followed by the release of an oxygen molecule into the gas phase. In this case, no chlorine is formed. No dependence of the uptake coefficient on relative humidity was found in the range of RH from 0 to 24% at T = 254 K.
Full Text
1. ВВЕДЕНИЕ
Аэрозоль морской соли глобально распространен в земной атмосфере вследствие волновой активности морей и океанов. Восходящие потоки воздуха высушивают капельки морской воды, и образовавшиеся крупинки морской соли разносятся ветрами на большие расстояния в глубь материков [1−3]. Общая годовая масса морского аэрозоля по разным оценкам составляет от 5 до 166 000 Тг при его средней концентрации 1–20 мкг ‧ м⁻³ [2, 4–6]. Согласно полевым измерениям размеры таких частиц составляют от 0.01 до 15–20 мкм [4, 5, 7], причем распределение их по высоте изменяется в зависимости от максимальной концентрации аэрозоля, составляющей 20–15 мкг ‧ м⁻³ у поверхности [3, 8−10] до 10–1 нг ‧ м⁻³ на высоте ~10 км [11−13]. Морские аэрозоли влияют на излучательную способность земной атмосферы и служат центрами нуклеации облаков [1, 14, 15].
Гетерогенные реакции активных газов с аэрозолями морской соли играют важную роль в тропосфере. Многочисленные лабораторные исследования процессов захвата азотсодержащих газов NOₓ (NO₂, NO₃, N₂O₅) и NOy (HNO₃, HONO, ClNO₂, ClNO₃) проводились на компонентах морской соли, прежде всего на NaCl, поскольку ее содержание в сухом остатке максимально и составляет 77.7% [16]). Установлено, что начальный коэффициент захвата γ0 в первые несколько секунд экспозиции соли к газовому реагенту на один-два порядка превышает его стационарное значение γss через несколько минут. Это объясняется присутствием адсорбированной воды на поверхности солевых кристаллов даже после нескольких часов выдержки субстрата под вакуумом. При стационарном захвате NO₂ + NaCl в “сухих” условиях, т.е. без дополнительной подачи воды, γss ~ 10⁻⁷; для реакции N₂O₅ + NaCl значение γss на два порядка выше [17, 18].
С использованием различных лабораторных методик было показано, что захват азотсодержащих газов на морских солях приводит к выходу в газовую фазу молекул ClNO, BrNO, которые под действием солнечной радиации высвобождают атомы Cl и Br [19]. Такие процессы получили название галогеновой активации тропосферы [18, 20]. Это явление привлекло внимание в связи с проблемой истощения озона в нижней тропосфере Арктики и Антарктики [21−23], а также в атмосфере Больших солевых озер Америки в шлейфах предприятия по производству магния при электролизе солевой рапы [24]. Атомы галогенов эффективно взаимодействуют с O₃ по реакциям Cl + O₃ → ClO + O₂, Br + O₃ → BrO + O₂, что приводит к цепному процессу уменьшения концентрации озона [17, 18, 25, 26]. Озон наряду с OH и Cl является важным окислителем различных органических загрязнителей тропосферы с последующим их удалением в виде осадков [27], но в то же время тропосферный озон – опасный для здоровья агент [28, 29].
Тропосферный озон образуется как в газофазном фотолитическом цикле NO₂ + hn (l < 420 нм) → NO + O(³P), O(³P) + O₂ + M → O₃ + M, так и в реакциях перекисных радикалов RO₂ и органических аэрозолей с CO и NOₓ [30−33]. Эти процессы ответственны за содержание озона в тропосфере вблизи поверхности земли, которое должно составлять от 20–70 ppb [34−38] до максимальных значений 80–130 ppb в регионах больших городов [39–41]. Совокупность химических процессов с участием озона важна для понимания уровня загрязнения тропосферы органическими составляющими. Особый интерес к реакциям озона с морскими солями связан с тем, что, в отличие от аналогичных гетерогенных реакций с участием окислов азота, они могут быть источником галогенов даже в незагрязненном воздухе отдаленных морских регионов. Причем особый интерес вызывают приполярные регионы Арктики и Антарктики.
Взаимодействие озона с компонентами морской соли исследовалось в ряде лабораторий. В работе [42] изучали взаимодействие озона с порошками NaCl, NaBr, NaI в реакторе с псевдоожиженным слоем при продувании над субстратом потока воздуха с содержанием [O₃] = 100 ppb со скоростью 2 л ‧ мин⁻¹. При измерении [O₃] на выходе из реактора было установлено отсутствие изменения этого потока в случае взаимодействия озона с NaCl и его ослабление на 10% после гетерогенной реакции O₃ с NaBr.
В работе [27] регистрировали появление Cl₂ при фотолизе смеси влажного аэрозоля морской соли (относительная влажность RH = 86–90%) с озоном в большой аэрозольной камере при масс-спектральной регистрации продуктов. При включении УФ-лампы в первые две минуты фиксировали появление Cl₂ в количестве 45 ppb, при этом [O₃] = 14 ppm. В случае сухой соли такого эффекта не наблюдали. Авторы объясняют появление Cl₂ протеканием процессов в квазижидком слое на поверхности соли. В экспериментах по взаимодействию озона со льдом морской соли в темноте [43] обнаружили появление Br₂ и отсутствие Cl₂ при масс-спектрометрической регистрации продуктов в следующих условиях: Т = 272 К, [O₃] = 1.8 ppm, RH = 20%.
В работе [44] при изучении взаимодействия O₃ (25 ppm) с NaBr и NaCl в отсутствие NOₓ также обнаружили появление Br₂ при масс-спектрометрической регистрации, но только в присутствии воды вблизи точки расплывания солей. Однако Cl₂ в пределах чувствительности прибора обнаружен не был. Измерение коэффициентов захвата озона, γ0 и γss, на покрытиях NaBr, синтетических морских солей и ряда кристаллогидратов проводили в реакторе Кнудсена: захват на “сухой” соли NaBr при [O₃] = 5 · 10¹¹ см⁻³ протекает с γss < 10⁻⁵, на кристаллогидратах MgBr₂, CaBr₂ и на синтетической морской соли – γ0 ≈ 10⁻³ [45]. Авторы делают вывод, что гетерогенные реакции озона с морской солью протекают в адсорбированном слое воды на поверхности кристаллов. Оценочные расчеты в приложении к реальным условиям тропосферы показали, что исследованные процессы могут вносить вклад атомов брома в газовую фазу со скоростью 106 см⁻³ · с⁻¹. В экспериментах этой же группы [46] исследовали захват озона на покрытии из синтетической морской соли (sss), NaCl, смеси FeCl₃ /NaCl и FeCl₃/sss (0.1–1 % по массе). Коэффициент захвата g изменяется от g < 10⁻⁵ (NaCl) до 3.5 ∙ 10⁻² для влажной смеси FeCl₃/NaCl, причем в последнем случае наблюдается выход продукта Cl₂. В условиях тропосферы при [O₃] = 20 ppb и g = 3.5 ∙ 10⁻² в гетерогенной реакции O₃ + FeCl₃/NaCl на влажной поверхности скорость образования Cl₂ составила бы 330 ppt/ч. Авторы приводят данные, что окислы железа содержатся в пылевых аэрозолях, поэтому могут содержаться в качестве примесей в природной морской воде и натуральном морском аэрозоле.
При моделировании процессов, приводящих к истощению озонового слоя, учитывались как газофазные, так и гетерогенные реакции с учетом данных полевых измерений. В работе [26] показано, что основным источником Cl₂ в прибрежных регионах является взаимодействие тропосферных газов с морским аэрозолем. Однако до сих пор не существует строгой теории, описывающей всю совокупность химических процессов, приводящих к истощению озона. Также недостаточно экспериментальных данных по исследованию захвата озона на покрытии из отдельных компонент морской соли, которые могут быть ответственными за высвобождение галогенов. В частности, нет данных по захвату озона на покрытии из такого компонента, как MgCl₂ ∙ 6H₂O, содержащего кристаллогидратную воду и потенциально ответственного за образование свободного хлора. Содержание этого компонента в натуральной морской соли мало́, но вследствие его высокой растворимости и связанного с этим эффектом поверхностной сегрегации доля его поверхностной плотности становится значительной. Так, при мольной доле MgCl₂ ∙ 6H₂O в сухом остатке морской соли 3.36% его относительная доля в поверхностной плотности составляет 43.7% [47].
В данной работе представлены экспериментальные данные по зависимости коэффициента захвата озона на покрытии из индивидуальной соли MgCl₂ ∙ 6H₂O от концентрации озона при двух температурах. На базе ленгмюровского представления адсорбции предложено аналитическое описание этих зависимостей. Из формы зависимости коэффициента захвата озона от его концентрации сделан вывод о механизме захвата. Оценены элементарные параметры, характеризующие реакционную и адсорбционную составляющую процесса захвата: константу скорости гетерогенной реакции и коэффициент Ленгмюра, определяющий долю поверхности, занятую адсорбированными молекулами озона. Целью работы является возможность экстраполяции коэффициента захвата и его временно́й эволюции к реальным концентрациям озона в тропосфере на базе модельного представления лабораторных данных.
2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Эксперименты проводились с использованием термостатированного проточного реактора с подвижной вставкой, покрытой исследуемым веществом и вводимой в поток газа-носителя гелия с примесью газа-реагента. Реактор сопряжен с масс-спектрометром высокого разрешения с ионизацией низковольтными электронами. Схема реактора приведена и подробно описана ранее [48], поэтому отметим кратко ее основные особенности. Все внутренние поверхности реактора и подводящих трубок покрыты тефлоновой пленкой для исключения перераспределения концентраций реагентов и продуктов за время контакта газа-реагента с реакционной поверхностью. Озон синтезируется заранее, его смесь в гелии приготавливается в отдельном сосуде и подается через отдельный ввод. Абсолютная концентрация озона определялась из материального баланса при полном его переводе в кислород путем нагрева сегмента трубки подачи. Калибровка масс-спектрометра по кислороду проводилась в отдельном опыте при известном давлении в реакторе и заданном потоке кислорода. Основные параметры реактора: внутренний диаметр трубки реактора – 1.3 см; внешний диаметр подвижного стержня – 0.1 см; максимальная длина стержня – 50 см; давление в реакторе – 1–5 Торр; линейная скорость потока – (0.35÷7.5) ‧ 103 см ‧ с⁻¹. Соль наносили на стержень при его погружении в ненасыщенный водный раствор. Стержень вставляли в реактор. Реактор откачивали и солевое покрытие высушивали в условиях вакуума. Тонкий центральный стержень из нержавеющей стали с солевым покрытием можно перемещать вдоль оси трубки реактора из компенсирующего объема в зону контакта с газом-реагентом с помощью внешнего магнита. Через этот компенсирующий объем подается дополнительный поток гелия, во избежание неконтролируемого диффузного потока газа-реагента из зоны реакции в этот объем. Подача паров воды в реактор производилась при барботировании этого потока гелия через воду. Отбор пробы в масс-спектрометр производится в виде молекулярного пучка через отверстие диаметром 0.35 мм в вершине напускного конуса, расположенного соосно с внешней трубкой реактора. Для проведения экспериментов при пониженной температуре реактора были изготовлены две металлические кюветы, заполняемые охлаждающей смесью NaCl/H₂O и охватывающие область трубки реактора и компенсирующего объема.
3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Обработка экспериментальных данных
Коэффициент захвата определялся по относительному изменению интенсивности сигнала газового реагента на его молекулярной линии m/z = 48 при вводе стержня с покрытием в поток смеси O₃ /He. Типичное изменение концентрации озона, измеряемое при введении стержня в поток озона, приведено на рис. 1.
Рис. 1. Изменение концентрации реагента O₃ в реакторе при введении в него подвижного стержня с покрытием из MgCl₂ · 6H₂O. Условия захвата O₃: [O₃] = 8 · 10¹³ см⁻³, Т = 295 К, давление p = 5 Торр, ΔL = 30 см, средняя скорость потока гелия u = 45 см · с⁻¹. Светлые символы – измеряемая концентрация O₃ при периодическом удалении стержня с покрытием из зоны контакта; темные символы – концентрация O₃ при введенном стержне в зону реакции.
При наших скоростях потока и давлении в реакторе кинетика расхода озона при его захвате на солевом покрытии после его ввода в зону контакта описывается уравнением первого порядка, и коэффициент захвата вычисляется по экспериментальным данным из выражения
, (1)
где (t) и (t) – интенсивности ионных токов озона на линии m/z = 48 без введения стержня с покрытием и с введенным стержнем соответственно; tc – время контакта озона с солевым покрытием; сО₃ = 3.61(Т/295)1/2 ‧ 104, см ‧ с⁻¹ – среднеарифметическая скорость молекул озона при температуре Т; dR и dr – внутренний диаметр трубки реактора и внешний диаметр стержня соответственно.
Рис. 2. Времязависимый коэффициент захвата О₃ (символы), рассчитанный из данных рис. 1 по формуле (1); сплошная кривая – аппроксимация по формуле (2) с параметрами из табл. 1.
Таблица 1. Сводные данные по захвату О₃ на покрытии из MgCl₂ ∙ 6H₂O при Т = 295 К
[O₃], 10¹³ см⁻³ | γr, 10⁻⁴ | 1/τ, с⁻¹ | Ссылка |
0.05 | 10 ± 5 | – | [45] |
2.5 | 4.3 ± 1.5 | 0.065 ± 0.025 | эта работа |
3.8 | 4 ± 1.6 | 0.07 ± 0.03 | » |
8 | 2 ± 0.16 | 0.1 ± 0.02 | » |
16 | 1.2 ± 0.3 | 0.095 ± 0.028 | » |
Пример расчета приведен на рис. 2. Рассчитанный на площадь геометрической поверхности солевого покрытия времязависимый коэффициент захвата хорошо аппроксимируется выражением
γ(t) = γrexp(−t/τ), (2)
где γr и t – параметры, зависящие от концентрации O₃. Отметим, что экспоненциальный вид зависимости коэффициента захвата от времени экспозиции стержня с солевым покрытием в потоке озона следует из лэнгмюровского представления захвата в условиях обратимой адсорбции газа-реагента. Результаты аппроксимации по формуле (2) экспериментальных времязависимых коэффициентов захвата при двух температурах реактора представлены в табл. 1 и 2. Приведенные ошибки подгоночных параметров соответствуют 95%-ному доверительному интервалу и представляют удвоенное стандартное отклонение подгоночных кривых от совокупности экспериментальных данных.
Таблица 2. Сводные данные по захвату O₃ на покрытии из MgCl₂ ∙ 6H₂O при Т = 254 К
[O₃], 10¹³ см⁻³ | RH, % | γr, 10⁻⁴ | 1/τ, с⁻¹ | Ссылка |
0.03 | 0 | < 0.1 | — | [50] |
2.6 | 0 | 2.1 ± 0.3 | 0.04 ± 0.02 | Эта работа |
4.3 | 4.9 | 2.2 ± 1 | 0.1 ± 0.05 | » |
5.7 | 9.1 | 2.3 ± 1 | 0.074 ± 0.04 | » |
8.7 | 24 | 2.2 ± 0.8 | 0.13 ± 0.05 | » |
Захват О₃ на солевом покрытии из MgCl₂ ∙ 6H₂O при Т = 295 К
Параметры γr и 1/t из табл. 1 в соответствии с их представлением в виде (2) приведены на рис. 3 и 4. Амплитудная величина γr при [O₃] = 5 ∙ 10¹¹ см⁻³взята из имеющихся в литературе данных по захвату озона на покрытии из натуральной морской соли и MgBr₂· 6H₂O при комнатной температуре [45]. Данные по захвату озона на MgCl₂ · 6H₂O в литературе отсутствуют. Малое различие коэффициентов захвата О₃ на солевом покрытии и покрытии из MgBr₂ · 6H₂O обусловлено, вероятно, одинаковым механизмом захвата, при котором основную роль играет кристаллогидратная вода. Исходя из этого предположения, коэффициент захвата при предельно низкой концентрации взят из литературных данных, относящихся к аналогичному компоненту морской соли.
Рис. 3. Зависимость параметра γᵣ времязависимого захвата O₃ на покрытии из MgCl₂ · 6H₂O при T = 295 K от [O₃]: символы – экспериментальные данные из табл. 1, сплошная прямая – аппроксимация по формуле (3) с параметрами γr, max и KL из табл. 3.
С точки зрения установления механизма захвата, данные при этой концентрации имеют принципиальное значение, но этот диапазон концентрации лежит за пределом нашей абсолютной чувствительности. Форма зависимости амплитудной величины γr от концентрации озона на рис. 3 соответствует механизму захвата через реакцию адсорбированной молекулы на поверхности: величина γr обратно пропорциональна [O₃] при больших значениях [O₃] и практически не зависит от [O₃] при малой концентрации озона. В соответствии с ленгмюровским представлением захват происходит по схеме [49]
(R1)
которая включает в себя обратимую адсорбцию молекулы О₃, образование поверхностного комплекса и его последующий мономолекулярный распад с выходом в газовую фазу молекулярного хлора. Зависимость γr от [O₃] должна выражаться соотношением
. (3)
Зависимость коэффициента захвата от времени экспозиции описывается соотношением (2) с постоянной времени
(4)
где q = KL[O₃]/(1 + KL[O₃]) – доля поверхности, занятая адсорбированными молекулами; KL = ka /(kd[z0(t = 0)]) – коэффициент Ленгмюра; ka = αscO₃/4 – константа скорости адсорбции; kd – константа скорости десорбции; kr – константа скорости мономолекулярного распада поверхностного комплекса O₃ … z; [z0(t = 0)] = 2.26 · 10¹⁴ см⁻² – начальная плотность активных поверхностных центров на солевом покрытии, согласно кристаллической структуре кристаллогидрата MgCl₂ ∙ 6H₂O [16]; αs ≤ 1 – коэффициент поверхностной аккомодации. Результаты аппроксимации экспериментальных зависимостей γr и 1/t от концентрации озона по формулам (3) и (4) с подгоночными параметрами γr, max, KL и kr приведены на рис. 3 и 4, а полученные значения этих подгоночных параметров – в табл. 3.
Рис. 4. Зависимость параметра τ⁻¹ времязависимого захвата O₃ на покрытии из MgCl₂ · 6H₂O при T = 295 K от [O₃]: символы – экспериментальные данные из табл. 1, сплошная прямая – аппроксимация по формуле (4) с параметрами KL и kᵣ из табл. 3.
Таблица 3. Элементарные параметры аналитического представления коэффициента времязависимого захвата O₃ на покрытии из MgCl₂ ∙ 6H₂O
T, K | γr, max 10⁻⁴ | KL, 10⁻¹³см³ | kᵣ | Механизм |
295 | 10.4 ± 2.4 | 0.48 ± 0.13 | 0.11 ± 0.06, с⁻¹ | мономолекулярный распад, реакция (R1) |
254 | 2.4 ± 0.1 | 2 ± 0.6 | (1.7 ± 0.2) · 10⁻¹⁵, см³/молекула ‧ с | механизм Или–Ридила, реакция (R2) |
Захват О₃ на солевом покрытии из MgCl₂ ∙ 6H₂O при Т = 254 К
Результаты исследования захвата озона на солевом покрытии при низкой температуре приведены в табл. 2, а также на рис. 5 и 6. Данные по измерению коэффициента захвата озона при [O₃] = 3 ∙ 10¹¹ см⁻³взяты из имеющихся в литературе данных по захвату O₃ на водяном льде и являются лишь оценкой сверху [50]. Для нас этот диапазон концентраций недоступен из-за недостаточной абсолютной чувствительности прибора.
Рис. 5. Зависимость параметра γᵣ времязависимого захвата O₃ на покрытии из MgCl₂ · 6H₂O при T = 254 K от [O₃]: символы – экспериментальные данные из табл. 2, сплошная прямая – аппроксимация по формуле (6) с параметрами γr, max и KL из табл. 3.
Зависимость амплитудной величины коэффициента захвата от концентрации озона специфична и соответствует рекомбинации по реакционному механизму Или–Ридила. Для этого механизма характерно отсутствие зависимости коэффициента захвата от концентрации [O₃] при больших концентрациях газа-реагента и отсутствие захвата при малых его концентрациях. В соответствии с ленгмюровским представлением захват происходит по схеме [49]
(R2)
которая включает в себя последовательность ряда элементарных процессов: обратимую адсорбцию молекул [O₃], образование поверхностного комплекса, его реакцию с молекулой озона из газовой фазы и выходом в газовую фазу молекулы кислорода. Образование хлора при этом не происходит. Зависимость g(t) от [O₃] и от времени экспозиции описывается соотношением (2) с параметрами
(6)
(7)
За исключением kr, все обозначения аналогичны приведенным выше. Здесь kr – константа скорости бимолекулярной гетерогенной реакции.
Рис. 6. Зависимость параметра τ⁻¹ времязависимого захвата O₃ на покрытии из MgCl₂ · 6H₂O при T = 254 K от [O₃]: символы – экспериментальные данные из табл. 2, сплошная прямая – аппроксимация по формуле (7) с параметрами KL и kᵣ из табл. 3
Результаты аппроксимации экспериментальных зависимостей по формулам (6) и (7) с подгоночными параметрами γr, max, KL и kr приведены на рис. 5 и 6, а полученные значения этих подгоночных параметров – в табл. 3. Из данных табл. 2 по захвату О₃ при низких температурах следует, что коэффициент захвата не зависит от влажности в диапазоне значений RH от нуля до 24%. Верхний диапазон достижимой влажности ограничен возможностью методики.
ВЫВОДЫ И АТМОСФЕРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Детальный механизм захвата озона на покрытиях из растворов морской соли, ее отдельных компонентов и их растворов обсуждался ранее в ряде работ [6, 21, 44, 51]. Общепринятым является ионный механизм захвата, при котором свободный галоген образуется в результате последовательности следующих процессов: обратимая адсорбция озона на поверхности водного раствора соли либо на так называемой “сильно связанной воде”, содержащейся в кристаллогидрате; проникновение озона внутрь раствора; его реакция с электроотрицательной ионной компонентой галогена; его нейтрализация электроположительной компонентой H₃O+ и выход в газовую фазу свободного галогена.
В данной работе мы приводим феноменологическую модель захвата, основанную на его внешних проявлениях, таких как времязависимый характер и зависимость коэффициента захвата от концентрации озона. Как следует из результатов аппроксимации экспериментальных зависимостей, такое модельное представление на базе простого ленгмюровского подхода адекватно описывает захват озона при изменении его концентрации от 20 ppb до 6.5 ppm. В качестве иллюстрации в табл. 4 приведены результаты оценки коэффициента захвата озона на покрытии из морской соли MgCl₂ ∙ 6H₂O при двух его типичных концентрациях в приполярных областях.
Важным фактором является времязависимый характер захвата, связанный с конечной плотностью активных поверхностных центров. При этом характерное время реакции, τ, определяется долей поверхности, занятой адсорбированными молекулами, и зависящей, в свою очередь, от концентрации молекул в объеме. С другой стороны, время жизни аэрозольных частиц тоже конечно и определяется скоростью их диффузионного осаждения [52]:
(8)
где H0 ≈ 1 км – высота прибрежной морской атмосферы, Dp = 10 м² ‧ атм ‧ с⁻¹ – коэффициент турбулентной диффузии аэрозольных частиц [53]. Таким образом, усредненное значение коэффициента захвата за время жизни аэрозольной частицы будет определяться совокупностью этих характерных времен:
null, (9)
Подстановка в (9) τdif из (8) и g(t) в виде (2) с параметрами γr и τ из табл. 4 позволяет оценить усредненный коэффициент захвата при указанных концентрациях озона.
Таблица 4. Влияние временно́й зависимости коэффициента захвата O₃ на покрытии из MgCl₂∙6H₂O на его усредненную величину
[O₃], ppb | T, K | τ, мин | γr, 10⁻⁴ | <γr>, 10⁻⁴ |
20 | 295 | 6 | 10.2 | 0.07 |
130 | 295 | 1 | 9 | 0.01 |
20 | 254 | 200 | 0.2 | 0.05 |
130 | 254 | 4.5 | 1 | 0.005 |
При этом оказывается возможным оценить такой важный параметр процесса захвата, как коэффициент Ленгмюра. Он определяет долю поверхности, занятой адсорбированными молекулами. Этот параметр фигурирует в модельном представлении захвата газов-реагентов в условиях их многокомпонентного состава [54], в том числе в случае, когда возможен повторный захват на твердых продуктах захвата конкурирующего адсорбата [48, 55].
Данная работа финансировалась за счет средств бюджета института в рамках темы № 122040500059-8. Никаких дополнительных грантов на проведение или руководство данным конкретным исследованием получено не было.
About the authors
V. V. Zelenov
Semenov Federal Research Center for Chemical Physics, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: v.zelenov48@gmail.com
Russian Federation, Moscow
E. V. Aparina
Semenov Federal Research Center for Chemical Physics, Russian Academy of Sciences
Email: v.zelenov48@gmail.com
Russian Federation, Moscow
References
- Shinozuka Y., Clarke A.D., Howell S.G. et al. // J. Geophys. Res. 2004. V. 109. P. D24201; https://doi.org/10.1029/2004JD004975
- Bondy A.L., Wang B., Laskin A. et al. // Environ. Sci. Technol. 2017. V. 51. P. 9533; https://doi.org/10.1021/acs.est.7b02085
- Liu S., Liu C.-C., Froid K.D. et al. // PNAS. 2020. V. 118. № 9. P. e2020583118; https://doi.org/10.1073/pnas.2020583118
- Liao H., Chen W.-T., Seinfeld J.H. // J. Geophys. Res. 2006. V. 111. P. D12304; https://doi.org/10.1029/2005JD006852, 2006
- Vignati E., Facchini M.C., Rinaldi M. et al. // Atmos. Environ. 2010. V. 44. P. 670; https://doi:org/10.1016/atmosenv.2009.11.013
- Su B., Wang T., Zhang G. et al. // Atmos. Environ. 2022. V. 290. P. 119365; https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2022.119365
- Jaeglé L., Quinn P.K., Bates T.S. et al. // Atmos. Chem. Phys. 2011. V. 11. P. 3137; https://doi.org/10.5194/acp-11-3137-2011
- Quinn P.K., Coffman D.J. // J. Geophys. Res. 1998. V. 103. P. D16575; https://doi.org/10.1029/97JD03757
- Bates T.S., Quinn P.K., Coffman D.J. et al. // J. Geophys. Res. 2001. V. 106. P. D20767; https://doi.org/10.1029/2000JD900578
- Spada M., Pérez Garcia-Pando C., Janjic Z., Baldasano J.M. // Atmos. Environ. 2015. V. 101. P. 41; http://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2014.11.019
- Piazzola J., Despiau S. // J. Aerosol Sci. 1997. V. 28. P. 1579; https://doi.org/10.1016/S0021-8502(97)00020-7
- Murphy D.M., Froyd K.D., Bian H. et al. // Atmos. Chem. Phys. 2019. V. 19. P. 4093; https://doi.org/10.5194/acp-19-4093-2019
- Bian H., Froyd K., Murphy D.M. et al. // Atmos. Chem. Phys. 2019. V. 19. P. 10773; https://doi.org/10.5194/acp-19-10773-2019
- Deuzé J.L., Herman M., Goloub P. et al. // Geophys. Res. Lett. 1999. V. 26. P. 1421; https://doi.org/10.1029/1999GL900168
- Feng L., Shen H., Zhu Y. et al. // Sci. Rep. 2017. V. 7. P. 41260; https://doi.org/10.1038/srep41260
- Nikol’skii B.P. Chemist’s Handbook. M.: Khimiya, 1966 (in Russian).
- Finlayson-Pitts B.J. // Chem. Rev. 2003. V. 103. P. 4801; https://doi.org/10.1021/cr020653t
- Rossi M.J. // Chem. Rev. 2003. V. 103. P. 4823; https://doi.org/10.1021/cr020507n
- Abbatt J.P.D., Waschewsky G.C.G. // J. Phys. Chem. 1998. V. 102. P. 3719; https://doi.org/10.1021/jp980932d
- Larin I.K., Aloyan A.E., Ermakov A.N. // Russian J. Phys. Chem. B 2021. V. 15. № 3. P. 577; https://doi.org/10.1134/S199079312103009X
- Sander E., Crutzen P.J. // J. Geophys. Res. 1996. V. 101. P. D9121; https://doi.org/10.1029/95JD03793
- Lehler E., Hönninger G., Platt U. // Atmos. Chem. Phys. 2004. V. 4. P. 2427; https://doi.org/10.5194/acp-4-2427-2004
- Cao L., Fan L., Li S., Yang S. // Atmos. Chem. Phys. 2022. V. 22. P. 3875; https://doi.org/10.5194/acp-22-3875-2022
- Womack C.C., Chace W.S., Wang S. et al. // Environ. Sci. Technol. 2023. V. 57. P. 1870; https://doi.org/10.1021/acs.est.2c05376
- Keene W.C., Stutz J., Pszenny A.A.P. et al. // J. Geophys. Res. 2007. V. 112. P. D10S12; https://doi.org/10.1029/2006JD007689
- Pechtl S., von Glasow R. // Geophys. Res. Lett. 2007. V. 34. P. L11813; https://doi.org/10.1029/2007GL029761
- Oum K.W., Lakin M.J., DeHaan D.O. et al. // Science. 1998. V. 279. P. 74; https://doi.org/10.1126/science279.5347.74
- Evstafeva E.V., Lapchenko V.A., Makarova A.S. et al. // Russ. J. Phys. Chem. B 2019. V. 13. P. 1011; https://doi.org/10.1134/S1990793119060034
- Shi W., Sun Q., Du P. et al. // Environ. Sci. Technol. 2020. V. 54. P. 2859; https://doi.org/10.1021/acs.est.9b05978
- Jacob D.J. // Atmos. Environ. 2000. V. 34. P. 2131; https://doi.org/10.1016/S1352-2310(99)00462-8
- Monks P.S., Archibald A.T., Colette A. et al. // Atmos. Chem. Phys. 2015. V. 15. P. 8889; https://doi.org/10.5194/acp-15-8889-2015
- Andersen S.T., Nelson B.S., Read K.A. et al. // Atmos. Chem. Phys. 2022. V. 22. P. 15747; https://doi.org/10.5194/acp-22-15747-2022
- Larin I.K. // Russian J. Phys. Chem. B 2022. V. 16. № 3. P. 492; https://doi.org/10.1134/S1990793122030083
- Cristofanelli P., Putero D., Bonasoni P. et al. // Atmos. Environ. 2018. V. 177. P. 54; https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2018.01.007
- Derwent R.G., Parrish D.D. // Atmos. Environ. 2022. V. 286. P. 119222; https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2022.119222
- Sun L., Xue L., Wang Y. et al. // Atmos. Chem. Phys. 2019. V. 19. P. 1455; https://doi.org/10.5194/acp-19-1455-2019
- Riley M.L., Watt S., Jiang N. // Atmos. Environ. 2022. V. 281. P. 119143; https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2022.119143
- Nussbaumer C., Cohen R.C. // Environ. Sci. Technol. 2020. V. 54. P. 15652; https://doi.org/10.1021/acs.est.0c04910
- Yusoff M.F., Latif M.T., Juneng L. et al. // Atmos. Environ. 2019. V. 207. P. 105; https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2019.03.023
- Gong C., Liao H. // Atmos. Chem. Phys. 2019. V. 19. P. 13725; https://doi.org/10.5194/acp-19-13725-2019
- Wang W., Yuan B., Peng Y. et al. // Atmos. Chem. Phys. 2022. V. 22. P. 4117; https://doi.org/10.5194/acp-22-4117-2022
- Alebic-Juretic A., Cvitas T., Klasinc L. // Environ. Monitor. Assess. 1997. V. 44. P. 241; https://doi.org/10.1023/A:1005788624410
- Oum K.W., Lakin M.J., Finlayson-Pitts B.J. // Geophys. Res. Lett. 1998. V. 25. P. 3923; https://doi.org/10.1029/1998GL900078
- Hirokawa J., Onaka K., Kajii Y., Akimoto H. // Geophys. Res. Lett. 1998. V. 25. P. 2449; https://doi.org/10.1029/98GL01815
- Mochida M., Hirokawa J., Akimoto H. // Geophys. Res. Lett. 2000. V. 27. P. 2629; https://doi.org/10.1029/1999GL010927
- Sadanaga Y., Hirokawa J., Akimoto H. // Geophys. Res. Lett. 2001. V. 28. P. 4433; https://doi.org/10.1029/2001GL013722
- Zelenov V.V., Aparina E.V., Chudinov A.V., Kashtanov S.A. // Russian J. Phys. Chem. B 2010. V. 4. № 3. P. 399; https://doi.org/10.1134/S1990793110030061
- Zelenov V.V., Aparina E.V. // Russian J. Phys. Chem. B 2023. V. 17. № 1. P. 234; https://doi.org/10.1134/S1990793123010141
- Laidler K.J. Chemical kinetics. 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1965.
- Utter R.G., Burkholder J.B., Howard C.J., Ravishankara A.R. // J. Phys. Chem. 1992. V. 96. P. 4973; https://doi.org/10.1021/j100191a045
- Moreno C., Baeza-Romero M.T. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2019. V. 21. P. 19835; https://doi.org/10.1039/c9cpo3430g
- Ivliev L.S. Chemical Composition and Structure of Atmospheric Aerosols. Leningr. Gos. Univ., Leningrad, 1982 (in Russian).
- Brasseur G., Solomon S. Aeronomy of the Middle Atmosphere. 3rd ed. Dordrecht, Netherlands: Springer, 2005.
- Kolb C.E., Cox R.A., Abbatt J.P.D., Ammann M., Davis E.J. et al. // Atmos. Chem. Phys. 2010. V. 10. P. 10561; https://doi.org/10.5194/acp-10-10561-2010
- Zelenov V.V., Aparina E.V. // Russian J. Phys. Chem. B 2021. V. 15. № 5. P. 919; https://doi.org/10.1134/S199079312050225
Supplementary files