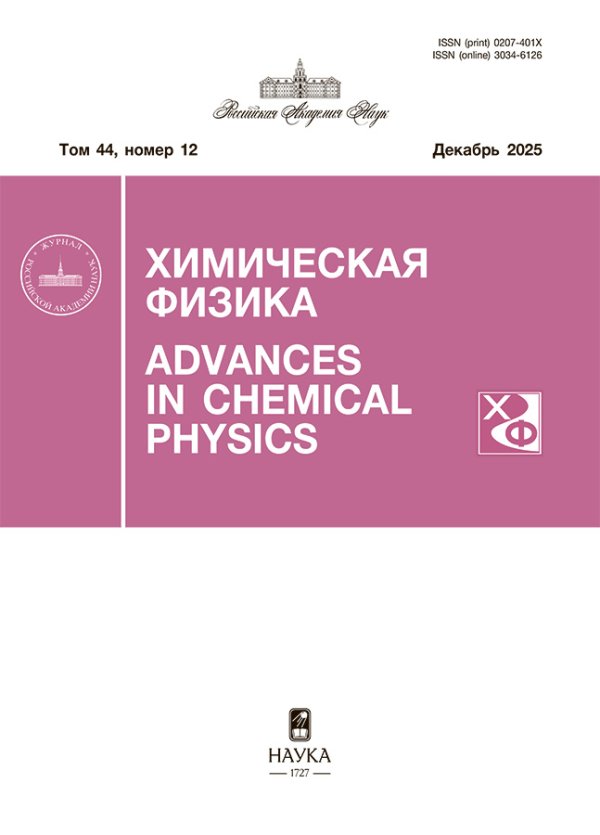Heterogeneous reaction of dimethyl sulfide with a chlorine atom
- Authors: Larin I.K.1, Pronchev G.B.1, Trofimova E.M.1
-
Affiliations:
- Semenov Federal Research Center for Chemical Physics of the Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 43, No 6 (2024)
- Pages: 16-24
- Section: Kinetics and mechanism of chemical reactions, catalysis
- URL: https://bakhtiniada.ru/0207-401X/article/view/273047
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0207401X24060021
- ID: 273047
Cite item
Full Text
Abstract
By the method of resonant fluorescence (RF) of chlorine atoms, the reaction rate constant of a chlorine atom with dimethyl sulfide (DMS) was measured in the temperature range 308–366 K. It is shown that the reaction rate constant decreases during experiments at a higher temperature. At a temperature of 308 K, the rate constant of this reaction was measured at different ratios of the reaction time and the diffusion time of chlorine atoms to the reactor wall. The data of these experiments showed that with an increase in the diffusion time of the active centers to the surface of the reactor, compared with the contact time of the reagents, a decrease in the measured reaction rate constant is observed. This allowed us to assert that the reaction is heterogeneous and the interaction of the chlorine atom with the DMC occurs on the surface of the reactor.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
В последние годы появилось значительное количество исследований, посвященных реакциям диметилсульфида (ДМС) с различными компонентами атмосферы. Эти реакции играют особенно большую роль в химии тропосферы, поскольку концентрация ДМС в ней составляет по меньшей мере половину от концентраций всех поступающих в нее серосодержащих веществ [1].
Диметилсульфид образуется в результате фотохимического распада океанического фитопланктона [2, 3]. При его окислении образуются сульфатные аэрозоли и ядра конденсации облаков [4, 5]. Наличие облаков регулирует поступление солнечного света на Землю, а также создает парниковый эффект за счет поглощения инфракрасного излучения с поверхности Земли молекулами воды. Все это оказывает влияние на климат всей планеты. [6–8]. Если учесть, что океаны, которые являются хранилищами фитопланктона, занимают 75% поверхности Земли, то это влияние может быть очень значительным.
Образование аэрозолей также играет значительную роль в химии атмосферы, так как на поверхности их частиц происходят химические процессы, протекающие, как правило, с бо́льшими скоростями, чем аналогичные гомогенные реакции. Ранее общепринятым являлось представление о том, что ДМС в основном окисляется гидроксил-радикалами в дневное время и NO₃-радикалами в ночное время [9, 10]. Однако в последнее время целый ряд исследований посвящен роли галогенов и их оксидов в этом процессе [11, 12].
При этом значительное внимание в этих работах уделено реакции ДМС с атомами хлора [13, 14]. Атомы хлора возникают при фотолизе молекулярного хлора, образующегося при окислении хлорида натрия, содержащегося в морской воде. Окисление происходит при участии тропосферного озона и ClNO₃ в гетерогенных реакциях, происходящих на поверхности частиц аэрозолей морских солей.
Исследованная в работе [13] реакция ДМС с атомами хлора имела отрицательную температурную зависимость, что позволило предположить, что она протекает с образованием промежуточного комплекса атома хлора с ДМС. Такое же предположение высказано и в работе [14].
Однако возможна и другая причина отрицательной температурной зависимости – гетерогенное протекание реакции. Такую зависимость мы ранее наблюдали, например исследуя реакции радикала оксида йода IO c различными соединениями серы [15]. Гетерогенные процессы, идущие, как правило, с бо́льшими скоростями, чем соответствующие реакции в газовой фазе, могут происходить над поверхностью морей и океанов на поверхности частиц аэрозолей морских солей и сульфатных аэрозолей.
Данная работа посвящена выяснению вопроса, где в условиях наших экспериментов протекает реакция атомов хлора с ДМС: в объеме или на поверхности реактора.
1. ЭКСПЕРИМЕНТ
Экспериментальная установка включала в себя источник атомов хлора, систему их регистрации, реактор и систему подачи реагентов. Опыты проводили в струевых условиях в реакторе, который имел водяную рубашку, присоединенную к термостату, что позволяло изменять его температуру в диапазоне 273–366 K и поддерживать ее с точностью ±1°С.
Поверхность реактора промывали хромпиком, споласкивали дистиллированной водой, после чего покрывали фторопластом 32Л для уменьшения гетерогенной гибели атомов Cl. Реактор был снабжен подвижным вводом атомов хлора в виде тонкой трубки с тефлоновым уплотнением, что позволяло перемещать ее вдоль оси реактора без нарушения герметичности. Это давало возможность изменять время контакта реагентов. Схема реактора представлена на рис. 1.
Рис. 1. Схема реактора.
Атомы хлора генерировали разрядом с частотой 254 МГц и мощностью 2.5 Вт в потоке смеси Cl₂ с гелием в соотношении 1 : 10 000. Линия подачи молекулярного хлора была изготовлена из стекла и тефлоновых запорных вентилей без применения вакуумной смазки. Молекулярный хлор синтезировали, окисляя HCl перманганатом калия (KMnO4), очищали низкотемпературной перегонкой и хранили в стеклянных баллонах. При проведении экспериментов он поступал через капилляр в поток He, проходящий через проточную резонансную лампу и через источник атомов хлора.
Для регистрации атомов хлора был использован метод атомной резонансной флуоресценции (РФ), работающий в режиме счета фотонов. В качестве источника резонансного излучения использовалась проточная лампа, работающая на смеси Cl₂ с гелием (1 ‧ 10¹³ и 1 ‧ 10¹⁷ молекул/см³ соответственно) и возбуждаемая разрядом с частотой 254 МГ и мощностью 2.5 Вт. Поверхность зоны разряда была обработана ортофосфорной кислотой. Корпус лампы был выполнен из кварцевой трубки с внешним диаметром 6 мм и толщиной стенки 1 мм. Давление в лампе изменяли в пределах от 0.5 до 1 Торр и регистрировали с помощью манометра “Сапфир 24Д” с точностью ±0.05 Торр. Для возбуждения разряда использовали резонатор Бройда, который питали от микроволнового генератора для сантиметровой микроволновой терапии “Луч 3М”. Лампа излучала резонансную линию с длиной волны 118.9 нм атомов хлора. Переизлученные атомами хлора фотоны регистрировались фото ионизационным счетчиком собственного производства авторов, работающим в диапазоне 117–134 нм. Счетчик был заполнен смесью аргона и окиси азота: 10 Торр NO и 230 Торр Ar. Длинноволновая граница счетчика определялась потенциалом ионизации NO, равным 8.7 эВ [16], и составляла ~133.8 нм. Лампа и счетчик были снабжены стеклами из MgF₂, что определяло коротковолновую границу регистрации (117 нм). Сигнал со счетчика через частотомер в режиме счета импульсов подавался на компьютер для накопления и последующей обработки.
Для калибровки абсолютной чувствительности системы к атомам хлора использовалось титрование с помощью этана (C2H6) марки “ХЧ”, который хранили в стеклянном баллоне и добавляли в реактор через боковой ввод. Этан как титрующий агент был использован нами, так как он быстро реагирует с атомами хлора:
C₂H₆ + Cl · → C₂H₅ · + HCl.
Значение константы скорости реакции (А) при 298 К составляет величину k = 5.7 ‧ 10⁻¹¹молекула⁻¹‧ см³ ‧ с⁻¹ [17].
Титрование атомов хлора проводили путем добавления небольших измеренных потоков C2H6 через капилляр в поток кислорода. Величину потока C2H6 измеряли по падению давления в откалиброванном резервуаре, содержащем C2H6 при высоком давлении (700 Торр) и размещенном на входе в реактор. Этан добавляли в поток атомов хлора до тех пор, пока сигнал РФ атомов хлора не падал до нуля. Подробно методика калибровки абсолютной чувствительности системы к атомам хлора описана нами в работе [18]. Отношение сигнал/шум, равное двум, получено при концентрации атомов хлора 0.8 ‧ 1010 молекул/см³.
2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Вначале мы измеряли сигнал РФ атомов хлора (J0) в отсутствие второго реагента (ДМС) на различных расстояниях от зоны регистрации, перемещая подвижное сопло вдоль вертикальной оси реактора. Затем из градуированного объема через боковой вход, снабженный вентилем тонкой регулировки, в реактор поступал ДМС, который вступал в реакцию с атомами хлора:
Cl + ДМС → Продукты. (I)
Диметилсульфид мы синтезировали, используя реакцию йодистого метила CH₃I с Na₂S, и затем очищали путем многократной низкотемпературной перегонки.
За расходованием атомов хлора в реакции (I) мы следили, измеряя сигнал РФ атомов хлора (J). Предполагая, что атомы хлора могут не только реагировать с ДМС, но и взаимодействовать со стенкой реактора, полное выражение для скорости расходования атомов хлора в ходе изучаемой реакции можно записать следующим образом:
d[Cl]/dt = −kI [ДМС][Cl] − kгет[Cl], (1)
где kI – константа скорости бимолекулярной реакции атомов хлора с ДМС (молекула⁻¹‧ см³ ‧ с⁻¹); kгет – константа гибели атома хлора на стенке реактора (с⁻¹).
В условиях, когда в реактор не поступает ДМС, выражение (1) приобретает вид
d[Cl]/dt = −kI [Cl₀] (2)
После деления на [Cl₀] и интегрирования получим
ln[Cl₀] = −kгет. t (3)
где [Cl₀] – концентрация атомов хлора при нулевой концентрации атмосферного реагента.
В результате выражение (1) после несложных преобразований приобретает вид
In ([Cl₀ ]/[Cl]) = kI KMC]t. (4)
Так как сигнал РФ атомов хлора J пропорционален их концентрации, т.е. J ∝ [Cl], то выражение (4) переходит в следующее:
ln( J₀/J)) = kI[MC]t. (5)
Выражение (5) позволяет определить константу скорости реакции (I) двумя способами. Можно измерять зависимость сигнала РФ атомов хлора от концентрации ДМС при определенном времени контакта реагентов или изменять время контакта реагентов при неизменной концентрации ДМС.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА
На рис. 2 представлена зависимость ln(J₀/J) от концентрации ДМС при времени контакта реагентов 0.007 с; T = 308 К, давлении в реакторе 0.95 Торр и [Cl] = 4.8 ‧ 10¹¹ молекул/см³. Разбавителем служил гелий марки “ВЧ”.
Рис. 2. График зависимости ln(J₀/J) от концентрации ДМС. Условия реакции: температура – 308 К, давление в реакторе – 0.95 Торр, [Cl] = 3.2 ‧ 10¹¹ молекул/см³ и [ДМС] = 5.1 ‧ 10¹¹ молекул/см³. Разбавителем служил гелий.
Используя значение тангенса угла наклона прямой на рис. 2, мы рассчитали константу скорости реакции (I), которая оказалась равной (2.0 ± 0.2) ‧ 10⁻¹⁰молекула⁻¹‧ см³ ‧ с⁻¹.
Результаты опыта, в котором измерялась зависимость ln (J0 /J) от времени t контакта реагентов при температуре 308К, давлении в реакторе 0.8 Торр, [Cl] = 3.2 ‧ 10¹¹ молекул/см³ и [ДМС] = 5.1 ‧ 10¹¹ молекул/см³, представлены на рис. 3. Разбавителем также служил гелий. Для того чтобы работать с такими низкими концентрациями ДМС, последний был в пятьдесят раз разбавлен азотом.
Рис. 3. График зависимости ln(J0/J) от времени контакта реагентов. Условия реакции: температура – 308 К, давление в реакторе – 0.8 Торр; [Cl] = 4.8 ‧ 10¹¹ молекул/см³ и [ДМС] = 5.1 ‧ 10⁻¹¹молекул/см³. Разбавителем служил гелий.
Используя значение тангенса угла наклона прямой на рис. 3, мы рассчитали константу скорости реакции (I), которая оказалась равной (2.2 ± 0.2) ‧ 10⁻¹⁰молекула⁻¹‧ см³ ‧ с⁻¹.
Рис. 4. Зависимость скорости реакции атомов хлора с диметилсульфидом от температуры в диапазоне температур 308–366 К. Разбавителем служил гелий.
Измерения, проведенные при давлении разбавителя гелия в реакторе около 1 Торр, в диапазоне температур 308–366 K позволили получить зависимость константы скорости реакции (I) от температуры: k(T) = 3.8 ‧ 10⁻¹¹ exp(4.6/RT), где R = 8.31 ‧ 10⁻³ Дж ‧ моль⁻¹‧ K⁻¹. Экспериментальные данные приведены на рис. 4 и в табл. 1.
Таблица 1. Зависимость константы скорости реакции атома хлора с диметилсульфидом от температуры
T, K | (1/T) ‧ 10³, град-1 | kI ‧ 10⁻¹⁰, молекула⁻¹‧ см³ ‧ с⁻¹ | ln (kI ‧ 10⁻¹⁰) |
308 | 3.2 | 2.2 | 0.79 |
338 | 2.9 | 1.92 | 0.65 |
343 | 2.8 | 1.75 | 0.56 |
366 | 2.7 | 1.68 | 0.52 |
Размерность константы скорости реакции (I), а также линейная зависимость от концентрации атмосферного реагента характерны для гомогенной бимолекулярной реакции. Однако это не гарантирует того, что реакция протекает в газовой фазе.
Нами ранее уже были изучены реакции, в которых также наблюдалась линейная зависимость скорости реакции от концентрации реагента, но тем не менее были получены доказательства гетерогенного протекания этих реакций [19–21].
Кроме того, авторы работы [22], изучавшие гетерогенную реакцию молекулы аэрозоля хлористого натрия с озоном, в результате которой образовывались атомы хлора, также наблюдали линейную зависимость от концентрации озона. Авторы приводят следующее значение константы скорости данной реакции: k ~10⁻¹⁸молекула⁻¹‧ см³ ‧ с⁻¹, т. е. размерность ее также соответствовала размерности константы скорости бимолекулярной реакции.
Полученное нами выражение для константы скорости реакции (I) означает, что она уменьшается при повышении температуры в реакторе. Одной из причин этого может быть гетерогенное протекание реакции. Хотя само по себе уменьшение константы скорости реакции с ростом температуры не является однозначным доказательством того, что мы имеем дело с гетерогенным процессом. Ранее нами были измерены константы скорости реакций оксида азота с оксидом йода и сероводорода с атомом хлора, значения констант скорости которых также уменьшались с ростом температуры, однако обе эти реакции оказались гомогенными [23, 24].
Для того чтобы выяснить, где протекает реакция (I), нужно было провести специальные опыты. Первая серия опытов была проведена нами в условиях быстрой диффузии атомов хлора к стенке реактора. Они представлены на рисунках 2–4. Вторая серия опытов была проведена в условиях, в которых была уменьшена скорость диффузии атомов хлора к стенке реактора. Для этого мы заменили разбавитель гелий на азот и увеличили давление в реакторе. Использовался азот марки “ХЧ”.
Диффузионные процессы переноса (радиальная и аксиальная диффузия) в тех условиях эксперимента, когда времена диффузии реагентов велики по сравнению со временами реакции, приводят к тому, что константа скорости реакции, определяемая в таких условиях (kef), оказывается заниженной по сравнению с истинной константой скорости (k). Особенно сильно этот эффект проявляется, если измеряемая константа скорости оказывается константой скорости гетерогенного процесса.
В работе [25] распределение концентрации активного реагента R в реакции, протекающей в струевых условиях, представлено в виде суммы сходящегося ряда. Показано, что за зоной установления профиля концентрации спад концентрации реагента вдоль реактора описывается одним экспоненциально затухающим множителем:
[R](z) ≈ exp{–(λ²/V)(z/r₀)}, (6)
где V = 2U₀r₀/D (v₀ – линейная скорость потока реагентов, r₀ – радиус реактора, D – коэффициент диффузии), z – координата вдоль пути реакции.
Величина λ² связана с характерным временем жизни атомов хлора в реакторе следующим соотношением:
λ² = 2τef −1r₀²/D, (7)
где
τ ef −1 = (−U₀dln[R](z)/dz) (8)
и определяется непосредственно в эксперименте.
В нашем случае
[R](z) = [Cl₀](z) [Cl](z) (9)
Отношение [Cl]₀(z) / [Cl](z) пропорционально отношению сигналов резонансной флуоресценции атомов хлора, а dz /v₀ равно времени контакта реагентов.
Более подробно математические выкладки изложены в работе [26]. С помощью программы, представленной в этой работе, мы рассчитали зависимость k/kef от λ² для случая, когда параллельно протекают и гомогенная, и гетерогенная реакции.
Значение коэффициента диффузии атома хлора в гелии рассчитано как среднее между величинами, приведенными в работе [27] (0.75 см² ‧ с⁻¹) и [28] (0.526 см² ‧ с⁻¹). Значение коэффициента диффузии атома хлора в азоте взято из работы [29]. При температуре 298 K оно равно 0.2 см² ‧ с⁻¹.
Коэффициенты диффузии были поправлены на температуру в соответствии с формулой, приведенной в работе [30]: D₀ (T) = D₀ (298) (T/298)1.5.
Рис. 5. График теоретической зависимости k/kнабл от λ² для случая чисто гомогенной реакции (нижняя кривая), чисто гетерогенной реакции (верхняя кривая) и для случаев, когда отношение kгет /(kгет + kгом) = 0.1, 0.2 и 0.5. Черные кружки – экспериментальные данные.
На рис. 5 приведена теоретическая зависимость k/kнабл от λ² для случая чисто гомогенной реакции (нижняя кривая), чисто гетерогенной реакции (верхняя кривая) и для случаев, когда отношение kгет /(kгет + kгом) = 0.1, 0.2 и 0.5. Кружками представлены данные экспериментов, приведенные в табл. 2.
Таблица 2. Зависимость отношения kI/kIнабл от параметра λ² при Т = 308 К
P, Торр | Газ-разбавитель | kI ‧10⁻¹⁰, молекула⁻¹‧ см³ ‧ с⁻¹ | λ2 | kI/kIнабл |
1.2 | He | 2.2 | 1 | 1 |
2.2 | N2 | 1.7 | 2.1 | 1.29 |
1.8 | N2 | 1.59 | 2.4 | 1.38 |
1.2 | N2 | 1.42 | 2.9 | 1.54 |
1.6 | N2 | 1.33 | 2.8 | 1.65 |
Сопоставление теоретических кривых с экспериментальными данными позволяет сделать вывод, что реакция (I) является гетерогенной. Значения τef-1, λ2 и отношения k/kнабл также приведены в табл. 2.
4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В работе [31] рассматривались два возможных канала реакции атома хлора с DMS:
Cl + ДМС + M → Cl – ДМС + M, (Ia);
Cl + ДМС → HCl + ДМС. (Iб)
Отмечалось, что при понижении давления, доля канала (Iб) приближается к единице.
В работе [13] реакция (I) изучалась в диапазоне температур 283–308 K при давлении 1 атм.
Было получено следующее выражение для константы скорости реакции:
kI = (4.22 ± 1.78) ‧ 10⁻¹³ exp{(16.36 ± 3.15)/RT} молекула⁻¹‧ см³ ‧ с⁻¹
То есть в данном случае также наблюдалось уменьшение значения константы скорости реакции с ростом температуры. Так как измерения проводились при высоком давлении, то полученные результаты можно объяснить образованием аддукта Cl–ДМС. Однако авторы не приводят данных о зависимости константы скорости реакции (I) от давления.
В работе [14] теоретически и экспериментально изучалось образование аддукта Cl–ДМС. Константа скорости стадии (Ia) при атмосферном давлении оказалась равной: 3.6 ‧ 10⁻¹⁰ молекула⁻¹‧ см³ ‧ с⁻¹. Наблюдалось уменьшение значения константы скорости реакции с ростом температуры. Такая зависимость является естественной для стадии (Ia).
В работе [32] измеряли константу скорости реакции (I), используя в качестве разбавителя гелий при давлении в реакторе от 0.5 до 1 Торр в диапазоне температур 259–365 K. Было показано, что при этих условиях доля канала (Ia) не превышает значения, равного 0.05.
Константа скорости канала (Iб) при температуре 298 K составила величину (6.9 ± 1.3) ‧ 10⁻¹¹молекула⁻¹‧ см³ ‧ с⁻¹. Было получено следующее выражение для константы скорости реакции (Iб) в зависимости от температуры:
kIb = (2.0 ± 1.2) ‧ 10⁻¹⁰ exp{(-332 ± 173)/T} молекула⁻¹‧ см³ ‧ с⁻¹
Отметим, что авторы наблюдали обычную зависимость константы скорости реакции от температуры, т.е. значение константы скорости реакции (Iб) увеличивалось с ростом температуры. Это находится в противоречии с нашими результатами, полученными при таких же низких давлениях в реакторе. Кроме того, рассчитанное нами из температурной зависимости значение kI при температуре 298 K, составило величину (2.4 ± 0.3) ‧ 10⁻¹⁰ молекула⁻¹‧ см³ ‧ с⁻¹, что в 3.5 раз превышает значение kIб при температуре 298 K из работы [32]. Расхождение данных работы [32] с результатами наших измерений можно объяснить тем, что авторы [32] измеряли константу скорости гомогенной реакции, а в наших условиях реакция (I) протекает на поверхности реактора. Линейная зависимость константы скорости говорит о том, что концентрация адсорбированного ДМС пропорциональна его концентрации в объеме.
Нередко гетерогенные реакции идут с большей скоростью, а также константа их скорости уменьшается с понижением температуры в реакторе [18, 19, 22]. Можно предположить, что в наших экспериментальных условиях (при низких давлениях в реакторе) увеличение константы скорости реакции (I) происходит за счет того, что при адсорбции одного из реагентов (ДМС) на поверхности реактора происходит выделение дополнительной энергии за счет образования химической связи с поверхностью реактора. Уменьшение константы скорости реакции (I) с ростом температуры реактора, по-видимому, говорит о том, что при более высокой температуре образуется более слабая связь.
Такое предположение было полностью подтверждено в экспериментах, проведенных в условиях, когда время диффузии активных частиц от поверхности реактора было увеличено. Это исказило профиль радиального распределения концентрации атомов хлора, образовав зону пониженной концентрации атомов в зоне регистрации, что привело к занижению значения измеряемой константы скорости реакции. Таким образом, было доказано, что в наших экспериментальных условиях реакция (I) является гетерогенной.
В природных условиях гетерогенная реакция ДМС с атомом хлора может происходить на поверхности морских аэрозолей.
ВЫВОДЫ
Значение константы скорости реакции ДМС с атомом хлора (I) получено двумя способами: путем измерения зависимости концентрации атомов хлора от концентрации ДМС при фиксированном времени контакта реагентов, а также путем измерения той же зависимости от времени контакта реагентов при неизменной концентрации ДМС.
Итоговые данные показали хорошее совпадение значений констант скорости реакции, полученных тем и другим способом измерений.
Измерена константа скорости реакции (I) в диапазоне температур 308–366 K. Показано, что значение константы скорости реакции уменьшается при увеличении температуры в реакторе.
Высказано предположение, что такая зависимость константы скорости от температуры связана с тем, что в условиях наших экспериментов реакция (I) протекает на поверхности реактора.
Были проведены измерения константы скорости данной реакции при разном соотношении времен контакта реагентов и диффузии к стенке реактора, результаты которых подтвердили высказанное предположение.
About the authors
I. K. Larin
Semenov Federal Research Center for Chemical Physics of the Russian Academy of Sciences
Email: eltrofimova@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
G. B. Pronchev
Semenov Federal Research Center for Chemical Physics of the Russian Academy of Sciences
Email: eltrofimova@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
E. M. Trofimova
Semenov Federal Research Center for Chemical Physics of the Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: eltrofimova@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
References
- Andreae M.O. // Mar. Chem. 1990. V. 30. P. 1.
- Kettle A.J., Andreae M.O. // J. Geophys. Res. 2000. V. 105. P. 26793.
- Bates T.S., Lamb B.K., Guenther A. et al. // J. Atmos. Chem. 1992. V. 14. P. 315.
- Larin I.K. // Russ. J. Phys. Chem. 2020. V. 14. № 2. P. 336; https://doi.org/10.1134/S1990793120020086
- Larin I.K., Aloyan A.E., Ermakov A.N. // J. Phys. Chem. 2021. V. 15. № 2. P. 357; https://doi.org/10.1134/S1990793121020081
- Golyak I.S., Anfimov D.R., Vintaykin I.B. et al. // J. Phys. Chem. 2023. V. 17. № 2. P. 320; https://doi.org/10.1134/S1990793123020264
- Larin I.K. // Russ. J. Phys. Chem. B 2020. V. 14. № 2. P. 344; https://doi.org/10.1134/S1990793120020256
- Aloyan A.E., Ermakov A.N., Arutyunyan V.O. // Russ. J. Phys. Chem. B 2019. V. 13. № 1. P. 214; https://doi.org/10.1134/S1990793119010032
- Chen Q., Sherwen T., Evans M., Alexander B. // Atmos. Chem. Phys. 2018. V. 18. P. 13617; https://doi.org/10.5194/acp-18-13617-2018
- Williams M.B., Campuzano-Jost P., Bauer D., Hynes A. // J. Phys. Chem. Lett. 2001. V. 344. P. 61.
- Nakano Y., Enami S., Nakamishi S. et al. // J. Phys. Chem. 2003. V. 107. P. 6381.
- Larin I.K., Belyakova T.I., Messineva N.A., Trofimova E.M. // Kinet. Katal. 2021. V. 62. P. 187;https://doi.org/10.31857/S0453881121020064
- Arsene C., Barnes I., Becker K.H., Benter T. // Int. J. Chem. Kinet. 2005. V. 37. P. 66.
- Enami S., Nakano Y., Hashimoto S. et al. // J. Phys. Chem. 2004. V. 108. P. 7785.
- Larin I.K., Spasskii A.I., Trofimova E.M., Turkin L.E. // Kinet. Katal. 2000. V. 41. № 4. P. 437; https://doi.org/10.1007/BF02756058
- Kikoin I.K. Tablitsy fizicheskikh velichin (Tables of physical values). Moscow: Atomizdat, 1976.
- Atkinson R., Baulsh D.V., Cox R.F. et al. // J. Phys. Chem. Ref. Data. 1992. V. 21. P. 1125.
- Larin I.K., Spasskii A.I., Turkin L.E., Trofimova E.M. // Kinet. Katal. 2003. V. 44. № 2. P. 218.
- Larin I.K., Spasskii A.I., Trofimova E.M., Turkin L.E. // Kinet. Catal. 2010. V. 51. № 3. P. 369.
- Larin I.K., Spasskii A.I., Trofimova E.M. // Izv. Ross. Akad. Nauk, Energ. 2012. V. 3. P. 44.
- Larin I.K., Spasskii A.I., Trofimova E.M. // J. Phys. Chem. 2019. V. 13. № 2. P. 256; https://doi.org/10.1134/S1990793119020180
- Behnke W., Zetsch C. // J. Aerosol Sci. 1989. V. 20. № 8. P. 116.
- Buben S.N., Larin I.K., Messineva N.A., Trofimova E.M. // Chem. Phys. Rep. 1996. V. 15. № 1.
- Larin I.K., Belyakova T.I., Messineva N.A., Trofimova E.M. // J. Phys. Chem. 2023. V. 17. № 2. P. 510; https://doi.org/10.1134/S199079312302029X
- Gershenzon Yu.M., Rozenshtein V.B., Spasskii A., Kogan A.M. // Dokl. Akad. Nauk SSSR. 1972. V. 205. P. 624.
- Orkin V.L., Khamaganov V.G., Larin I.K. // Intern. J. Chem. Kinet. 1993. V. 25. P. 67.
- Hwang C.J., Jiang R.C., Su T.M. // J. Chem. Phys. 1986. V. 84. P. 5095.
- Cotter E.S.N., Booth N.J., Canosa-Mas C.E. et al. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2001. V. 3. P. 402.
- Hwang C.J., Su T.M. // J. Chem. Phys. 1987. V. 91. P. 2351.
- Fuller E.M., Ensue K., Giddins J.Q. // J. Phys. Chem. 1969. V. 73. P. 3679.
- Stickel R.E., Nicovich J.M., Wang S., Zhao Z., Wine P.H. // J. Phys. Chem. 1992. V. 96. P. 9875.
- Díaz-de-Mera Y., Aranda A., Rodríguez D. et al. // J. Phys. Chem. A. 2002. V. 106. P. 8627.
Supplementary files