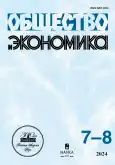The education sphere of post-soviet russia in the mirror of the labour market requirements and the needs of the population
- Autores: Soboleva I.1
-
Afiliações:
- Institute of Economics (RAS)
- Edição: Nº 7-8 (2024)
- Páginas: 41-56
- Seção: SOCIAL ISSUES
- URL: https://bakhtiniada.ru/0207-3676/article/view/268594
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0207367624070033
- EDN: https://elibrary.ru/bakbfw
- ID: 268594
Texto integral
Resumo
Within the theoretical framework of social and individual needs satisfied in the sphere of education, the paper traces the main stages of educational reforms in the post-Soviet Russia, analyzes the consequences of the reforms for social development and for the labor market. It is shown that during the period of socio-economic transformations and adaptation to market realities, underestimation of specific features of educational process undermined its key functions and led to the formation of degradation mechanisms. The underlying factors exacerbating professional-educational mismatch and weakening mechanisms of social equalization are revealed. Taking into account the specifics of the sphere of education, alternative approaches to its financing are discussed.
Palavras-chave
Texto integral
Введение
Сегодня практически все исследователи и хозяйственники главным барьером для обеспечения устойчивого экономического роста видят обострившийся кадровый голод. Кадровые агентства фиксируют дефицит работников самых разных специальностей. Потенциальная рабочая сила стремительно сокращается, свидетельствуя о постепенном истощении незадействованного ресурса труда. Однако при резком сокращении безработицы и исчерпании резервов трудовых ресурсов пока что численность занятых, напротив, демонстрирует тенденцию к росту. В 2023 г. она достигла 73,7 млн человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 1 млн человек (1,4%). Иными словами, устойчиво неблагоприятная демографическая динамика хотя и должна стать серьезным фактором сокращения предложения труда в стратегической перспективе, в настоящее время не вносит особого вклада в нарастающий дисбаланс спроса и предложения на рынке труда. Две зоны наиболее ощутимого дефицита – ниши малоквалифицированного труда в гостиничном и ресторанном бизнесе, строительстве, торговле и секторы экономики, опирающиеся на труд высокой квалификации. И если в первом случае важным фактором стало сокращение притока мигрантов, то за нехватку квалифицированных работников в немалой степени ответственна формировавшаяся в процессе непрерывного реформирования система образования, не отвечающая нуждам сегодняшнего дня.
Образование играет важнейшую и растущую роль среди отраслей нематериального производства, обеспечивающих развитие человеческого потенциала, необходимого для успешного социально-экономического развития. В большинстве стран мира поддержка сферы образования декларируется как один из важнейших приоритетов государственной политики, а разработка эффективных механизмов такой поддержки, отвечающих динамично изменяющимся реалиям, неизменно попадает в фокус внимания исследователей и международных организаций. Россия с советских времен унаследовала одну из лучших на тот момент систем образования среди развитых стран, которую без преувеличения можно было считать одним из ключевых ресурсов национальной конкурентоспособности. По индикаторам уровня образования населения и накопленного человеческого капитала наша страна и сегодня удерживает достаточно высокие позиции в мировых рейтингах [30, 33]. В то же время траектория развития сферы образования была противоречивой. На протяжении последних десятилетий здесь накопилось немало проблем, требующих осмысления. Сегодня система образования несет глубокий отпечаток зависимости от недавнего прошлого и развивается по сформированной колее, выбраться из которой довольно трудно.
В статье сквозь призму системы общественных и индивидуальных потребностей, удовлетворяемых в сфере образования, прослеживаются основные этапы ее реформирования в постсоветский период, последствия этих реформ для социального развития и для рынка труда, обсуждаются альтернативные подходы к финансированию образования, учитывающие специфику производства и использования создаваемых здесь благ.
Особенности сферы образования
В комплексе отраслей нематериального производства сфера образования играет особую роль и обладает спецификой, отличающей ее от других социальных отраслей – таких как здравоохранение и культура. Отличительными особенностями этой сферы являются: 1) отложенный и часто сильно растянутый во времени эффект от потребления создаваемых здесь благ; 2) крайне высокая степень интерактивности во взаимодействии с потребителем; 3) «равновеликость» ее социальных и экономических функций и широкий спектр удовлетворяемых потребностей.
Монетарную и немонетарную отдачу от образования человек может ощущать на протяжении всей жизни, но пик этой отдачи, как правило, не приходится на первые годы трудовой карьеры [18, 32]. Существует немало свидетельств влияния образования как на динамику экономического роста [13, 34], так и в аспекте общего оздоровления социального климата [31]. Однако в большинстве случаев позитивный эффект развития образования как на индивидуальном, так и на общественном уровне проявляется с некоторым лагом, а отслеживание его связи с параметрами системы образования и с затратами труда и материальных ресурсов на его получение требует специальных усилий.
Процесс получения образования отличает основополагающая роль совместной деятельности контрагентов возникающих здесь отношений. Интерактивность в той или иной степени свойственна не только образованию, но и другим социальным отраслям, где производится нематериальный продукт, эффективность усвоения которого существенно по сравнению с материальным производством зависит от характеристик не только самого продукта, но и его потребителя. В случае культуры эффект взаимодействия особенно ощутим в исполнительских искусствах, где артистам необходима «энергетика» зрительного зала [11]. Однако и в других случаях восприятие предложенного продукта требует некоторых эмоциональных и интеллектуальных усилий со стороны потребителя. В здравоохранении важным фактором успешного лечения является уровень доверия медицинскому персоналу, моральный настрой и тщательность выполнения рекомендаций. Более того, согласие или несогласие на выполнение тех или иных действий дает сам пациент, тем самым непосредственно участвуя в формировании подхода к лечению [28].
Однако в сфере образования требуемый уровень интерактивности качественно иной. Получение образования предполагает затраты труда обучаемого, по крайней мере сопоставимые с затратами труда педагога, а во многих случаях превышающие их. Иными словами, потребитель является одновременно производителем этого нематериального блага. Крайний случай – самообразование, когда потребитель является по существу единственным производителем им же усваиваемого продукта. В то же время в образовании, в отличие от здравоохранения и в некоторых случаях культуры, принципиально невозможна обратная ситуация, когда единственным производителем выступает педагог. С учетом этого обстоятельства, представляется неправомерной утвердившаяся в современном российском экономическом мейнстриме трактовка образования как услуги, сопоставимой, например, с услугами медицинских учреждений или учреждений культуры1.
Наконец, третьей важнейшей особенностью является широта спектра возложенных на сферу образования функций, которая связана со множественностью прямых и косвенных потребителей продукта данной отрасли нематериального производства (табл. 1). Между индивидуальными и общественными потребностями, которые удовлетворяются в сфере образования, можно установить некоторое примерное соответствие. Наиболее очевидной базовой функцией образования на уровне общества в целом является передача/приобретение накопленных предшествующими поколениями запасов знаний. Изначально доступ к этим запасам через образование был привилегией элиты и служил упрочению ее власти. Соответственно, за образованием закрепилась и его исторически исходная социальная функция – поддержание сложившегося общественного порядка, иерархической структуры социальных страт. С развитием общества и усложнением производственных процессов все большее значение приобретает экономическая функция образования – подготовка работников с необходимыми для обеспечения нормального хода экономических процессов профессионально-квалификационными характеристиками. Одновременно расширяется и модифицируется спектр социальных функций образования. В современном обществе это важнейший инструмент распространения социально одобряемых ценностей и норм, признанный механизм совершенствования социальной структуры, сглаживания противоречий, социального выравнивания.
Такой структуре важных для общества функций образования в целом соответствует и их структура на индивидуальном уровне, направленная на удовлетворение потребностей отдельного человека. Прежде всего образование удовлетворяет базовую функцию получения знаний об окружающем мире, духовного обогащения, развития заложенных в человеке потенций. Не менее важной в современном мире является социальная функция образования – усвоения принятых в обществе норм и поведенческих практик, формирования мировоззренческих установок. Обе эти функции имеют инструментальный аспект, связанный с приобретением нематериальных активов, способных приносить их обладателям монетарную и немонетарную отдачу в различных сферах жизнедеятельности.
Таблица 1
Функции сферы образования
На индивидуальном уровне | На уровне общества |
Приобретение знаний об окружающем мире, личностное развитие (базовая потребность). Социализация, интеграция в социальную реальность. Приобретение знаний и навыков, способных принести экономическую отдачу, укрепить конкурентоспособность на рынке труда. Повышение социального статуса (социальный лифт) посредством: — установления социальных связей; — приобретения формальных статусных отличий (дипломы, сертификаты). Преодоление функциональной неграмотности. | Сохранение накопленных предшествующими поколениями запасов нематериального богатства. Распространение социально одобряемых ценностей и норм. Насыщение рынка труда рабочей силой с профессионально-квалификационными характеристиками, соответствующими спросу работодателей. Сохранение/развитие социальной структуры, социальное выравнивание. Генерирование перспективных потребностей.
|
Источник: составлено автором.
Идеология и практическая направленность развития сферы образования определяется ранжированием функций, выстраиванием иерархии приоритетов, в основе которой – система ценностей, разделяемых в том или ином обществе. При этом значение имеют как официально декларируемые приоритеты и ценности, так и ценностные установки, de facto разделяемые различными слоями населения. Радикальные изменения или сдвиги в идеологии неизбежно требуют реформ сферы образования. В то же время важным фактором, влияющим на направленность и глубину реформ, является предшествовавшая траектория развития [17, 22]. В значительной мере выраженность зависимости от прошлого в развитии сферы образования связана с тем, что, в отличие от большинства отраслей материального и нематериального производства, эта сфера сама ответственна за формирование и распространение ценностных установок и норм.
Рыночный разворот системы образования: итоги 1990-х
В начале 1990-х годов Россия вошла в процесс реформ, обладая одной из лучших по стандартам того времени систем образования. К ее безусловным преимуществам можно отнести установку на поддержание единых стандартов качества для всех учебных заведений, расположенных на огромной территории страны; фундаментальный характер образования и относительно высокое соответствие пропорций системы профессионального образования потребностям народного хозяйства в рабочей силе с различным профилем подготовки2. При этом советское образование отличала гипертрофированная роль идеологической составляющей и безусловное доминирование общественного интереса, следствием чего стала излишняя жесткость системы и недостаточный учет индивидуальных потребностей учащихся на всех ее уровнях.
В целом иерархия приоритетов в сфере образования и на уровне общества, и на индивидуальном уровне выстраивалась достаточно разумно. Высшие позиции и в том, и в другом случае занимали функции, связанные с приобретением знаний, развитием способностей и навыков, в том числе (но не только) обладающих практической полезностью и способных принести экономическую отдачу. Следующую ступень занимали функции, связанные с социализацией, формированием ценностных установок и социальным выравниванием, в то время как приобретение формальных символических атрибутов, связанных с получением образования, в основном воспринималось лишь как естественный сопутствующий результат. В процессе становления новых социально-экономических реалий это положение изменилось.
Переход от идеологии советского типа к идеологии свободного рынка спровоцировал радикальный разворот иерархии приоритетов в сфере образования. Во главу угла встал не просто индивидуальный интерес, что отражало бы стремление наиболее полно учесть потребности различных слоев и групп населения, в том числе уязвимых, требующих специфических условий для своего полноценного развития, а индивидуальный интерес, подкрепленный платежеспособным спросом. На фоне резкого сокращения доходов основной массы населения страны и возрастания риска бедности, в особенности для семей с детьми, такое развитие событий послужило триггером для превращения образования из инструмента социального выравнивания в фактор закрепления социальных различий и роста неравенства.
Опора на индивидуальный интерес и рыночную конкуренцию как ключевые факторы перестройки сферы образования имела и другие плачевные последствия. Такой подход заложил теоретико-методологическую основу для оправдания резкого сокращения ее государственного финансирования3. Точка зрения, согласно которой ключевым фактором эффективного развития сферы образования является конкуренция между учебными заведениями за покупателей «образовательных услуг», прочно укоренилась не только в исследовательском сообществе, но и в государственных структурах. Она получила институциональное закрепление в принятом в 1992 г. новом законе «Об образовании», дополнительную поддержку в законе 1996 г. «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и в «Концепции реформирования российского образования до 2010 года», делающих специальный акцент на развитие коммерческой составляющей образовательной среды.
Результаты разворота сферы образования в сторону рыночных отношений отражены в табл. 2. В первое десятилетие реформ государственные вложения в образование в реальном выражении сократились более чем вдвое. В то же время расширялась система высшего образования. Рост происходил почти исключительно за счет коммерческого сектора – развития сети негосударственных вузов и увеличения числа студентов, оплачивающих обучение за счет собственных ресурсов домохозяйств.
Таблица 2
Некоторые индикаторы развития образования в первое десятилетие реформ, 1991–2001 гг.
показатель | 1991 | 1993 | 1995 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 |
Государственные расходы | |||||||
% ВВП | 3,6 | 4,5 | 3,7 | 4,5 | 3,7 | 3,2 | 3,1 |
в сопоставимых ценах | 100 | 65 | 45 | 52 | 38 | 43 | 48 |
Число вузов | |||||||
всего | 519 | 626 | 762 | 880 | 914 | 939 | 1008 |
государственных | 519 | 548 | 569 | 578 | 580 | 590 | 621 |
частных | – | 78 | 193 | 302 | 334 | 349 | 387 |
Динамика контингента студентов | |||||||
Индекс (1991=100) | 100 | 94,6 | 101,0 | 117,6 | 130,2 | 147,4 | 171,6 |
Доля бюджетников | 100 | 97,3 | 87,0 | 84,2 | 59,6 | 59,4 | 59,2 |
Источник: составлено по данным Мониторинга экономики образования НИУ ВШЭ и [8].
На первый взгляд такое развитие событий представлялось вполне благополучным: охват верхними ступенями образования вырос, увеличилась средняя продолжительность обучения, а образовательные учреждения, несмотря на сокращение государственного финансирования, сумели выжить, опираясь на дополнительные ресурсы, полученные в результате интеграции в экономику свободного рынка. Однако недооценка рассмотренных выше специфических особенностей сферы образования привела к тому, что в процессе адаптации к рыночным реалиям сформировались устойчивые механизмы эрозии качества образования и произошел сбой в работе его ключевых функций.
В то же время позитивная тенденция более полного учета индивидуальных интересов, отказа от чрезмерной жесткости советской системы образования с ее унифицированными требованиями к учащимся, расширение вариативности образовательных траекторий и программ порождает серьезные риски снижения качества и провалов в образовании. Это связано с тем, что размываются стандарты его оценки, контроль качества становится более сложным и затратным и расширяются возможности для оппортунистического поведения. В благоприятных условиях важными факторами поддержания стандартов качества являются уровень профессионализма и морально-этические установки кадрового корпуса. При ухудшении социально-экономической ситуации и снижении уровня благополучия, связанного с работой, этот ресурс постепенно утрачивается, как это произошло в России в период трансформационного кризиса.
Результатом стал раскол системы образования на элитарную и массовую, сопровождавшийся снижением качества массового образования [8, 24]. Если в элитных учебных заведениях с достаточным уровнем финансирования, обеспечивающим хорошую материальную базу и достойный уровень заработной платы педагогического состава, и педагоги, и учащиеся могли в полной мере воспользоваться возможностями доступа к современным технологиям обучения и расширения гибкости учебного процесса, то в массовой школе сложилась иная ситуация. Износ материальной базы и дефицит кадров усугублялись вынужденным оппортунистическим поведением педагогов, сознательно делавших объяснение материала возможно более лаконичным, создавая базу для перекрестного репетиторства [1].
Дополнительный механизм эрозии качества профессионального образования сформировался в ходе подстройки масштабов и структуры приема в вузы под платежеспособный спрос населения, обладающего часто очень скромными финансовыми возможностями. Увеличившийся приток молодых специалистов с дипломами на рынок труда повысил планку требований работодателей к претендентам на рабочие места. Формальный документ о высшем образовании приобрел роль пропуска в достойную занятость, потеснив усвоение знаний и навыков в индивидуальной иерархии приоритетов. В этой ситуации рациональной стратегией стало снижение финансовых и трудовых затрат на получение высшего образования. Рос спрос на эрзац-образование, предъявляющее минимум требований к субъекту его получения и доступное семьям с невысоким доходом. Тем самым была создана благоприятная почва для мягких форм коррупции, ведущих к снижению стандартов качества образования, предлагаемого учебным заведением по обоюдному согласию производителя и потребителя «образовательных услуг».
Еще одним аспектом действия этого механизма стало обострение профессионально-квалификационного дисбаланса на рынке труда. Проблема недоиспользования образовательного потенциала в связи с расхождением профиля образования и требований рабочего места существовала и в советской экономической системе, особенно в преддверии ее краха. Однако в тот период главным фактором выступали диспропорции оплаты труда: специалисты с высшим образованием, зарабатывавшие существенно меньше квалифицированных рабочих, переходили на рабочие должности для увеличения заработков [26]. С переходом к рынку факторы дисбаланса умножились, масштабы выросли, а его контуры приняли иные очертания.
Расширению масштабов ориентированного на запрос населения дешевого образования гуманитарного и социально-экономического профиля способствовала искаженная трансформационным кризисом структура спроса на труд. На старте реформ реальный сектор экономики переживал трудные времена, в то время как рыночные сектора (торговля, финансы, операции с недвижимостью) переживали бум и на первых порах могли поглотить значительный объем новых работников, обладающих не очень качественным «общим высшим образованием». В дальнейшем ситуация изменилась, но маховик уже был запущен. На рубеже тысячелетий, по данным Росстата, три четверти выпускников вузов имели гуманитарное, социально-экономическое или педагогическое образование.
Тревожные тенденции в сфере профессионального образования, обусловленные резким снижением качества и рассогласованием структуры выпускаемых кадров с потребностями экономики, не остались незамеченными. Специалисты фиксировали подрыв ключевой народнохозяйственной функции образования – обеспечения перспективной потребности экономики в квалифицированных кадрах [4, 16, 27], возросший уровень безработицы среди выпускников вузов [10], устойчивое снижение качества образования в оценках работодателей [9, 25]. Был поднят вопрос о необходимости усиления государственного вмешательства для смягчения диспропорций и проблем, обострившихся в период рыночной трансформации.
Новый раунд реформирования образования
Корректирующие реформы в сфере образования были запущены на рубеже 2000–2010-х годов. Наряду с постепенно осознаваемой необходимостью поставить заслон снижению качества массового образования и переориентировать пропорции системы в направлении потребностей экономики в квалифицированных кадрах важным триггером корректирующих институциональных реформ стала интеграция России в глобальную экономику. Появилась потребность взаимного признания дипломов. Это поставило на повестку дня вопрос о вступлении России в Болонский процесс, что требовало соблюдения стандартов, установленных в международном образовательном пространстве.
При том что основная дискуссия сосредоточилась вокруг достоинств и недостатков законодательного закрепления единого государственного экзамена и двухступенчатой системы высшего образования, в ходе подготовки реформы были затронуты и такие не менее важные вопросы, как недостаточность государственного финансирования, снижение качества образования и его несоответствие потребностям работодателей. Характерно, что о необходимости увеличения централизованных инвестиций в развитие сферы образования в этот период заговорили и представители либеральной экономической мысли, поддержавшие реформы 1990-х годов [7, 15]. Под одновременным давлением как внутренних, связанных с нарастающей неудовлетворенностью работодателей профессионально-квалификационными характеристиками выходящей на рынок труда молодежи, так и внешних, идущих от международных стандартов, факторов в 2012 г. был принят новый закон об образовании, пришедший на смену законам 1992 и 1996 г. Он предусматривал структурную перестройку не только высшего, но и среднего профессионального образования в целях его адаптации к реалиям технологического развития и повышения престижа рабочих профессий. К важным аспектам реформы следует отнести введение регулярного мониторинга эффективности высших учебных заведений, законодательное закрепление стандартов достойной оплаты труда педагогов и введение ряда законодательных ограничений на расширение масштабов платных услуг в сфере школьного образования.
В августе–сентябре 2012 г. впервые был проведен мониторинг государственного сектора высшего профессионального образования. По его результатам более четверти из 502 обследованных вузов не удовлетворяли установленным стандартам организации образовательного процесса, а среди их филиалов проверку не прошло более половины [21]. В дальнейшем мониторинг с еще менее утешительными итогами был распространен на негосударственные учебные заведения. Вузы, показавшие неудовлетворительные результаты, были либо реорганизованы, либо лишены лицензий и закрыты. За десятилетие общее число вузов сократилось на треть, в том числе частных – более чем вдвое (табл. 3).
Таблица 3
Некоторые индикаторы развития образования в новом тысячелетии, 2000–2021 гг.
Показатель | 2000 | 2005 | 2010 | 2019 | 2020 | 2021 |
Государственные расходы (% ВВП) | 2,9 | 3,7 | 4,2 | 4,3 | 4,0 | 3,6 |
Число вузов | ||||||
Всего | 965 | 1068 | 1115 | 724 | 710 | 717 |
Государственных | 607 | 655 | 653 | 495 | 497 | 501 |
Частных | 358 | 413 | 462 | 229 | 213 | 216 |
Доля студентов-бюджетников | ||||||
Высшее образование | 59,1 | 42,5 | 37,2 | 46,5 | 47,0 | 47,8 |
Специалисты среднего звена | 67,4 | 61,9 | 69,9 | 64,2 | 61,7 | 60,4 |
Источник: составлено по данным Мониторинга образования НИУ ВШЭ за соответствующие годы.
Таким образом, предпринятые реформы способствовали некоторому оздоровлению ситуации в сфере образования. Тем не менее главные тренды первых постсоветских десятилетий повернуть вспять не удалось. Как хорошо видно из табл. 3, несмотря на достигнутый консенсус исследователей в отношении необходимости увеличения государственных усилий по поддержке сферы образования, их уровень до сих пор остается весьма скромным и существенно отстает от большинства развитых экономик [3, 18]. Платный сектор образования устойчиво расширяется, постепенно распространяясь и на среднее профессиональное образование. Следствием этого является, с одной стороны, устойчивость профессионально-квалификационного дисбаланса, с другой – сбои в работе важнейшей функции образования – социального выравнивания. Согласно результатам Комплексного наблюдения условий жизни населения4, по специальности работают лишь около половины занятых в экономике лиц, имеющих диплом о профессиональном образовании (табл. 4). И если для старших поколений это во многом обусловлено радикальными сдвигами в структуре занятости в период трансформаций, то в случае молодежи ведущую роль играет расхождение пропорций системы профессионального образования и потребности в рабочей силе.
Таблица 4
Соответствие профессионального образования по диплому требованиям рабочих
мест, 2014–2022 гг.
Показатель | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 2022 |
Занятое население в целом (%) | |||||
Работают по своей специальности | 46,4 | 46,7 | 46,9 | 46,8 | 49,1 |
Работают по близкой специальности | 17,4 | 18,1 | 17,6 | 19,9 | 19,4 |
Работают не по специальности | 36,2 | 35,0 | 35,5 | 33,2 | 31,5 |
Занятое население трудоспособного возраста (%) | |||||
Работают по своей специальности | 46,7 | 47,0 | 47,1 | 47,1 | 49,4 |
Работают по близкой специальности | 17,9 | 18,4 | 18,0 | 20,4 | 19,6 |
Работают не по специальности | 35,4 | 34,4 | 34,9 | 32,4 | 30,9 |
Занятое население в возрасте до 29 лет (%) | |||||
Работают по своей специальности | 46,2 | 45,6 | 46,0 | 46,8 | 47,6 |
Работают по близкой специальности | 17,9 | 19,1 | 17,3 | 20,0 | 19,5 |
Работают не по специальности | 35,9 | 35,2 | 36,7 | 33,0 | 32,8 |
Источник: составлено по данным Комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за соответствующие годы.
Показательны результаты опроса экспертного сообщества экономистов «Государство, гражданское общество, гуманитарный сектор экономики»5. С тем, что существующая система профессионального образования способна удовлетворить потребности национального рынка труда, в той или иной степени согласны менее 40% экспертов из научно-исследовательских структур, но более половины представителей профессорско-преподавательского состава вузов. Доля экспертов, убежденных, что в современных российских реалиях система образования работает на усиление неравенства, поскольку качественное образование доступно не всем, почти втрое превышает долю тех, по мнению которых доступность образования создает для всех равные возможности. В целом среди экспертов доминирует отрицательная или «скорее отрицательная» оценка политики государства в сфере образования, ее дали 44,4% экспертов. Положительно или «скорее положительно» государственную политику в этой сфере оценивает лишь один из пяти экспертов (22%), в то время как около трети придерживаются нейтральной оценки.
В ходе непрекращающейся дискуссии о перспективных направлениях государственной политики в сфере образования обсуждается необходимость развития кадрового потенциала отрасли, в том числе – через стимулирование научно-исследовательской деятельности в вузах, укрепления их связи с профильным бизнесом, предъявляющим спрос на выпускников, и выравнивание региональных различий в условиях получения образования [2, 12]. Одновременно реализуется линия на особую поддержку элитарного корпуса учебных заведений, задающих планку высокого качества образования.
Значительно реже в зону дискуссии попадают глубинные факторы деформации сферы образования, прямо связанные с ее переводом на рыночные рельсы, которые хотя и наталкиваются на барьеры, выставленные законом об образовании 2012 г., тем не менее сохранили жизнеспособность и продолжают действовать [5, 29]. Прежде всего это касается не только источников, но и механизмов финансирования образования. Сегодня практически по всему миру, в том числе в странах с высоким уровнем государственных инвестиций в образование, утвердилась практика опоры на множественность источников финансирования. При этом получило распространение не только финансовое участие бизнес-структур, опора на спонсоров и эндаумент-фонды, но и привлечение средств населения, предъявляющего спрос на различные виды образования. Однако нигде, кроме России и некоторых стран постсоветского пространства, не практикуется сочетание двух принципиально различных моделей доступа к образованию в зависимости от взятых на себя финансовых обязательств.
Разделение студентов на бюджетных и коммерческих подрывает здоровую конкуренцию абитуриентов. Тем самым оно, с одной стороны, тормозит механизм отбора более способных и мотивированных претендентов для обучения в вузах (являющийся одной из отправных точек эффективного образовательного процесса). А с другой стороны, оно подрывает базовые моральные нормы и представления о справедливости, снижает мотивацию к приложению усилий, направленных на усвоение необходимых для продолжения образования базовых знаний и умений.
В дальнейшем студент, обучающийся на коммерческой основе, чувствует себя защищенным от академических провалов, поскольку хорошо знает, что с его отчислением учебное заведение лишится и связанных с ним финансовых поступлений. Поэтому такая модель не только способствует структурным диспропорциям профессионального образования и потребности экономики в кадрах, о чем шла речь выше, но и порождает веер факторов, отрицательно влияющих на качество образовательного процесса и его результата. Тем не менее в российских условиях она оказалась необычайно устойчивой, сформировав одну из основных институциональных ловушек. Ее устойчивость связана с поддержкой со стороны всех контрагентов, в том числе и со стороны домохозяйств, для которых недорогое платное образование выступает действенным механизмом амортизации стресса и неопределенности, связанных с конкурсным поступлением в вуз, механизмом, к которому они привыкли и от которого не хотят отказываться. Дополнительным фактором устойчивости колеи, в которой сегодня развивается российская система образования, является сформировавшееся за три последних десятилетия низкое качество обучения в массовой школе, недостаточность базовой подготовки для успешного овладения сложной программой инженерных и естественно-научных специализаций.
Заключение
Сегодня изменения спектра вызовов для социально-экономического развития страны закономерно привели к развороту ракурса реформ в сфере образования. Наиболее активно обсуждается необходимость новых структурных реформ, связанных с отказом от стандартов Болонской системы. Активно обсуждается целесообразность использования советского опыта, когда страна, по общему признанию, обладала одной из лучших систем образования. Предполагается сокращение числа бюджетных мест по гуманитарным и социально-экономическим специальностям, где готовят специалистов для поддержки рыночной инфраструктуры. Симптоматично, что при этом никто не ставит вопрос о сокращении коммерческого сектора высшего и среднего профессионального образования, отвлекающего на себя материальный и кадровый ресурс и служащего триггером снижения качества и эффективности функционирования сферы образования.
Представляется, что наиболее важный принцип, который сегодня целесообразно заимствовать из советской системы при построении экономических основ функционирования сферы образования, состоит в жестком ограничении допуска в эту сферу рыночных, коммерческих отношений. В то же время ориентация на советскую модель образования, спрессованную на начальных этапах жизненного пути и жестко увязывающую направления подготовки в системе профессионального образования с запланированной на перспективу структурой экономики, вряд ли оправдана в современных динамично меняющихся реалиях. Такая модель показала свою эффективность в условиях медленных по сравнению с сегодняшним днем темпов научно-технического прогресса и структурных сдвигов в экономике. Знания и навыки устаревали медленно, приобретенный в молодости человеческий капитал, который постепенно модифицировался по мере «накопления производственного опыта», долго сохранял первоначальную ценность. Часто его хватало на всю трудовую жизнь.
Сегодня ситуация качественно иная. Стремительность технологических сдвигов меняет требования к организации и содержательному наполнению институтов системы образования. На первый план выходят гибкость системы и более равномерное распределение процесса получения образования по этапам жизненного цикла. В профессиональном образовании возрастает важность развития адаптационных возможностей, приобретения навыков модернизации получаемых знаний и компетенций, подстройки квалификационного профиля к меняющимся требованиям рабочих мест. В системе должны быть заложены механизмы корректировки индивидуальной образовательной траектории как в процессе базового этапа приобретения общего и профессионального образования на старте трудовой карьеры, так и на следующих этапах жизненного цикла, что многократно увеличивает значимость образования взрослых, широкого распространения непрерывного образования в течение всей жизни как не просто нормальной, но обязательной практики современного этапа общественного развития. Этот процесс уже набрал силу практически во всех экономически развитых странах, но в России на сегодняшний день находится в зачаточном состоянии [6].
С учетом современных реалий основные звенья процесса получения образования, механизмы доступа к ним и распределение финансовой ответственности между заинтересованными сторонами могли бы выглядеть следующим образом. Первое звено – базовое образование, в той или иной форме обязательное для всех вне зависимости от желания, мотивации, характеристик домохозяйства и иных обстоятельств. Его предоставление контролируется и полностью финансируется государством. Второе звено – общедоступное образование, предоставляемое всем претендентам при условии их соответствия установленным стандартам качества, проверяемым посредством квалификационных экзаменов, собеседований и т. п. Его предоставление финансируется или активно субсидируется государством, но допускается софинансирование со стороны домохозяйств при наличии у них финансовых возможностей.
Третье звено – профессиональное образование, предоставляется на конкурсной основе в объемах, определенных с учетом прогнозных оценок потребности экономики в кадрах. В случае превышения спроса над предложением предполагает конкуренцию между претендентами в процессе единых для всех конкурсных экзаменов и допускает софинансирование со стороны работодателей и домохозяйств (при ведущей роли государственных инвестиций) только при условии успешного прохождения конкурсного отбора.
Четвертое звено – непрерывное образование в течение всей жизни, приобретаемое в целях саморазвития, подстройки под изменившийся рынок труда, ликвидации функциональной неграмотности. Будущее именно за этим видом образования, который на индивидуальном уровне расширяет альтернативные пути построения успешной трудовой карьеры, а на уровне экономики служит важнейшим инструментом преодоления структурных дефицитов рынка труда, неизбежно порождаемых стремительным развитием технологического базиса. Его финансовая поддержка предполагает использование разнообразных механизмов с привлечением средств государства, населения, бизнеса и некоммерческих организаций.
В силу ожидаемого сопротивления со стороны представителей практически всех слоев населения, в котором уже укоренились рыночные установки и стереотипы поведения, связанные с доступом в сферу образования и механизмами его получения, даже постепенный переход к модели, предполагающей развитие этой сферы на иных началах, сопряжен с большими трудностями. Однако ориентация государственной политики в этом направлении будет способствовать повышению как экономической, так и социальной отдачи национальной системы образования.
1 Отметим, что принятый 14.07.2022 г. Федеральный закон № 295-ФЗ зафиксировал исключение из российского законодательства термина «образовательная услуга», уравнивающего нематериальный продукт сферы образования и коммерческие услуги торговли, банковского сектора сферы обслуживания и т. п. Тем не менее методологический подход к образованию как к услуге и сегодня широко используется в аналитике и разделяется значительной частью научного сообщества [20, 23].
2 Вряд ли можно признать справедливой позицию ряда идеологов реформ, согласно которой идеальной целью советской системы профессионального образования была «подготовка «винтиков» с кругозором, ограниченным производственными задачами своего рабочего места» [14. С. 17]. Тем более что несколькими страницами ниже авторы сами вынуждены признать, что излишняя специализация вузов компенсировалась программами обучения, предполагавшими широкое базовое образование» [14. С. 21].
3 Следует отметить, что по этому пути пошли отнюдь не все страны, столкнувшиеся с необходимостью социально-экономических трансформаций. В большинстве стран Восточной Европы государственные инвестиции в образование в период трансформационного кризиса, наоборот, увеличились, что позволило, несмотря на высокую инфляцию, сохранить или даже расширить масштабы государственной поддержки этой сферы, важнейшей и для человеческого развития, и для национальной конкурентоспособности[8].
4 На сопоставимой основе проводится Росстатом с 2014 г. каждые два года.
5 Интернет-опрос был проведен в 2023 г. по инициативе Новой экономической ассоциации при участии ряда научных организаций и учреждений высшего образования. В нем приняли участие 752 эксперта. Подробнее см. https://www.econorus.org/socmon.phtml
Sobre autores
Irina Soboleva
Institute of Economics (RAS)
Autor responsável pela correspondência
Email: irasobol@gmail.com
Grand Ph.D. in Economics, Chief Researcher
Rússia, MoscowBibliografia
- Абанкина И.В., Белова Ю.Ю., Зиньковский К.В., Латыпова Е., Милованов А.Е. Есть ли у педагогов альтернатива репетиторству для увеличения доходов? // Вопросы образования. 2022. № 4. С. 8–32.
- Абанкина И.В., Семенова К.А. Образование: инвестиции в будущее // В кн.: Гуманитарный сектор патерналистского государства / Под общ. ред. А. Я. Рубинштейна. СПб.: Алетейя, 2023. Гл. 4. С. 108–151.
- Агранович М.Л. Экономика российского образования через призму международных сравнений // Экономика образования. 2014. № 3. C.15–17.
- Александрова О.А. Высшее образование и структура российской экономики // Высшее образование в России. 2006. № 5. С. 27–37. EDN IBVKDL
- Александрова О.А. Проблемы высшей школы: внутри и вне системы образования // Уровень жизни населения регионов России. 2023. Том 19. № 2. С. 157–168. URL: https://doi.org/10.52180/1999-9836_2023_19_2_1_157_168.
- Баскакова М.Е., Чубарова Т.В. Непрерывное образование в России как механизм воспроизводства человеческого потенциала: гендерный аспект // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2021. Т. 14. № 4. С. 169–184. URL: https://doi.org10.15838/esc.2021.4.76.10
- Беляков С.А., Агранович М.Л., Озерова Н.Б., Клячко Т.Л. Система финансирования образования. Анализ эффективности. М.: Технопечать, 2003. 180 с.
- Болдов О.Н., Иванов В.Н., Суворов А.В., Широкова Т.К. Динамика и структура сферы образования в России в 90-е годы // Проблемы прогнозирования. 2002. № 4. С. 123–124.
- Бондаренко Н. Запросы работодателей к качеству профессиональной подготовки работников // Вестник общественного мнения: Данные. Анализ. Дискуссии. 2005. № 3 (77). С. 41–58.
- Бюраева Ю.Г. Дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на региональном рынке труда (на примере Республики Бурятия // ЭКО. 2015. № 5.
- Кабдиева С.Д. Театр периода пандемии // Вестник Казахского национального женского педагогического университета. 2020. № 2. С. 200–206.
- Клячко Т.Л. Образование в России и мире: основные тенденции // Образовательная политика. 2020. № 1(81). С. 26–40.
- Колосницына М.Г., Ермолина Ю.Е. Государственные расходы на образование и экономический рост: межстрановой анализ // Вопросы статистики. 2021. Т. 28. № 3. С. 70–85.
- Кузьминов Я.И., Семенов Д.С., Фрумин И.Д. Структура вузовской сети: от советского к российскому «мастер-плану» // Вопросы образования. 2013. № 4. С. 8–69.
- Кузьминов Я.И., Рудник Б.Л. Интегрированная модель финансирования высшего профессионального образования Российской Федерации // Экономика образования. 2007. № 2. С. 18–33.
- Кязимов К.Г. Проблемы несбалансированности объемов и профилей подготовки кадров с потребностями современного рынка труда // Ценности и смыслы. 2014. № 2 (30). С. 63–68.
- Латов Ю.В. Теория зависимости от предшествующего развития в контексте институциональной экономической теории // Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2005. Т. 3. № 3. С. 36–43.
- Лемешонок О. Воспроизводство человеческого потенциала в современных условиях функционирования системы образования // Общество и экономика. 2023. № 11. С. 46–55.
- Марцинкевич В.И. США: Человеческий фактор и эффективность экономики. М.: Наука, 1991. 240 с.
- Мигранова Л.И. Анализ состояния и перспектив развития рынка образовательных услуг региона // Управленческий учет. 2021. № 12 (3). С. 735–744.
- Минобрнауки нашло признаки неэффективности у четверти российских вузов // Ведомости. 02 ноября 2012. URL: https://inecon.org/zhurnal-lobshhestvo-i-ekonomikar.html
- Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы // Экономика и математические методы. 1999. Т. 35. № 2. URL: http:// mpra.ub.uni-muenchen.de/27257/1/ep99001.pdf
- Российский рынок образовательных услуг: текущая ситуация и основные игроки – 2024. М.: Analytic research group. 2024. 143 с.
- Рощина Я.М., Константиновский Д.Л., Вахштайн В.С. Куракин Д.Ю. Доступность качественного общего образования в России: возможности и ограничения // Вопросы образования. 2006. № 2. С. 186–202.
- Семеко Г.В. Основные тенденции в сфере подготовки кадров экономистов в России (1990–2005) // Экономические и социальные проблемы России. 2006. № 1. С. 129–147.
- Соболев Э.Н. Деформации в оплате квалифицированного труда: истоки и механизмы преодоления // Экономическая безопасность. 2022. Том 5. № 3. С. 1009–1026. URL: https://doi.org10.18334/ecsec.5.3.114901
- Спрос и предложение на рынке труда и рынке образовательных услуг в регионах России: Сб. докладов по материалам Всероссийской научно-практической интернет-конференции с международным участием. Книга III. Петрозаводск: ПетрГУ. Петрозаводск, 2004. 268 с.
- Терзиева А., Стамболова И., Васильева Н. Участие и роль пациентов в лечении. Взаимоотношения и взаимодействие в группе // Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири. 2015. № 2. С. 86–95.
- Яковлева Н.Г. Российское образование: глобальные и национальные вызовы формированию человеческого потенциала // Уровень жизни населения регионов России. 2023. Т. 19. № 1. С. 36–46. URL: https://doi.org10.52180/1999-9836_2023_19_1_3_36_46 EDN GNWDCQ
- “Data Page: Human Capital Index”. Our World in Data (2024). Data adapted from World Bank. Retrieved from https://ourworldindata.org/grapher/human-capital-index-in-2018
- McMahon W.W. The External Benefits of Education. In: International Encyclopedia of Education (Third Edition), Elsevier. 2010. P. 260–271. URL: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-044894-7.01226-4.
- Simister J. Delayed Effects of Education on Graduate Earnings: A Degree of Hope // Global Journal of Human and Social Sciences. 2014. Vol. 14. No. 6. Р. 33–41.
- UNDP. Human Development Report 2023-24: Breaking the gridlock: Reimagining cooperation in a polarized world. New York: 2024.
- Valero A. Education and economic growth. Working Paper No.1764. London: The Centre for Economic Performance, April 2021.