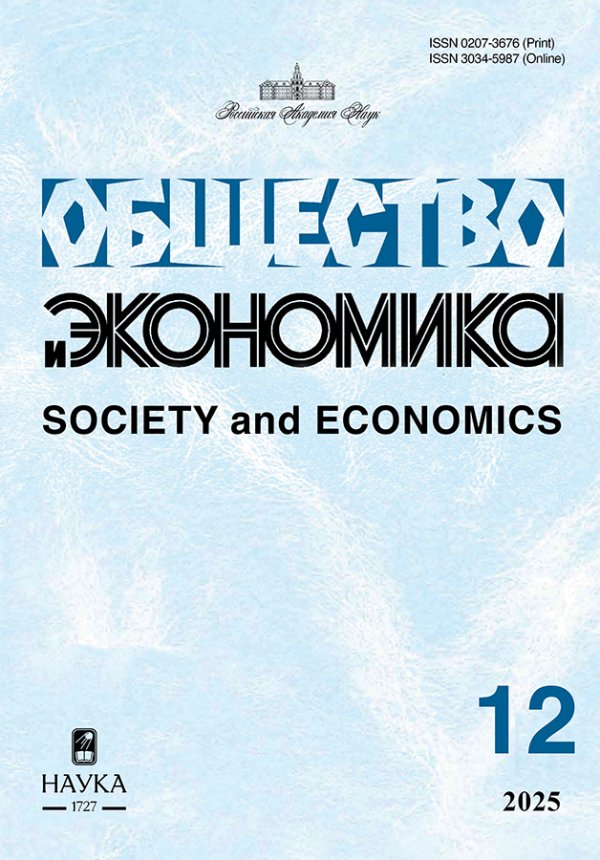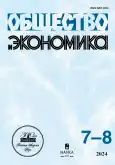Economic transformation as a component of societal transformation: an integrative vision
- Authors: Martynov A.1
-
Affiliations:
- Institute of Economics (RAS)
- Issue: No 7-8 (2024)
- Pages: 21-40
- Section: THEORETICAL ECONOMICS
- URL: https://bakhtiniada.ru/0207-3676/article/view/268593
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0207367624070023
- EDN: https://elibrary.ru/bashzg
- ID: 268593
Full Text
Abstract
The article is devoted to the problem of assessing the impact of economic transformation on the development of society. Particular attention is paid to the well-received drivers of economic change in the current decade – widespread digitalization and the gradual establishment of a “green”, carbon-free economy. The interpretation of sustainable societal transformation as a universal systemic process is substantiated. According to the argumentation presented, it is reasonable to assess the results of the transformation of the national economy based on indicators of the degree of its approach to a sustainable trajectory. The final part of the article reveals the role of economic transformation as a driver of future general social progress, which becomes achievable provided that the optimistic consolidated scenario of global development is fulfilled.
Full Text
По-прежнему дискуссионной и очень актуальной остается проблема оценки результирующего эффекта экономической трансформации относительно трансформации всего общества, особенно применительно к конкретным странам западного и незападного миров, притом внутренне дивергентных. Попытаемся хотя бы в самом первом приближении представить адекватный подход к разрешению этой проблемы, принимая во внимание новые реалии, складывающиеся в третьем десятилетии нынешнего века.
1. Разграничение экономической трансформации в рамках трансформации социальной системы
Начнем с общеизвестной констатации. Давно доказана временем несостоятельность идеологии экономического детерминизма, хотя до сих пор ее разделяют адепты неолиберализма и ортодоксальные последователи «марксистского вероучения» (конечно, к ним не следует относить самих Карла Маркса и Фридриха Энгельса) [1, 2]. Для разрешения взаимосвязанных проблем современного общества недостаточно только экономического роста, который может быть сопряжен с усилением неравенства, ухудшением социального климата и природной среды и антидемократическими переменами. Востребован по-настоящему общий социальный прогресс, обусловленный в равно значимой степени экономическими (рыночными) и внеэкономическими драйверами и притом взаимно дополняющими друг друга. Такова широко признанная на международном уровне позиция, в практическом плане выразившаяся во всеобъемлющей интеграции различных измерителей развития современных стран [3–5].
Обществу не может быть отведена лишь роль поставщика человеческих ресурсов для современных рынков. Напротив, именно рынки призваны являться проводниками удовлетворения потребностей общества при всем многообразии и отличиях интересов его субъектов. Это означает, что трансформация современной рыночной экономики выступает имманентной составляющей трансформации всей социальной системы.
С приведенным заключением отчасти согласуется давно признанная концепция смешанной экономики, восходящая еще к Фридриху Листу [6]. Она предполагает активное общественное/ государственное регулирование рыночных процессов с целью исправления их возможных социальных изъянов. Однако выполнения такого императива представляется недостаточным в современных условиях, характеризуемых очень существенной зависимостью любой экономической системы от внешних перемен.
Ограниченно востребованной выглядит и популярная в недавнем прошлом концепция социоэкономики, или социальной экономики, основанная на традиционной теории социальных систем [например, 7]. Предмет существующих социоэкономических изысканий априори ограничен областью взаимодействий социальных субъектов по различным направлениям их деятельности (экономическому, политическому и др.). Из поля зрения опять-таки выпадает грандиозное влияние технологических и других перемен, порожденных вне социальной системы, на результаты развития экономики и всего общества.
Определенно возникает потребность в исследовании взаимного влияния различных составляющих экономической трансформации и неэкономических трансформаций при их строгой демаркации. Требуется кропотливый анализ значимых сцеплений такого рода с целью принятия эффективных решений, без избыточных затрат и неблагоприятных побочных эффектов. Для конкретизации сказанного кратко остановимся на двух коллизиях.
Как справедливо отмечается в недавнем докладе Всемирного экономического форума [8], в ходе реализации национальной экономической политики фактически не учитывается влияние старения населения и других демографической метаморфоз на рыночную перспективу, в первую очередь касающуюся рынков труда и потребительских рынков. Возникает настоятельная потребность во взаимосвязанной реализации программ переквалификации возрастных когорт занятых и взвешенной миграционной политики, опираясь на существующий позитивный опыт (в частности, Сингапура).
Также, согласно многочисленным деловым опросам, в настоящий момент наблюдается явный дефицит высокоодаренных, способных к творческим новациям специалистов в секторах новой экономики в ходе ее цифровизации. А таланты, как известно, взращиваются в процессе образования в условиях благоприятного человеческого климата. Выход из положения по всей видимости состоит в точечных, социально-ориентированных инвестициях в рамках специальных образовательных программ.
В соответствии с высказанной аргументацией представляется резонным обратиться к теории социальной системной трансформации, опирающейся на признанные научные свершения [9–12]. Согласно этой теории, правомерна исследовательская парадигма, заключающаяся в трактовке развития социальной системы как трансформации ее многомерной структуры. В решающей мере это происходит на основных полях социальных действий (экономическом, статусном, политическом), характеризуемых наличием определенного институционального устройства, ресурсного и организационного обеспечения. Однако наряду с этим необходимо обязательно принимать в расчет следующее: внутрисистемные социальные изменения на институционально структурированных полях неизбежно сопровождаются в значительной мере неинституционализированными процессами технологических, демографических и климатических изменений, которые можно полагать экзогенными. Только при таком условии становится достижимым интегративное представление всех существенных компонент вектора развития определенного общества в реальном временном измерении.
2. Феномены цифровизации и становления «зеленой» безуглеродной экономики в ходе современной экономической трансформации: как оценить их полный общесоциальный эффект?
В современный период все фундаментальные экономические трансформации происходят на фоне постиндустриальной эпохи, обычно соотносимой с «четвертой технологической революцией». Наиболее весомые из этих изменений, по широко признанному мнению, индуцированы двумя трансформационными процессами, порожденными постиндустриальным развитием – цифровизацией и становлением «зеленой» экономики.
Без преувеличения, тектонический сдвиг в современном мировом развитии заключается в утверждении нематериальной базы цифровой экономики, как, впрочем, и цифровизации социальных секторов. Все более проявляется грандиозное влияние цифровизации и распространения цифровых платформ на трудовые отношения: изменяется характер труда в сторону его виртуализации, возникают самые широкие возможности для дистанционного труда и самостоятельной экономической деятельности [13–15].
Уже в близкой перспективе прогнозируется утверждение первенствующих позиций инновационного и высокотехнологичного секторов, использующих цифровые технологии с точки зрения аккумуляции доходов и капитала. Как следствие, произойдет кардинальное изменение соотношения ролей всех экономических агентских укладов.
Также трудно поставить под сомнение грандиозность экономического, как и социального эффекта «зеленой» трансформации, часто называемой «декарбонизацией». Так, по оценкам, к 2030 г. только в Китае переход к «зеленой» («природной позитивной», по определению китайских исследователей) экономике может привести к созданию 88 млн новых рабочих мест [16].
Во многих азиатских странах достигнут существенный прогресс в направлении целевых ориентиров устойчивого развитии, несмотря на последствия пандемии COVID-19 и мировую экономическую турбулентность. Так, в Индии и Юго-Восточной Азии в ближайшие годы прогнозируется беспрецедентно широкое распространение новейших безотходных технологий и возобновляемых источников энергии [17, 18].
Принципиально важно, что рассмотренные глобальные трансформационные процессы взаимно дополняют друг друга. Так, использование цифровых платформ и других цифровых новшеств значительно облегчает выполнение проектов в области экологизации экономической деятельности прежде всего с точки зрения сокращения потребных издержек [19]. В свою очередь, происходящий постепенный переход к безуглеродной экономике объективно способствует использованию рыночными и социальными предпринимателями самого широкого набора цифровых технологий, не наносящих какого-либо ущерба природной среде.
В известных автору конкретных исследованиях роль цифровой и «зеленой» экономик, опираясь на традиционный подход, определяется по удельному весу их выпуска в ВВП (например, [20]). Вместе с тем общий социальный эффект их функционирования остается как бы за кадром. Для его идентификации требуется принимать в расчет все значимые изменения состояния социальной системы, индуцируемые соответствующими трансформационными процессами.
Следуя такой посылке, общий социальный системный эффект цифровизации в первую очередь правомерно оценивать, исходя из динамики производительности труда и физического капитала, экологизации бизнеса и уменьшения использования природных ресурсов, улучшения пользования рыночными и социальными услугами. В свою очередь, позитивный системный эффект «зеленой» трансформации выражается в достижении желаемых экономических результатов при сохранении и приумножении природной среды, а также улучшении социального климата для всех членов общества.
Отдельным вопросом является косвенное влияние цифровизации и «зеленой» экономики на неэкономические трансформации.
Так, увеличение занятости квалифицированных работников, представляющих средний класс, в секторах цифровой и «зеленой» экономик очевидно сопряжено с усилением их статусных позиций. Наряду с этим резонно ожидать пополнения высших страт общества предпринимателями/ руководителями в соответствующих секторах.
В свою очередь, на политическом поле последствия цифровизации и декарбонизации, вероятно, в первую очередь проявятся в давно предсказанном сдвиге. Национальная политическая элита будет в значительной мере пополняться представителями высшего менеджмента в инновационном и высокотехнологичном корпоративном секторах, а также в секторах «зеленой» экономики.
3. Методологический подход к интегративному представлению результатов экономической трансформации, исходя из критериев устойчивого (устойчиво поддерживаемого) развития общества
Нет нужды доказывать, что прямые и косвенные результаты трансформации любой национальной экономики сильно зависят от господствующей или, во всяком случае первенствующей, доктрины развития соответствующей страны. Вплоть до настоящего времени наиболее известны три концептуальные доктрины такого рода: неолиберальная, неоконсервативная и устойчивого (sustainable) развития.
Как известно, после мирового кризиса 2007–2009 гг. неолиберальная доктрина безвозвратно потеряла свое былое признание. Следование императиву полной экономической свободы в условиях функционирования несовершенного и ограниченно эффективного рынка капитала оказалось сопряжено с коллапсом отдельных рынков, влекущим за собой длительную депрессию тех или иных национальных экономик. Достаточно упомянуть о примере России и других постсоветских стран, где всеобъемлющая исходная либерализация сырьевых и финансовых рынков в значительной мере способствовала общеэкономическому спаду.
К рассмотренной идеологической доктрине примыкает хорошо известная концепция полной экономической глобализации во имя свободного движения корпоративного капитала, по существу игнорировавшая сложившуюся глубокую институциональную дивергенцию между разными странами, в том числе внутри западного мира. Последний мировой финансовый кризис 2007–2009 гг. продемонстрировал несостоятельность глобальной модели неолиберального корпоративного капитализма, в котором доминирующую роль играют крупнейшие финансовые и нефинансовые корпорации. Во многом именно вследствие институциональных изъянов открытых рынков корпоративных ценных бумаг произошло беспрецедентное увеличение фиктивного финансового капитала, в свою очередь ставшего одной из главных причин обвала мирового фондового рынка и международных кредитных рынков.
Фактически на смену неолиберальному экономическому курсу вновь пришел неоконсервативный курс, как бы обновленный его нынешними адептами во главе с бывшим Президентом США Дональдом Трампом. Главный постулат обновленного неоконсерватизма выглядит весьма простым: практически всегда расширение деятельности национальных производителей как рыночных агентов воплощается в повышении личного благосостояния и прочих позитивных социальных переменах, достигаемых при не более чем дозированно необходимой, по существу минимальной государственной поддержке нерыночных секторов [21].
Спору нет, стимулирование предпринимательской активности посредством сокращения налогов дает возможность временно увеличить рыночный выпуск. Однако в нынешней рыночной экономике третьего десятилетия XXI в. эффект финансового стимулирования роста предпринимательской активности становится заведомо ограниченным. И можно уверенно предсказывать, что дальнейшее углубление цифровизации и декарбонизации будет сопряжено с сильным сокращением невысокотехнологичных и ненаукоемких секторов при сопутствующем сужении пространства заведомо свободных рыночных инициатив. В такой ситуации избыточная рыночная конкуренция в границах обычных предпринимательских секторов неизбежно будет приводить к падению доходов ее участников, что повлечет за собой усиление экономического и в целом социального дисбалансов.
Как известно, неоконсервативная политика сегодняшнего образца также характеризуется агрессивным экономическим национализмом, выражающимся в нарушении международных договоренностей и прямых торговых войнах. Вследствие происходящей дестабилизации мировой экономики наносится глобальный ущерб всем предпринимателям и потребителям, в том числе в странах-реципиентах агрессивной неконсервативной политики.
Об идеологии устойчивого развития. Стоит констатировать: утилитарная и одновременно агрессивная прагматика неоконсервативного толка целенаправленно навязывается широким кругам общественности в развитых странах агентами утвердившегося сообщества миллиардеров. Противовесом этой пропагандистской кампании выступает распространение идеологии обще социального прогресса как устойчивого развития.
Как известно, рамочная концепция устойчивого развития, принятая ООН в 2015 г., завоевала широкое признание в очень многих странах. И стоит сделать особый акцент на том, что с этой концепцией вполне согласуются идеологические платформы левоцентристских и социал-демократических/ социалистических партий со значимым политическим весом. То же касается обновленной концепции социального рыночного хозяйства [22], как и последней китайской версии концепции социалистической рыночной экономики (с учетом симбиоза институциональных моделей, которые она вбирает, добавим в скобках) [23].
Следуя идеологии устойчивого развития, на национальном и наднациональном уровнях настала пора перейти от практики стабилизационных и стимулирующих решений по их очень разнородным направлениям к консолидированной общественной регуляции. Она призвана быть направленной на обеспечение сбалансированного и поступательного развития определенных стран, на кардинальное снижение риска дестабилизации и регресса. В пользу такой стратегии развития свидетельствует накопленный практический опыт, прежде всего в ЕС.
Бесспорно, перед человеческим сообществом снова и снова будут вставать новые животрепещущие проблемы. Однако в случае утверждения идеологии и практики устойчивого развития они могут разрешаться приемлемым образом, без продолжительных кризисов и грандиозного социального ущерба, на основе глобального, региональных и национальных консенсусов.
Исходя из общеизвестного критерия оптимального временного соотношения затрат и результатов, предпочтительна трансформация социального макроса как системы по стабильной долгосрочной траектории, которую принято именовать «устойчиво поддерживаемой» (sustainable). Ее имманентной чертой выступает не скачкообразное, а неуклонное, последовательное приближение к реально достижимым трансформационным рубежам, исходя из выявленных возможностей. Социальное развитие по этой траектории в полной мере соответствует требованию Новой Нормальности, получившей признание в послекризисный период 2010-х годов.
Востребование идеи универсального устойчивого развития. Логичным представляется обращение к понятию универсальной системной устойчивости, хотя бы в ее существующей эскизной интерпретации [24–26]. В соответствии с ней атрибут устойчивости присущ в большой степени всем социальным практикам, а не только опосредствующим взаимоотношения общества и его окружающей среды. Исходя из такого допущения, правомерным выглядит востребование идеи универсального устойчивого развития применительно к системной (именно системной!) трансформации всего общества. Оно выражается в достижении перспективных экономических, политических, экологических и других параметров (количественных и качественных) состояния социального макроса, которые соответствуют принятым критериям «устойчивого поддержания» в процессе системной трансформации. Тем самым, субстанциональной чертой устойчивого развития как универсальной трансформации выступает нормальность/ приемлемость результатов фундаментальных изменений на основных институционализированных полях социальных действий.
Не менее важно, что такого рода универсальная трансформация призвана удовлетворять условию адаптации (сопротивляемости) к возможным неустойчивым переменам [27, 28]. В первую очередь речь идет об адаптации к ожидаемым технологическим, демографическим и климатическим изменениям в той мере, в какой они выступают в качестве неинституционализированных факторов в рамках социальной системы. Кроме того, следует принимать в расчет необходимость адаптации к огромному числу процессов нестабильных и заведомо колебательных изменений, обусловленных циклическими рыночными драйверами, спорадическими политическими пертурбациями и многообразными социальными конфликтами. Выполнение этого условия предполагает использование широкого набора инструментов как рыночного регулирования, так и нерыночного воздействия со стороны государства и гражданских организаций. Такого рода общественная регуляция должна быть направлена на возможное элиминирование источников турбулентности на основных полях социальных действий.
Вместе с тем, стоит оставаться реалистами. В обозримом будущем важные направления развития тех или иных стран могут быть связаны с осуществлением неустойчивых трансформационных изменений, заведомо ускоренных или замедленных. В частности, в сегодняшних реалиях выполнение военно-политической стратегии в большинстве стран выглядит затруднительным в случае приоритетной ориентации на критерии универсальной устойчивости.
Оценка результатов экономической трансформации как составляющей универсальной устойчивой трансформации. Теперь сформулируем нашу главную посылку. Наряду с традиционными индикаторами структурных ресурсных сдвигов для оценки результатов трансформации национальной экономики целесообразно использование индикаторов степени ее приближения к устойчивой (устойчиво поддерживаемой) траектории. Они призваны отражать вклад, который вносит экономическая трансформация в обеспечение устойчивого общесоциального прогресса.
В идентификации нуждаются сами условия устойчивой экономической трансформации через квантифицируемые ресурсные индикаторы. Правомерно сформулировать два взаимообусловленных условия ресурсной устойчивости в рамках экономической системы (рис. 1).
Рис. 1. Условия устойчивой экономической трансформации
Источник: составлено автором.
Первое из этих условий состоит в устойчивом, по существу рациональном производстве и потреблении существующих основных ресурсов: материальных и нематериальных, человеческих и, конечно, природных. В первую очередь исходя из признанных целевых ориентиров устойчивого развития (ЦУР) в соответствии с Повесткой-2030. В дополнение к этому, становится все более целесообразным инкорпорирование дополнительных целевых ориентиров, предопределяющих траектории устойчивого воспроизводства и потребления ресурсов в их расширяющемся составе. Эти нормативные уровни потребления и распределения ресурсов задаются, исходя из секторных прогнозов на базе максимально полной информации о сложившихся тенденциях.
Второе условие состоит в сбалансированности ресурсной структуры и нормальности распределения определенных видов ресурсов на всех уровнях системной иерархии в соответствии с существующими критериями. Практически это означает сбалансированность основных ресурсных, материальных и финансовых, потоков наряду с нормальным распределением капитала и труда и, как следствие, доходов в макро-, секторном и региональном разрезах.
Принципиальное значение имеет инкорпорирование в качестве первоочередных макроцелей/ задач в дополнение к принятым ЦУР. Они представимы индикаторами распределения финансовых ресурсов и капитала, потенциала занятости, численности трудового миграционного потока. Для обеспечения сбалансированности нового круга макроиндикаторов устойчивого развития возникает необходимость применения усовершенствованной процедуры их согласования. Такая процедура давно апробирована в ЕС [29, 30]; определенно целесообразно заимствование этой практики в странах всего мира.
Отдельный важнейший вопрос, на котором необходимо хотя бы кратко остановиться, заключается в применении критериев для оценки степени устойчивости цифровой трансформации на экономическом поле, прежде всего в отношении влияния на занятость.
Несомненно, прямой эффект автоматизации, роботизации и распространения искусственного интеллекта в сфере материального производства непосредственно выражается в сокращении производственного и, в еще большей степени, офисного персонала, занятого рутинной деятельностью (например, [31]). Однако одновременно стремительное развитие новых рыночных сегментов, порожденное цифровизацией, способствует стабилизации занятости, сокращающейся в традиционных отраслях. Так, электронная коммерция и экономика совместного пользования стали мощными каналами поглощения занятости. Достаточно упомянуть о притоке работников в такие новые виды бизнеса, как Интернет-магазины, онлайн-сервисы такси и доставки еды на дом.
В целом на макроуровне, согласно проведенным исследованиям (например, [32]), повышение уровня цифрового развития сопряжено со снижением спроса на рабочую силу со средним и ниже среднего образованием. Однако одновременно диффузия новых технологий объективно влечет за собой увеличение спроса на высококвалифицированный персонал.
Для стабилизации структуры занятости в секторах, серьезно затронутых цифровизацией, становится безальтернативной масштабная реструктуризация, в которой первостепенная роль отводится государству как регулятору и инвестору. Для удовлетворения спроса на высококвалифицированную рабочую силу в промышленных секторах должны быть реализованы строго адресные и постоянно продолжающиеся программы переобучения персонала. Особенно необходимым становится внедрение такой практики в кратчайшие сроки в рамках трудоемких промышленных сегментов, где велик риск потери рабочих мест вследствие автоматизации.
Также есть все основания ожидать кардинального повышения секторной дифференциации оплаты труда и в целом – усиления поляризации доходов в обществе. По-видимому, возникнет необходимость в перераспределении национального дохода посредством специального налогообложения производителей, использующих высокопроизводительные безлюдные технологии c искусственным интеллектом и роботов.
В силу сказанного, для оценки степени устойчивости цифровой трансформации представляется целесообразным использование целой совокупности новых индикаторов. Они призваны фиксировать сокращение занятых вследствие автоматизации на одних рыночных сегментах и увеличение занятых в ходе цифровизации на других сегментах. То же касается изменения уровня оплаты труда этих, сокращающихся или растущих, категорий занятых.
Методологический дискурс. До настоящего времени индикаторы УР оцениваются на основе нормативных моделей. В данной связи возникает очевидный методологический дискурс: предпочтителен ли выбор нормативно определяемых критериев устойчивости в качестве альтернативных известным критериям оптимальности для оценки результатов экономической трансформации?
Как известно, апробация традиционных оптимизационных макро-, мезои микроэкономических моделей может принести хорошо интерпретируемые результаты в отношении желаемого распределения ресурсов и доходов. Однако эти рафинированные результаты представляются слишком ненадежными, по крайней мере в силу двух очень весомых причин. Во-первых, крайней неопределенности задания изменений во времени как ограничений, отражающих условия предпочтительного потребления ресурсов, так и существующих рыночных, и тем более внеэкономических, ограничений. Во-вторых, фактической недостаточности информации для оценки последствий риска нарушения принятых ограничений, принимая во внимание огромные масштабы деятельности экономических и других социальных агентов, заведомо не соответствующей критериям оптимальности.
В противоположность сказанному, нормативное определение индикаторов УР, основанное на анализе сложившихся тенденций выпуска, потребления и распределения ресурсов, заведомо не сопряжено с риском «попадания в молоко». Стоит добавить, что для повышения степени достоверности этих нормативных индикаторов на предварительной стадии их оценки вполне правомерно использование частных оптимизационных моделей [33].
Проблема сочетания интересов общества и предпринимательских интересов в русле универсального устойчивого развития. В завершение методологической части нашего изыскания было бы некорректно обойти вниманием эту возникающую фундаментальную проблему.
Общепризнанно, что главной целью большинства экономических агентов выступает удержание достигнутых позиций на рынках. Эти агенты объективно заинтересованы в выполнении условий ESG, ресурсной и финансовой долговременной сбалансированности ради снижения оперативных, и тем более инвестиционных, рисков. В свою очередь, лидирующие рыночные агенты, следующие своим оптимально-ориентированным бизнес-стратегиям, также становятся все более заинтересованными в снижении риска. Такая тенденция обусловлена объективным снижением потенциального коммерческого эффекта рискованных решений (так называемой «премии за риск») вследствие грандиозного прогресса в информатизации благодаря применению цифровых и сопутствующих новейших технологий, когда фактор асимметрии информации постепенно сходит на нет.
Как показывает разнообразный мировой опыт [34], в случае выполнения ESG-стандартов и следования другим императивам устойчивости перед корпоративным и иным бизнесом сохраняются широкие возможности для улучшения своего рыночного положения. В ходе устойчивой трансформации отдельных рынков возникает возможность достижения их дополнительного роста в результате предполагаемых инициативных предпринимательских решений с учетом возникающих потребительских запросов. Это в первую очередь касается компаний-лидеров, утвердившихся на действующих рынках. Посредством требуемой корректировки, исходя из императивов устойчивости и своих долгосрочных бизнес-стратегий, они в состоянии добиться оптимальных финансовых и других рыночных результатов, совокупный эффект которых на макро-, секторном и региональном уровнях не будет нарушать приемлемые пропорции выпуска и распределения в соответствии с предполагаемыми условиями устойчивого воспроизводства.
Обозначенная возможность может быть реализована при условии осуществления адекватной политики рыночного регулирования на макро-, секторном и региональном уровнях. Она должна быть направлена на согласование различных корпоративных и иных предпринимательских стратегий с государственным стратегическим курсом в соответствии с принципом компромиссного равновесия («равновесия по Нэшу»). Благодаря такого рода стабилизационной политике станет достижимой адаптация к неустойчивым изменениям – как институционализированным в рамках социальной системы, так и неинституционализированным: технологическим, демографическим, климатическим.
Конечно, нельзя не принимать во внимание многочисленные примеры оппортунистического поведения предпринимателей в отношении ESG-практик, и в целом императивов, устойчивого развития. Тем не менее есть все основания предполагать, что в случае успешного продвижения повестки ESG в ходе взаимодействия бизнеса, государства и гражданских организаций рыночные агенты-оппортунисты окажутся в меньшинстве. Фактор социального отторжения их деятельности будет вынуждать к изменению бизнес-стратегий по образцу большинства конкурентов.
4. Оптимистический взгляд в будущее. Экономическая трансформация как проводник общесоциального устойчивого прогресса
Обратимся к феномену экономической трансформации в перспективе. Что произойдет к концу 2020-х годов и в последующем десятилетии?
Дать исчерпывающий ответ на этот назревший вопрос представляется крайне затруднительным, в первую очередь вследствие недостатка прогнозной информации. Разработка и сопоставление различных и притом разновероятных сценариев будущей трансформации современных обществ, опираясь на реалии нынешних двадцатых, составляет предмет кропотливых коллективных изысканий. Они, насколько известно автору, пока не выполнены.
В силу сказанного ограничимся рассмотрением исключительно консолидированного оптимистичного сценария будущего развития, затрагивающего большинство стран. Исходя из такого подхода, поставим перед собой задачу обосновать адекватное видение желаемого вклада экономической трансформации в обще социальный прогресс.
Для представления рассматриваемого оптимистичного сценария резонно обратиться к вербальной каузальной модели системной трансформации национального социума. Она отражает зависимость внутрисистемных институционализированных изменений от предполагаемых предшествующих перемен такого рода, в основном неинституционализированных, по существу, экзогенных драйверов (технологических, демографических, климатических) и наднациональных институционализированных системных сдвигов (рис. 2).
Рис. 2. Оптимистичный сценарий: утверждение устойчивой обще социальной трансформации в качестве доминирующей составляющей национального развития
Очевидное исходное допущение заключается в предваряющем осуществлении позитивных внутрисистемных сдвигов, которые, как предполагается, произойдут в 2020-е годы. В первую очередь это означает кардинальное приближение к целевым ориентирам устойчивого развития, сопряженное с рыночной и социальной адаптацией к цифровизации и другим технологическим сдвигам в отдельных странах к концу нынешнего десятилетия.
Следует также предполагать позитивный исход нынешнего глобального политического противостояния, в том числе необратимое завершение военного конфликта на Украине и в других странах, а также нейтрализацию исламистского и других экстремистских движений.
Влияние экзогенных, в основном неинституционализированных драйверов. По всем признакам знаковым атрибутом мирового развития в предстоящей 10-летней перспективе станет дальнейшая цифровизация, как и распространение «безлюдных» технологий и искусственного интеллекта. Судя по существующему мировому опыту, в высокотехнологичных секторах можно ожидать разового (в отдельных случаях более чем десятикратного) повышения отдачи от вложенного капитала.
Очевидно, по мере углубления цифровизации структура занятости всеобъемлюще изменится. С одной стороны, применение роботов и искусственного интеллекта неизбежно вызовет сокращение на порядок занятых в традиционных рыночных и социальных секторах. С другой стороны, произойдет дальнейшее увеличение числа высококвалифицированных специалистов, как и обычных работников в секторах новой нематериальной экономики.
В дополнение, резонно подчеркнуть, что значимый приток мигрантов с низкой квалификацией станет неприемлем. Повсеместной практикой станет отбор мигрантов-профессионалов, в основном высокой квалификации, по способностям.
Неравенство в оплате труда между высококвалифицированными работниками и другими занятыми продолжит увеличиваться [35]. Тем самым, обеспечение приемлемого базового уровня доходов для целого ряда многочисленных групп граждан останется необходимым для поддержания макросбалансированности. Следуя широко известной позиции международных экспертов, это условие будет выполнено в случае перераспределения национального дохода посредством специального налогообложения производителей, использующих производительные технологии c искусственным интеллектом и роботов.
Основополагающим экзогенным фактором системной трансформации выступают и демографические изменения, которые в весьма ограниченной мере поддаются корректировке посредством государственной политики. В частности, согласно прогнозам, в России они останутся весьма неблагоприятными в предстоящее десятилетие: численность населения уменьшится, несмотря на ожидаемый существенный прирост численности мигрантов [36].
По превалирующему мнению экспертов, тенденция ухудшения климата заметно ослабнет. Тем не менее она будет продолжать оказывать замедляющее влияние на позитивную экономическую динамику и понижать отдачу от человеческого и социального капиталов. По оценкам, экономический, и в еще большей мере социальный, ущерб от потепления климата будет весьма существенным.
Влияние надсистемных институционализированных перемен на основных социентальных полях. Согласно преобладающим ожиданиям [37], период турбулентности на мировой экономической арене заканчивается. По крайней мере, к концу нынешнего десятилетия предполагается принципиальное обновление глобальной финансовой архитектоники и деятельности существующих международных финансовых организаций, детерминируемое условиями равноправного сосуществования всех национальных рыночных экономик.
Есть основания предполагать качественное совершенствование формирующихся рыночных экономик в постразвивающихся и постсоциалистических странах. Тогда их взаимовыгодное сотрудничество со зрелыми экономиками западных стран станет неотъемлемым атрибутом мирового развития.
Также трудно преуменьшить влияние предполагаемых позитивных надсистемных перемен на статусном поле. Так, в рассматриваемой перспективе позитивным примером станет окончательное утверждение в большинстве индустриальных стран креативного среднего класса с современным образованием. Резонно рассчитывать на самое широкое распространение постматериалистического сознания среди представителей этой страты общества. Постматериалисты ценят личный предпринимательский успех и накопление индивидуального богатства наравне с профессиональными достижениями и долговременным человеческим благополучием в рамках окружающей человеческой и природной среды, обеспечивающими рост социального капитала.
Крайне важно и то, что в условиях тотальной информатизации признанные в мире достижения, касающиеся стандартов потребления, образования, улучшения здоровья и других жизненных ценностей, выступают образцами для подражания. Рано или поздно они будут заимствованы в большинстве стран.
Особенно значимыми выглядят возможные позитивные надсистемные перемены на политическом поле. Так, с течением времени, к концу нынешнего десятилетия, существующая супердуополия политической и военной силы может исчерпать себя в случае трех основных метаморфоз. Во-первых, вследствие взаимного сближения политических курсов США и Китая при отказе от имперского экспансионизма, в том числе в ходе реализации мегапроекта «Путь и дорога». Во-вторых, ЕС станет самостоятельным центром силы. Вновь намеченный (ранее отложенный) замысел создания вооруженных сил Европы, опираясь в первую очередь на ракетно-ядерный потенциал Франции, будет в конце концов реализован. При этом стоит обратить внимание на высокую вероятность тиражирования благодаря использованию цифровых технологий, новых компактных вооружений (нейтронных, биологических и др.), которые дадут возможность небольшим странам наносить невосполнимый ущерб потенциальным агрессорам. Наконец, произойдет, по-видимому, самая весомая метаморфоза: на порядки вырастет экономическая мощь, как и политический вес и военное могущество целого ряда стран постразвивающегося мира.
Реализация этих глобально значимых политических сдвигов по существу будет означать наступление новой стадии мирового развития, которое, по-видимому, будет ознаменовано формированием многополярного мирового политического порядка. Такой антигегемонистский порядок призван стать основой для удовлетворения национальных интересов средних и малых стран. Для этого потребуется создание гибких, подвижных во времени институциональных механизмов, включая организационные структуры обеспечения международной безопасности. Неотъемлемым условием глобальной политической устойчивости станет и утверждение международного правового режима в качестве юридически первенствующего.
Что в результате? Резонно сфокусировать внимание на основных внутрисистемных изменениях на национальном уровне в результате действия всех рассмотренных факторов.
Правомерно прогнозировать тектонические ресурсные сдвиги применительно к самым разным национальным экономикам. Произойдет существенное сокращение производственного и личного потребления материальных ресурсов в относительном и, вполне возможно, в абсолютном выражении, однозначно сопряженное с увеличением доли в ВВП инновационного и высокотехнологичного секторов и ростом высококвалифицированного человеческого потенциала по мере дальнейшей цифровизации. Знаковой переменой призвано стать и преобладание «зеленых» видов экономической деятельности во многих рыночных секторах в результате предполагаемого приближения к УР в предшествующий период.
Можно ожидать полного исчезновения препятствий в отношении совершенствования структурообразующих корневых институтов экономик с формирующимися рынками. Они достигнут качественного уровня институтов зрелых западных экономик.
На статусном поле кардинально усилится роль всех членов и групп общества, заинтересованных в развитии и эффективном использовании своих способностей. Посредством предоставления общественных благ, необходимых для творческого развития личности и эффективного креативного социального предпринимательства, будет достигаться значительный позитивный внерыночный эффект, выражающийся в ослаблении социального неравенства и одновременно повышении социальной интеграции и мобильности.
В результате целенаправленного формирования среды для творческого созидательного характера деятельности предпринимателей, особенно в социальной сфере, станет возможным устойчивый рост социального капитала как совокупности позитивных социальных связей, которыми индивидуумы обладают и которыми пользуются в межличностных и межгрупповых отношениях. По сути своей инновации, создаваемые этими предпринимателями, будут воплощаться в новых продуктах, услугах и бизнес-моделях, которые наиболее эффективно удовлетворяют социальные нужды и одновременно создают положительный социальный капитал.
Нельзя не затронуть хотя бы кратко и тему культурной адаптации к будущим вызовам. Она станет возможной в случае успешного формирования модели рационального культурного разнообразия с учетом исторического прошлого отдельных стран. Ее отличительной чертой выступает соответствие приоритетам и базовым гуманитарным ценностям при одновременном сохранении наследия и интеграционного своеобразия национальной культуры.
Принципиально важно, что в случае осуществления позитивного сценария системной трансформации в рассматриваемой перспективе возникнут необходимые условия для утверждения зрелых правовых институтов, дополняемых эффективными механизмами их применения. То же касается становления различных звеньев гражданского общества вследствие ожидаемого спонтанного распространения гражданских инициатив, особенно в рамках местного самоуправления.
В будущем наиболее предпочтительной выглядит партнерская модель, обеспечивающая устойчивый компромисс в отношениях гражданского сектора и государства. Она характеризуется участием представителей государства в различных формах равноправного сотрудничества с некоммерческими организациями (НКО) и гражданскими активистами, когда общественные организации предлагают решения социальных проблем и, в свою очередь, участвуют в постоянном совершенствовании деятельности звеньев государственной власти. Реальным станет превращение многих НКО в полноправных участников реализации социальных программ наряду с бюджетными учреждениями, выполняющими патерналистские функции.
Наконец, о позитивных внутрисистемных трансформационных изменениях на политическом поле. В первую очередь они выразятся в безоговорочном утверждении широко известных институтов, обеспечивающих устойчивую внутриполитическую трансформацию отдельных стран на принципах демократизации и соревнования [38].
На общественной авансцене в существенной мере восстановится роль демократических движений, представляющих интересы растущего среднего класса в его новом временном обличье. Одновременно правомерно ожидать существенного обновления национальной элиты, включая ее правящую часть. Обновленная элита будет объективно заинтересована в поддержании качества устойчивых внутриполитических институтов, от которых напрямую зависит, как свидетельствуют страноведческие исследования, эффективность административного управления на всех его уровнях.
Свершение рассмотренных внутрисистемных сдвигов по существу откроет возможность для необратимого качественного перехода к устойчивой обще социальной трансформации (УOСТ) в ее ранее представленном универсальном понимании. Понятно, что УОСТ неправомерно отождествлять с системной трансформацией всего общества. Неустойчивые трансформации, институционализированные и неинституционализированные, также могут иметь место. Однако они не будут оказывать значимого негативного системного эффекта и создавать угрозу нарушения траекторий УОСТ как знаковой доминирующей трансформации в социальной системе.
В развитие сказанного нельзя не упомянуть о коллизии дивергенции перехода к УОСТ. Бесспорно, в случае реализации обозначенного позитивного сценария мирового развития исчезнут внешние ограничения для такого всеобъемлющего и окончательного перехода в наиболее передовых странах, к числу которых следует отнести Швейцарию, Финляндию и ряд других [39]. В этих странах достижение принятых целевых ориентиров устойчивого развития по большинству направлений фактически имело место или, вероятно, произойдет наряду с обеспечением внутрисистемной сбалансированности – макро-, секторной, региональной. В свою очередь, в других развитых странах, в том числе постразвивающихся и постсоциалистических, не будет возникать препятствий для постепенного утверждения УОСТ по мере позитивных внутрисистемных перемен.
В развивающихся, до настоящего момента бедных, странах рассматриваемый переход навряд ли состоится и в следующее десятилетие, принимая во внимание преобладающие глобальные прогнозы. Тем не менее велика надежда на кардинальное приближение к траектории УОСТ и в этой части мира при условии эффективного соучастия в этом процессе большинства развитых стран в дополнении к мегапроекту «Путь и Дорога» Китая.
Утверждение УОСТ выглядит достижимым при сохранении в будущем широкой институциональной дивергенции национальных экономик различных стран. Этот трансформационный процесс совместим с реализацией институциональных моделей экономического развития Германии и других стран Западной Европы, а также моделей Японии и Канады. Аналогичное заключение можно сделать в отношении модели среднего пути развития в странах Юго-Восточной Азии, вполне оформившейся в Малайзии и Сингапуре. По-видимому, в случае обозначенных глобальных политических перемен не возникнет существенных препятствий и для согласования УОСТ с гибридной институциональной моделью развития Китая.
В то же время, как отмечалось ранее, Переход к УОСТ не совместим с экономическим курсом на базе неолиберальной или неоконсервативной институциональных моделей. Целый ряд стран будет поставлен перед дилеммой востребования коренных институциональных перемен, опосредующих отказ от преобладавшей в прошлом капиталистической ориентации.
Будущая роль экономической трансформации в рамках УОСТ. В первую очередь ее следует оценивать в проекции экономического роста. Бесспорно, рост ВВП, притом долговременный и непрерывный, необходим для надежного обеспечения приемлемого по мировым стандартам уровня благосостояния населения в количественном выражении. В частности, весьма продолжительное время потребность в его весомом увеличении будет сохраняться для такой страны, как Россия, где в течение длительного периода затягивания поясов среднедушевой уровень доходов и личного потребления был невысоким. Однако применительно к долгосрочной перспективе идеология максимизации экономического роста, по всей видимости, исчерпала себя.
Наиболее значимый аргумент: для воспроизводства потенциала постиндустриальной оцифрованной экономики, базирующейся на эффективном использовании энергетических и прочих ресурсов, в основном воспроизводимых, не требуется максимального количественного роста новых технологий и новой техники. Так, спрос на новые информационные технологии и компьютеры будет ограничен хотя бы с точки зрения физического числа их покупателей. При этом следует принимать в расчет, что, по всем прогнозам, в ближайшее десятилетие продолжится тенденция относительного удешевления техники (с точки зрения соотношения продажных цен и полезного эффекта).
Также в рассматриваемой перспективе, вероятно, не возникнет потребности в очень быстром росте физических объемов зданий, сооружений и других объектов инфраструктуры. Компактность и эргономичность большей части высокотехнологичных предприятий при устойчивой тенденции миниатюризации технологического прогресса – главный довод в пользу такого предположения.
Кроме того, весомый аргумент против максимизации экономического роста обусловлен ожиданием дальнейшего институционального совершенствования основных внутренних рынков в незападных странах, в том числе в России. По прогнозу, в рассматриваемой перспективе прибыльность инвестиций в реальных и иных секторах незападных экономик этих стран уменьшится и приблизится к существующей в западных странах [40]. Сначала это произойдет в Китае, а затем в других азиатских гигантах – Индии и Индонезии и в большинстве остальных постразвивающихся стран. Бурного роста большинства товарных рынков, вызванных конъюнктурными, и тем более спекулятивно финансовыми, факторами, наблюдаться не будет и, соответственно, у рыночных субъектов не будет возникать заинтересованности в максимальной аккумуляции производственного капитала. Сказанное, стоит заметить, не ставит под сомнение возможно высокую динамику в предстоящей перспективе локальных рынков недвижимости, отдельных предметов роскоши, особых медицинских препаратов и медицинских услуг (таких как операции по пересадке стволовых клеток). Вместе с тем роль названных высокодоходных рынков будет заведомо ограниченной.
Что касается личного потребления, то направления трансформации его структуры в ходе УОСТ в наибольшей степени будут предопределять изменения рациональных потребительских стандартов. На первый план выходит ценность качества жизни в окружающих природных условиях XXI в., что предполагает рациональное, однозначно нерасточительное личное потребление ресурсов. Осознание бессмысленности пользования ради престижных соображений множеством автомобилей, загородных зданий (для строительства которых используется огромная масса «коричневых» стройматериалов) и других атрибутов роскошной жизни, наносящих вред окружающей среде, станет основополагающей чертой будущей потребительской идеологии.
В конечном итоге прямое влияние будущей устойчивой экономической трансформации на состояние всей социальной системы следует оценивать, исходя из результирующего эффекта значимых структурных сдвигов. Правда, следует обратить внимание на вероятно широкий диапазон скорости этих сдвигов вследствие предполагаемого сохранения объективной дивергенции рыночных секторов. Заметим, что быстрый рост целого ряда инновационных и высокотехнологичных рынков, дополняемый адекватным экономическим регулированием, вполне согласуется с императивами универсальной устойчивости.
Можно подытожить. Будущая устойчивая экономическая трансформация имманентно сопряжена с неспешной, невзрывной, общеэкономической динамикой и в то же время – с фундаментальными структурными сдвигами, обусловливающими обще социальный прогресс. В конечном итоге он проявляется в повсеместном обеспечении высокого качества жизни, притом в полной мере с учетом гуманитарных базовых и экологических ценностей.
Впрочем, уместно сделать важное пояснение. Устойчиво благоприятные изменения на экономическом поле, объективно достижимые в очень значительной мере благодаря целенаправленной национальной и наднациональной экономической политике, ни в коей мере не следует трактовать как идеально наилучшие, так называемые «перфекционистские» процессы. Однако они необходимы для осуществления в принципе возможных оптимальных ресурсных и институциональных сдвигов, обусловленных инициативными решениями самих рыночных агентов.
Все более усиливается потребность в разработке и выполнении национальных стратегий устойчивого развития, вбирающих в себя экономическую составляющую как доминантную [41]. В результате станет достижимым адекватное пространственно-временное позиционирование реально достижимых траекторий экономических трансформаций на макро-, секторном и региональном уровнях в направлении ЦУР.
В данной связи, правда, представляется правомерным принципиальное уточнение. Непосредственная привязка стратегических проектировок устойчивой трансформации к целевым индикаторам Повестки-2030, фактически разработанных 10 лет назад и в значительной мере ориентированных на развивающиеся страны, не представляется целесообразной, в том числе в силу информационных затруднений. Правомерным выглядит востребование иного, реально выполнимого подхода. Он заключается в оценке степени приближения к императивам устойчивости самих целевых ориентиров социально-экономического развития, представленных в разработанных национальных стратегиях.
Применительно к многоразмерным национальным экономикам узловое значение приобретает приближение к траекториям устойчивого развития на региональном уровне. В частности, в нашей стране разрешение названной проблемы предполагает согласование основных направлений развития рыночных и нерыночных секторов, представленных в долгосрочных социально-экономических стратегиях российских регионов, с императивами устойчивого развития. Целесообразным представляется инкорпорирование в эти обновляемые стратегии индикаторов приближения к УР непосредственно по основным направлениям развития регионов.
***
Обоснование предпочтительного выбора будущего экономического развития выступает необходимым предваряющим условием преодоления тенденций общественного регресса. Как стремился показать автор, выполнение сценария, опосредствующего такой выбор, вполне реально, несмотря на немалую вероятность продолжения нынешних неблагоприятных политических пертурбаций глобальной значимости.
About the authors
Arkady Martynov
Institute of Economics (RAS)
Author for correspondence.
Email: socpolma1@mail.ru
Grand Ph.D. in Economics, Professor, Head Researcher
Russian Federation, MoscowReferences
- Валлерстайн И. После либерализма. М.: УРСС. 2003.
- Giddense A. A contemporary critique of historical materialism. V. 1. Berkeley: University of California Press. 1983.
- OECD 2015. How’s Life? 2015: Measuring Well-being. OECD Publishing, Paris.
- Stiglitz J., Sen A., Fitoussi J-P. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. 1998. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/8131721/8131772/Stiglitz-Sen-Fitoussi-Commission-report.pdf
- Stiglitz J., Fitoussi J.-P., Durand M. Beyond GDP: Measuring What Counts for Economic and Social Performance, OECD Publishing, Paris. 2018.
- Лист Ф. Национальная система политической экономии. М.: Европа, 2005.
- Hellmich S.N. What is Socioeconomics? An Overview of Theories, Methods, and Themes in the Field. Forum for Social Economics, 2017. 46(1), 3–25. URL: https://doi.org/10.1080/07360932.2014.999696
- The Future of Growth Report 2024. World Economic Forum. https://www.weforum.org/reports
- Поланьи К. Великая Трансформация. СПб.: Алетейя, 2002.
- Парсонс Т. О социальных системах. М.: Академический Проект, 2002.
- Гидденс Э. Устроение общества. Очерк теории структурации. М.: Академический Проект, 2003.
- Луман Н. Социальные системы. СПб.: Наука, 2007.
- Свистунов В.М., Лобачев В.В. Цифровизация экономики: современные тенденции и особенности // Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России. 2022. № 5. С. 5–10. URL: https://doi.org/10.12737/2305-7807-2022-11-5-5-10
- Вуколов В.Л. Цифровая экономика и рынок труда, цифровые технологии и трудовые отношения: взаимовлияние, особенности и тенденции развития // Социально-трудовые исследования. 2023. Т.50. № 1. С.24–30. URL: https://doi.org/10.34022/2658-3712-2022-50-1-24-30.
- Цифровая трансформация российских компаний. Naumen Reearch. URL: https://www.Naumen_Research_Digital_Transformation_2023.pdf
- Seizing Business Opportunities in China’s Transition Towards a Nature-positive Economy, 2022. World Economic Forum. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_New_Nature_Economy_Report_China_2022.pdf
- How Asia’s green economy will transform the world in the next decade. World economic forum. May 26, 2023. URL: https://www.weforum.org/agenda/2023/05/how-asia-green-economy-transform-world-next-decade
- Green Economic Policies, Strategies & Initiatives of India. December 2023. EAI URL: http://dx.doi.org/10.4108/ew.4659
- TWI2050 – The World in 2050. 2019. The Digital Revolution and Sustainable Development: Opportunities and Challenges. Laxenburg: International Institute for Applied Systems Analysis. doi: 10.22022/TNT/05-2019.15913
- Цифровая трансформация: ожидания и реальность. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2022. 221 с.
- A Second Trump Presidency? Potential Economic Effects. MetLife Investment Management. February 29, 2024. URL: https://investments.metlife.com/content/mim-a-second-trump-presidency-potential-economic-effects.pdf
- The Social Market Economy. German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action. URL: https://www.bmwk.de/Navigation/EN/Service/Contact/contact.html
- Zhang X. Is China Socialist? 2023. Theorising the Political Economy of China // Journal of Contemporary Asia. 2023. Vol. 53, No. 5, P. 810–827. URL: https://doi.org10.1080/00472336.2023.2235757
- Giddings B., Hopwood B., O’Brien G. Environment, economy and society: fitting them together into sustainable development // Sustainable Development. 2002. Vol. 10. P. 187–196. URL: https://doi.org10.1002/sd.199
- Fisher J., Rucki K. 2017. Re-conceptualizing the Science of Sustainability: A Dynamical Systems Approach to Understanding the Nexus of Conflict, Development and the Environment // Sustainable development. 2016. Vol. 25. P. 267–275. URL: https://doi.org10.1002/sd.1656
- Martynov A. 2019. The Turn to Overall Sustainable Social Transformation: Does it Real? Preprints, 2018100148. http://www.10.20944/preprints201810.0148.v2.
- Gallopin G. Linkages between vulnerability, resilience and adaptive capacity // Global Environmental Change. 2006. Vol. 16. P. 293–303.
- Folke C. Resilience (Republished) // Ecology and Society. 2016. Vol. 21, No. 4. P. 44–50.
- Statistical annex of Alert Mechanism Report 2022. 2021. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/info/publications/2022-european-semester-alert-mechanism-report
- Alert Mechanism Report 2023. 2022. European Commission. URL: https://www.europeansources.info/record/alert-mechanism-report-2022
- Белокрылова О.С., Лю Пэн. Цифровые особенности современного рынка труда. 2023. c. 585–588. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tsifrovye-osobennosti-sovremennogo-rynka-truda
- Aghion Ph., Antonin C., Bunel S., Jaravel X. 2023. Modern manufacturing capital, labor demand and product market dynamics: Evidence from France. Centre for economic performance. Discussion Paper No. 1910. URL: https://cep.lse.ac.uk/pubs/download/dp1910.pdf
- Sadollah A., Nasir M., Zong W.G. 2020. Sustainability and Optimization: From Conceptual Fundamentals to Applications. Sustainability, 14 May.
- Get-ready-for-the-next-wave-of-ESG-reporting. 2023. KPMG. URL: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/pdf/2023/6/Get-ready-for-the-next-wave-of-ESG-reporting.pdf
- Acemoglu D., Jonas Loebbing J. 2022. Automation and Polarization. NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH WORKING PAPER 30528. URL: https://doi.org10.3386/w30528
- Если быть точным // Ведомости. 3 ноября, 2022. URL: https://www.vedomosty.ru/society/articles
- World economic outlook. Global recovery is steady but slow and differs by region. IMF. April, 2024. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/04/16/world-economic-outlook-april-2024
- Mazarr M. Summary of the Building a Sustainable International Order Project. RAND Corporation. 2018. URL: https://rand.org/pubs/research_reports/RR2397.html
- Мартынов А. Устойчивый прогресс как результат общесоциальной трансформации // Общество и экономика, 2021. №1. С. 100–120. URL: https://doi.org10.31857/S020736760013405
- -year return forecasts (2023–52). 2023. Schroders. URL: https://mybrand.schroders.com/ Long-run-return-forecasts-2023-Part-2a.pdf
- Мартынов А. К национальной стратегии устойчивого развития // Общество и экономика, 2022. № 12. С. 88–112.