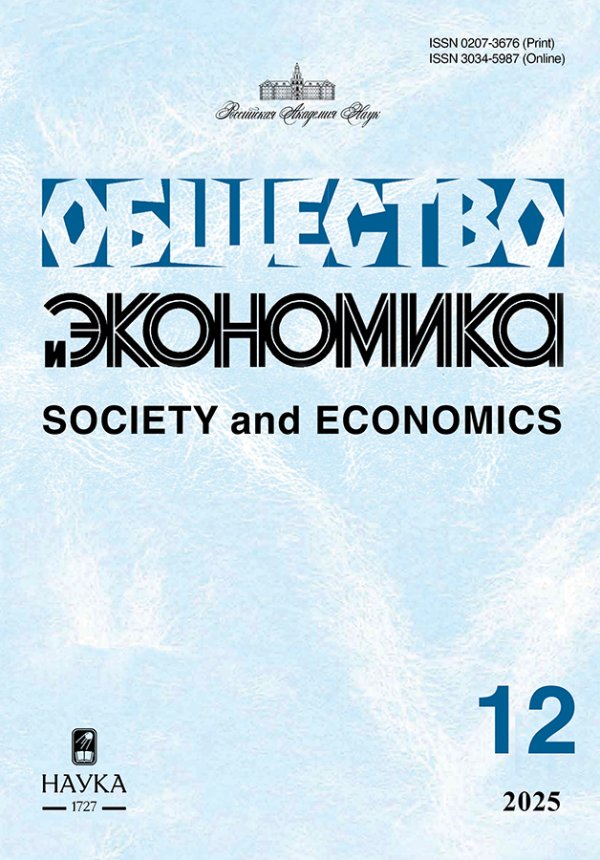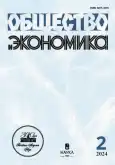Неприменимость общеэкономических подходов к отстающим странам
- Авторы: Князев Ю.1
-
Учреждения:
- ФГБУН Институт экономики РАН
- Выпуск: № 2 (2024)
- Страницы: 26-40
- Раздел: ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0207-3676/article/view/256506
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0207367624020021
- ID: 256506
Полный текст
Аннотация
В мире в течение столетий наблюдается большой разрыв в уровне экономической развитости между странами «золотого миллиарда» и остальной частью земли, где за исключением отдельных государств (Китая, «азиатских тигров», некоторых других стран) имеет место стагнация и даже деградация хозяйственной активности и уровня жизни населения. Цель статьи состоит в доказательстве ограниченной возможности применения к отстающим странам, в том числе постсоциалистическим государствам, включая Россию, многих теоретических подходов и предлагаемых практических рецептов, которые не соответствуют экономическим реалиям, обусловленным их неблагоприятным положением в глобализирующемся мире. Исследуются причины экономического отставания этих стран, влияние разных факторов на их развитие и условия, определяющие их стагнацию; критически оцениваются некоторые предлагаемые рецепты выхода из отсталости. Обосновывается неприемлемость для современной России некоторых постулатов ортодоксальной экономической теории. Автор излагает свое видение путей преодоления экономической отсталости и рассматривает потенциальные возможности ускоренного роста российской экономики.
Полный текст
Введение
По критерию динамики экономического развития все страны мира можно подразделить на три группы:
Объектом нашего исследования являются отстающие в экономическом отношении страны мира. Его предмет – это общеэкономические и практические подходы, применяющиеся к отстающим странам. Цель исследования – определить степень применимости общетеоретических подходов к изучению экономики отстающих стран и практическую ценность подходов для выхода этих стран из отсталости.
Под общеэкономическими подходами ограниченной применимости понимаются в данной статье, во-первых, теории, постулирующие научные положения, относящиеся к экономике вообще без учета специфики различных стран и их отдельных групп, и, во-вторых, вытекающие из такой общетеоретической парадигмы практические выводы и рекомендации, адресованные любым странам, но не подходящие для отстающих стран, находящихся в специфических, по сравнению с другими государствами, обстоятельствах. Понимаемые в этом смысле теоретические подходы присущи как современному мейнстриму в экономической науке, так и другим ортодоксальным и гетеродоксальным теориям, которые распространяют свои положения на проблематику отстающих стран, игнорируя при этом особую ситуацию, в которой те оказались волею мирового исторического развития. Образчиком практического подхода подобного рода может служить пресловутый «Вашингтонский консенсус», давший развивающимся странам типовые рекомендации, которые так и не помогли им преодолеть свое отставание от мирового авангарда.
В данном исследовании поставлена задача верификации двух научных гипотез. Первая – это утверждение, что общеизвестные экономические теории и построенные на их основе модели в большинстве случаев не подходят к объяснению реальности отстающих в развитии стран и к практическому применению в условиях их инерционной эволюции. Вторая гипотеза предполагает возможность более быстрого развития отстающих стран, включая Россию, при условии отказа от господствующих теоретических догм и проведения осознанной политики ускоренного экономического роста вопреки краткосрочным рыночным критериям, лишь замедляющим эволюционную динамику.
Вместо традиционного обзора литературы ограничимся констатацией, что тематика развивающихся стран и государств с формирующимся рынком весьма актуальна в зарубежной литературе и находит систематическое отражение в документах Всемирного банка, МВФ, ЮНКТАД, Азиатского банка развития. В советское время проблемам менее развитых стран уделялось большое внимание многими российскими учеными, среди которых можно выделить Е.М. Примакова, Н.Н. Иноземцева, О.Т. Богомолова, В.Л. Тягуненко, Л.З. Зевина. Полный список источников, посвященных странам третьего мира, был бы внушителен, но вряд ли он содержал бы работы, специально посвященные именно нашей теме, впервые затрагивающей аспект ограниченной применимости общеэкономических подходов к изучению отстающих в развитии стран и поиску путей их ускоренного развития.
Причины экономического отставания стран
Наличие отстающих в развитии стран и необходимость устранения этого отставания признаются многими международными организациями. В перечне задач повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., утвержденной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 25 сентября 2015 г., 10-м пунктом значится «Сближение уровней развития стран»1. Хотя видимого продвижения к этой цели пока не наблюдается, сам факт ее постановки говорит о наличии этой проблемы для большого числа отстающих стран.
Сформулированная Р. Солоу 2 теорема о более быстром развитии экономики развивающихся стран, по сравнению с развитыми, исходила из данных о более высоких темпах роста узкой группы отстававших стран и не оправдалась для всего третьего мира. Объяснялось это чаще всего «эффектом колеи» (path dependence), т. е. зависимостью развития от наследия прошлого, которое мешает менее развитым странам поддерживать устойчивый рост длительное время, хотя они могут иногда совершать краткосрочный экономический подъем3.
Обширное исследование А. Мэддисона обнаружило, что за длительный период 1820–1998 гг. темпы экономического роста группы из 21 страны высокого уровня развития составили в среднем 1,67% (траектория А), в то время как у остальных стран – 0,95% (траектория Б), в результате чего разрыв между этими двумя группами государств увеличился за это время с двух раз до семи4. В ХХ в. только пять стран смогли поменять траекторию Б на траекторию А – Япония, Сингапур, Южная Корея, Гонконг и Тайвань5. Сюда стоит добавить еще СССР и Китай, где прогресс был обеспечен благодаря принципиально иной общественно-экономической системе. Везде это стало следствием глубоких изменений в институциональной среде этих государств: «Переход с одной траектории на другую связан с разработкой новых институтов, их устойчивостью на протяжении длительного периода»6.
Исследования Инглхарта и Венцеля 7на основе более короткого по времени современного периода (1992–2019 гг.) показали, что среднегодовые темпы роста ВВП стран группы А (24 государства) и группы Б (142 государства) составили 1,70 и 2,09% с определенными вариациями по 8 институциональным кластерам. Возможно, более низкие (на 0,4 процентного пункта) темпы экономического роста мирового авангарда стран, в сравнении с остальными государствами на протяжении более четверти века, в наше бурное время свидетельствует об их большей уязвимости от кризисных ситуаций в условиях глубокой включенности в глобальные структуры (в том числе в международные цепочки добавленной стоимости). Нельзя также исключать и способность некоторых стран к преодолению отставания в результате их целенаправленного стремления выйти из инерционной исторической колеи. Как будет показано в статье, это возможно только в том случае, если такие страны действуют вопреки общепринятым теоретическим и практическим подходам к обеспечению их ускоренного развития.
Для ответа на вопрос о причинах фактически сложившегося разделения стран на вышеуказанные три группы необходимо выяснить, какие факторы повлияли на более медленный рост страновых ВВП в большинстве государств, оказавшихся, в терминах мир-системного анализа, на периферии мировой экономики и вынужденных либо догонять ушедший вперед авангард, либо топтаться на месте или даже еще больше отставать. Основными показателями экономической отсталости страны служат низкий уровень ее подушевого ВВП, по сравнению с группой высокоразвитых государств, и невысокие темпы экономического роста, не позволяющие обеспечить догоняющее развитие. Факторы, обусловившие разнонаправленную экономическую динамику стран, можно разбить на четыре группы – географические, исторические, технологические и социальные. Именно их неизбежное воздействие приводит к дифференциации стран по уровню экономической развитости и лежит в основе хорошо известного закона неравномерности мирового развития.
Исходной и трудно устранимой причиной ускоренного роста одних и отставания других стран являются разные географические (природные) условия жизни людей в зависимости от климата и земельного ландшафта. Очевидно, что в регионах сурового климата – слишком холодного или жаркого – изначально снижается трудоспособность и повышаются издержки выживания человека и обеспечения его нормальной жизнедеятельности. Этим объясняется отставание стран и регионов, расположенных за полярным кругом и в экваториальных пределах Африки, Азии и Латинской Америки. Ландшафтные особенности горных и пустынных местностей также предопределяют их более медленное развитие.
На отставание многих стран существенно повлияли и особенности их исторической эволюции, зависевшие от сложившейся судьбы в силу неблагоприятных для них взаимоотношений с другими государствами и цивилизациями. Этим в основном объясняется временное отставание таких ранее успешных государств, как Китай, Индия, Иран, ряда коренных народов латиноамериканских стран, известных своими техническими и культурными достижениями в прошлом. Резкие повороты их исторических судеб напрямую зависели от соотношения сил на международной арене в разные эпохи.
Научно-технические достижения также играли важную роль, прежде всего для ускоренного роста экономики ныне высокоразвитых стран, уходивших благодаря этому далеко вперед, по сравнению с прочими, оказавшимися к настоящему времени на мировой периферии. Технологическими факторами объясняются и проходящие на наших глазах рывки в эволюции догоняющих стран, которые сумели сначала «имплантировать» достижения развитых государств, а затем на этой основе создать собственный инновационный потенциал. Новые технологии позволяют также преодолевать географические барьеры, превращать, как это сделал Израиль, ранее пустынные земли в территории, комфортные для жизни людей.
Большое значение имеют социальные (общественные) условия жизнедеятельности разных народов, которые под влиянием этих факторов могут оказаться в выигрыше или проигрывать в международной конкуренции. При этом речь идет не только об объективной смене общественно-экономических укладов и разных цивилизационных особенностях, которые неизбежно влияют на ход развития стран. Социальные факторы определяют также сознательный выбор отдельных государств, народы которых по-своему понимают, в чем состоит их предназначение и счастье. Именно этим факторам отводится особая роль в нашем исследовании, поскольку ими в значительной мере объясняется не только сам феномен отставания, но и определяется реальная возможность выхода из отсталости путем социальных трансформаций, мобилизующих волю, силы и средства народов и их государств.
Примеров стихийного перехода стран из отсталого состояния в развитое в мировой истории практически не было. Но зато хорошо известны страны, совершившие невероятно быстрые рывки, изменявшие облик их экономики благодаря следованию не проторенными путями, а буквально против течения, определяемого краткосрочными рыночными критериями. Ими была избрана иная дорога, пролегающая через резкую смену целевых ориентиров, исходивших не из текущих, а из долгосрочных критериев экономической эффективности, обеспечивающих выигрыш в длительной перспективе. Такое поведение сродни интуиции или твердому расчету удачливых бизнесменов, которые открывают свое рискованное дело в надежде не на сиюминутный, а на конечный выигрыш благодаря своей индивидуальной прозорливости, вопреки всеобщим опасениям.
Все вышеуказанные факторы, влияющие на ход экономической эволюции человечества, так или иначе рассматривались многими учеными, но делалось это в общефилософском плане, чаще всего без привязки их к проблематике неравномерного экономического развития разных стран. Можно сослаться, например, на статью В.М. Полтеровича [9], в которой характеризуются концепции Д. Даймонда (1997 г.), Д. Норта, Дж. Уоллиса и Б. Вайнгаста (2009 г.), Д. Аджемоглу и Дж. Робинсон (2012 г.), а также К. Вельцеля (2013 г.), и отмечается их односторонность в том смысле, что они при рассмотрении факторов, влияющих на развитие разных стран, делают упор лишь на некоторые из факторов (Д. Даймонд – на примат географической среды, обе группы следующих авторов – на чисто институциональный подход, Дж. Робинсон – на гражданскую культуру). Автор справедливо указывает, что рассмотренные им теории «не дают удовлетворительного объяснения процессу общественного развития» и что они «рассматривают современное конкурентное общество как вершину цивилизации, даже не пытаясь выявить тенденции дальнейшей социально-экономической эволюции» [9. С. 23].
Хотелось бы обратить внимание на то, что, находя рациональное зерно в каждой из рассмотренных теорий и критикуя их за ограниченность отдельных положений, автор статьи игнорирует марксистскую теорию, подробно объясняющую причины и движущие силы исторического развития, последовательную смену общественно-экономических формаций, отличающихся разной мотивацией человеческого труда, обеспечивающей рост его производительности.
Некоторые предлагаемые рецепты выхода стран из отсталости
Начиная с «Вашингтонского консенсуса» вплоть до настоящего времени предлагаются в основном одни и те же рецепты преодоления отставания стран, составляющих абсолютное большинство в капиталистическом мире. Добавляются лишь некоторые современные новшества: «В настоящее время исследователи придерживаются мнения, что успешная политика догоняющего развития должна быть:
Однако эти рецепты мало где привели к позитивным результатам. В чем же их основной порок?
Рассмотрение этого вопроса начнем с теорий, которые исследуют главные движущие силы экономического прогресса, заложенные в научно-технических инновациях и объясняющие сам факт отставания стран, а также создающие возможности его преодоления. Оттолкнемся от теории Й. Шумпетера о «созидательном разрушении» (creative destruction) [28], согласно которой «процессы создания нового и более производительного сопровождаются конкурентными процессами вытеснения старого и менее эффективного» [5. C. 98].
Прямолинейное подчеркивание триумфального хода созидательного разрушения плохо коррелирует с фактическим положением дел в странах, где фирмы с разными уровнями производительности прекрасно сосуществуют. Внутриотраслевые разрывы по этому показателю имеют место в передовых США (двукратная разница между фирмами верхнего и нижнего дециля), в догоняющих странах (в Китае и Индии – пятикратная разница), а в России разрывы между противоположными квинтилями в отраслях промышленности достигают 10 и 20-кратных величин [1, 23, 29]. Это говорит о том, что отстающие фирмы приспосабливаются к рыночным условиям и продолжают существовать наряду с передовыми, причем для отстающих стран это особенно характерно. В них не происходит замещения устаревших фирм новыми по той причине, что новые просто не возникают из-за отсутствия условий для научно-технического прогресса, а если случайно и появляются, то не выживают вследствие невозможности сбыта инновационной продукции ни на внутреннем, ни на внешнем рынках, поделенных успешными иностранными производителями и торговцами.
Эта особенность отстающих стран упоминается в одном из ежегодных докладов ЕБРР, в котором отмечалось, что в развитых странах или отраслях, где число высокопроизводительных фирм превосходит число отстающих, появление новых фирм-конкурентов побуждает остальных игроков усиливать инновационную активность для сохранения своей доли рынка. В развивающихся же странах, где доминируют низкопроизводительные игроки, появление на рынке новых фирм-лидеров может вести к снижению инновационной активности укоренившихся компаний в силу отсутствия перспектив развития даже при вложении больших инвестиций в новое оборудование или технологические разработки [20].
В вопросе о роли государства в экономическом развитии шумпетерианская теория роста занимает позицию между неоклассическим и кейнсианским подходами. Вместо минимальной или, напротив, доминирующей роли государства она обосновывает его разумное вмешательство в экономическую жизнь с целью не только обеспечения свободы конкуренции, но и устранения как монополистических, так и административных, институциональных, инфраструктурных и других барьеров на пути реаллокации ресурсов в интересах экономического роста [18].
Отношение Шумпетера к роли государства весьма осторожно: «Подчеркивая важную роль государственных инвестиций в сектор R&D и национальную систему образования, шумпетерианские модели одновременно предостерегают правительство от массированных государственных вложений в производственные секторы, поскольку такие вложения чреваты вытеснением частных инвестиций, нарушением работы конкурентных рынков по оптимальному распределению ресурсов и, как следствие, консервацией технологической отсталости страны» [5. C. 106].
На основании подобных оценок делается вывод, что «странам необходимо не просто поощрять инвестиции компаний в инновации (на чем, например, сконцентрированы сегодня российские экономические стратегии), а проводить широкие институциональные реформы, нацеленные на дальнейшую либерализацию экономики, наращивание ее внешней открытости (устранение барьеров для подключения к глобальному обороту инноваций) и создание безбарьерной внутренней среды для эффективного перелива ресурсов» [5. C. 109].
Очевидно, что такие предложения не учитывают специфики отстающих стран, о которых говорилось выше. Односторонними являются также утверждения, что без принципиального улучшения институциональной среды и без запуска механизмов созидательного разрушения любые принимаемые государством меры по стимулированию инноваций и укреплению национальной конкурентоспособности будут иметь либо ограниченный, либо нулевой эффект [22].
Столь жесткое противопоставление рыночной среды и государственной политики означает, на наш взгляд, превалирование идейных пристрастий над здравым смыслом. Ведь верно и другое: без целенаправленной структурной и инновационной политики не будут иметь серьезного эффекта меры по совершенствованию конкурентной среды, ибо они не дают бизнесу главного – государственных ориентиров и гарантий успешного развития.
Неприменимость общих подходов к отстающим странам в эпоху глобализации
Изначально экономическая теория строилась как описание хозяйства, замкнутого в границах одного государства. И хотя вопросы внешней торговли затрагивались отдельными течениями научной мысли (например, меркантилистами, фритредерами), классическая теория изучала законы рынка, ограничивавшегося пределами страны. Ценообразование и аллокация капитала мыслились как замкнутые процессы, имеющие дело с ограниченными ресурсами и их обменом, и распределением внутри одной страны. Конкуренция между рыночными субъектами также ограничивалась ее границами.
С наступлением глобализации эти принципиальные положения остались прежними, но относиться они стали ко всему мировому хозяйству. И особых проблем не возникло бы, если бы всемирное пространство не продолжало быть поделенным между разновеликими суверенными государствами. Хотя границы между ними стали легко проходимыми для товаров, услуг, рабочей силы и капитала, тем не менее сохранились прежние различия внутри стран между национальными и иностранными компаниями по финансовой и организационной мощи, технической оснащенности, инновационной способности и общей экономической эффективности. С учетом соотношения между ценой и качеством выпускавшихся ими товаров отечественные производители во многих странах оказались неконкурентоспособными по отношению к заграничным и лишились шансов на развитие, которые они имели раньше, соревнуясь с примерно равными по мощи конкурентами на замкнутом внутреннем рынке.
Новые условия соревнования с заведомо более сильными и успешными конкурентами не только на внешних, но и на внутренних рынках поставили под вопрос непреложную истинность теоретических построений, верных для замкнутого хозяйства. Если раньше внутренний спрос на определенную продукцию восстанавливался после банкротства неудачного предпринимателя за счет появления нового более успешного отечественного же предприятия, то теперь предложение товаров восстанавливается за счет более активной иностранной компании. В выигрыше оказываются мощные ТНК, зарабатывающие в чужих странах и переводящие прибыль в собственные государства.
Сторонники неолиберализма считают, что рынок сам способен исправлять свои провалы с помощью периодических кризисов, животворно обновляющих производственный аппарат. Но в современную эпоху все в большей мере стали уповать на государство всеобщего благосостояния с его ориентацией на систему социального обеспечения и большей социальной справедливости: «Системный подход к управлению кризисами, скорее, присущ этатизму и чаще ассоциируется с капитализмом, построенным на развитии не рынка, а производства, где внедрение технологических инноваций и распространение технологий в масштабе мировой экономики выступают в роли главной движущей силы развития современной экономики. …Если следовать подобному технократическому подходу, то магия рынка оказывается не такой уж всесильной, слишком очевидными становятся все его недостатки и слабые места» [2. C. 61].
Непригодность неолиберальных концепций развития для современной России
Утвердившиеся с начала 1980-х годов неолиберальные концепции экономического развития показали свою непригодность для практического применения в нашей стране, поскольку проводимый на их основе курс дал минимальные положительные результаты, но зато в конце концов завел ее в тупик затухающего роста и стагнации реального производства. Наибольший вред был причинен преждевременным и неограниченным открытием нашей экономики воздействию внешних сил, в результате чего многие лишившиеся защиты отрасли и сегменты промышленности были разрушены или ныне влачат жалкое существование (речь идет в первую очередь о станкостроении, авиационной, автомобильной и судостроительной отраслях, не говоря уже о бытовой электротехнике и легкой промышленности).
Сторонники полной открытости российской экономики обычно ссылаются на якобы несомненные выгоды от этого для отдельных стран и всего мирового хозяйства. При этом приводятся аргументы самого общего характера из экономической теории и международной практики без их конкретизации, в зависимости от уровня развитости и реального положения государств в системе мирохозяйственных отношений.
Авторы статьи «Открытость российской экономики как источник экономического роста» [4] ссылаются на А. Крюгер, утверждавшую, что международная торговля позволяет странам получать товары и услуги, которые дешевле импортировать, чем производить самим, и что продолжительный устойчивый рост нельзя обеспечить ограничением импорта и государственной поддержкой производства, не ориентированного на экспорт. Эти теоретические положения считаются очевидными до банальности. Но они не подходят для конкретных стран, оказавшихся в ситуации разрушенной или отсталой экономики.
В начале 1990-х годов широкое распространение получили мнения экспертов о том, что нет смысла сохранять собственную автомобильную и авиационную промышленность, как и другие отрасли машиностроения, из-за их неконкурентоспособности и что гораздо выгоднее приобретать импортные автомобили и самолеты, как и любые станки и машины, так как они более качественны и дешевы, по сравнению с отечественными. Результатом было полное разрушение обрабатывающих производств и бурное развитие сырьевых отраслей, продукция которых (нефть, газ, металлы, дерево, минеральные удобрения) была в то время единственно востребованной на внешнем рынке. Только благодаря поддержке государства удалось сохранить отечественное производство отдельных типов автомобилей, самолетов и некоторых других высокотехнологичных изделий (прежде всего в атомной, космической и военно-технической отраслях).
Авторы цитируемой статьи и сейчас призывают довольствоваться тем, что еще сохранилось в условиях открытости российской экономики, не помышляя ни о какой модернизации и инновационном развитии: «В российской экономике есть отрасли, продукция которых успешно конкурирует с зарубежными аналогами или сможет конкурировать при определенной поддержке (часть предприятий нефтепереработки и нефтехимии, черная и цветная металлургия, сегменты химической промышленности, производство пищевых продуктов, отдельные подотрасли сельского хозяйства и др.)» [4. C. 36]. О возрождении станкостроения, инструментальной, электротехнической, электронной, легкой промышленности, производства бытовой техники и других обрабатывающих отраслей предлагается, таким образом, забыть, не заботясь о национальной безопасности и подвергаясь риску закрытия большинства предприятий ОПК, работающих в основном на импортных станках и оборудовании, в случае распространения санкций Запада на эту продукцию двойного назначения. Удивительно, что вполне разумная и единственно возможная в условиях внешней блокады ориентация на мобилизацию внутренних резервов преподносится как непозволительное отступление от полной открытости экономики, причем используются все те же аргументы реформаторов 1990-х годов с добавлением критики импортозамещения, позволившего, как показывает практика, оживить сельское хозяйство и некоторые промышленные производства. Но подобные рекомендации полностью утратили силу в чрезвычайных условиях полной изоляции России от Запада, в которую она попала после начала специальной военной операции на Украине.
Пути преодоления странами своей экономической отсталости
Необходимость учета специфики стран для решения задач успешного развития стали признавать многие аналитики. Об этом говорит, например, само название статьи, призывающей от универсализма перейти к индивидуализму, понимаемому как индивидуализация подходов к отдельным государствам при диагностировании болезней их отставания и выработке рецептов ускоренного роста [8]. Соглашаясь с полезностью такого предметного подхода, мы тем не менее считаем, что существуют общие причины отставания группы стран, о которых говорилось выше.
Все большее число авторов обращают внимание на то, что мощным драйвером экономического роста становится радикальное изменение отраслевой структуры народного хозяйства развивающихся стран за счет роста более современных и высокопроизводительных отраслей [27].
Немаловажное значение для ускоренного роста имеют субъективные факторы, на необходимости мобилизации которых настаивают авторы, выступающие за проведение активной экономической политики [10; 17]. Именно от сознательных действий властей в конкретных странах зависит использование преимуществ, заложенных как в совершенствовании структурного облика экономики, так и в развитии внешнеторговых связей с учетом неоднозначного характера нынешней глобализации, выигрышной для одних и вредной для других государств.
В вопросе об идейной направленности действий властей, осуществляющих коренные преобразования в своей стране, мы разделяем следующую точку зрения: «…Приходится признать, что на большей части современного мира черта, разделяющая страны по возможностям и перспективам развития, проходит не между демократическими и недемократическими режимами, а между режимами, способными проводить модернизацию в своих странах, и режимами, ведущими свои общества в исторический тупик и угрожающими им развалом (или продолжительным гниением)» [14. C. 96]. От себя добавим, что главным сдерживающим развитие фактором является неспособность отстающих стран поменять свою архаичную производственную структуру на присущую развитым странам инновационную систему воспроизводства высокотехнологичных изделий, обеспечивающую на порядок более высокий уровень подушевого ВВП и материального благосостояния.
Весь накопленный мировой опыт свидетельствует о том, что экономически менее развитые страны могут преодолеть свою отсталость только при условии проведения политики, направленной на достижение этой цели. Это становится ясно все большему числу авторов, пишущих на эту тему: «Становление мирового хозяйства и глобального капитала в некоторой степени смягчает противоречия воспроизводственного процесса в экономически развитых странах, однако это смягчение одновременно приводит к консервации отсталости менее развитых стран. При этом в ловушку отсталости эти страны попадают в силу неконкурентоспособности их промышленной продукции, что ведет к межотраслевой миграции ресурсов в добывающие отрасли и сельское хозяйство и, соответственно, к примитивизации отраслевой структуры экономики. Преодоление отсталости возможно только при наличии социальных сил, заинтересованных в таком преодолении и способных их осуществить» [3. C. 164].
История последнего пятидесятилетия свидетельствует о том, что во всех странах, ставших на путь догоняющего развития, были инициированы государством разные по своему характеру общенациональные программы, позволившие круто изменить инерционное движение, провести существенные изменения в отраслевой структуре экономики и добиться впечатляющих хозяйственных и социальных успехов. К примеру, «корейское чудо» стало возможным благодаря сознательной специализации страны на четырех отраслевых направлениях – судостроении, автомобилестроении, бытовой электронике и робототехнике.
Возможности ускоренного экономического роста в России
В российских условиях выход на траекторию ускоренного роста означает отказ от бесплодных надежд на то, что рынок сам все расставит по своим местам, и необходимость перехода к построению социально-регулируемой рыночной экономики, в которой экономический рост достигается установлением четких отраслевых и продуктовых приоритетов [6]. С этим не соглашаются сторонники неолиберального подхода, подвергающие необоснованной, на наш взгляд, критике робкие попытки правительства селективно поддерживать высокотехнологичные компании.
На протяжении последних лет неоднократно ставился правильный диагноз нынешнему состоянию нашего общества, отмечались проблемы, существование которых никем не оспаривалось по причине их очевидности. Констатировалось, что в России деградирует промышленность, продолжается отставание в научно-техническом развитии, сохраняется экспортно-сырьевая структура экономики, углубляется дифференциация по уровню экономической развитости российских регионов, растет пропасть между богатыми и бедными, усиливается неэффективность государственного управления и судебной системы.
Высказываются разные точки зрения относительно путей дальнейшего социально-экономического развития страны, которые можно сгруппировать в соответствии с двумя принципиально разными подходами. Одни авторы исходят из того, что круто менять нынешний ход развития нецелесообразно, а грубо вмешиваться в объективные рыночные процессы (куда бы они нас в конечном счете ни завели) непозволительно. Трезво оценивая возможный результат такого развития, его сторонники прогнозируют длительную экономическую стагнацию, в лучшем случае вялую динамику темпами около нуля. Понимая неприемлемость такой мрачной перспективы, президент В.В. Путин поставил задачу-минимум: выйти на темпы роста, превышающие среднемировые. К сожалению, не было уточнено, каким образом это можно сделать.
Другой путь отстаивают те, кто отдает приоритет сознательному целеполаганию, основывая его не на пожеланиях, а на возможностях, которыми страна реально располагает. Для этого требуется не плыть по воле волн, а трезво оценить имеющийся потенциал и спроектировать приемлемое будущее в расчете преимущественно на внутренние источники, не отказываясь, конечно, от возможной финансовой и технологической поддержки извне.
В противовес широко рекламируемому, якобы спасительному для России, пути еще большей открытости экономики и ее дальнейшего включения в нынешнюю несправедливую систему глобализации пришло, на наш взгляд, время продвигать альтернативный вариант развития, основанный на убежденности, что у нас есть все основания для запуска самостоятельного процесса расширенного воспроизводства с опорой прежде всего на внутренние источники экономического роста. Без целенаправленного государственного регулирования нельзя изменить сырьевую структуру экономики и обеспечить ускоренное развитие, выводящее страну из отсталости. Это не столь актуально для развитых стран, хозяйство которых давно сложилось, достаточно эффективно и совершенствуется постоянно и эволюционно, но даже и они применяют в той или иной мере индикативное планирование. Для России же это жизненно необходимо, если она хочет решать амбициозные задачи, совершенствовать сложившуюся экономическую структуру, подняться на современный уровень технологического развития.
Назрела необходимость в разработке долгосрочной социально-экономической стратегии, которая бы устанавливала, какие отрасли и производства должны развиваться в стране, на чем она будет специализироваться, какие ресурсы могут быть на это направлены. Для возобновления экономического роста России нужны новые драйверы, которыми могли бы стать восстановление и модернизация машиностроения и его сердцевины – станкостроения и приборостроения, а также глубокая переработка на этой основе нефти, газа, металлов, древесины, сельскохозяйственной продукции и другого сырья [7]. Упор на восстановлении станкостроения и других ведущих отраслей современной промышленности необходим также из соображений безопасности страны. Это стало особенно актуальным после начала специальной военной операции на Украине, на которую Запад ответил жесткими санкциями, означающими фактическую финансовую и технологическую изоляцию России. Предстоит постепенно заменить используемое в оборонно-промышленном комплексе иностранное оборудование на отечественное, создать которое способны сами предприятия оборонной промышленности, вынужденные после выполнения плана переоснащения армии новым вооружением перейти к конверсии своего производства на мирный лад.
Задачи модернизации российской экономики с опорой в основном на собственные силы перешли из области пожеланий на практическую стезю после объявления коллективным Западом санкционной войны России в ответ на специальную военную операцию на Украине.
Ясно, что даже самая правильная стратегия не может реализоваться сама собой. Необходим механизм обязательного выполнения поставленных задач, каковым служит стратегическое и оперативное планирование.
Необходимость планирования осознают и в развитых странах: «Я твердо верю в рыночную экономику, однако процветание Америки в XXI в. требует также государственного планирования и четко сформулированных, долгосрочных политических целей, основанных на разделяемых обществом ценностях… Разумеется, я говорю не о том ведущем в тупик централизованном планировании, которое практиковали в ныне почившем Советском Союзе, а о долгосрочном планировании государственных инвестиций в качественное образование, современную инфраструктуру, в безопасные и связанные с низким потреблением углерода источники энергии и в устойчивость окружающей среды» [11. C. 18].
Прежнее директивное планирование действительно нецелесообразно в современных рыночных условиях с преобладанием частной собственности. Но возможны другие плановые методы, учитывающие самостоятельность рыночных субъектов.
Сама жизнь подсказывает приемлемые формы и средства государственного регулирования с помощью национальных проектов и целевых программ. Необходимо только шире привлекать для их реализации заинтересованный частный капитал, который во внушительных размерах сосредоточен в банках и на предприятиях и используется подчас не в производственных целях, а для спекуляций на валютных и фондовых биржах. Бизнесу нужна уверенность в том, что его вложения в производственную деятельность принесут необходимую прибыль, а это возможно только при условии освоения новой высокотехнологичной продукции и ее гарантированного сбыта на внутреннем и внешнем рынках. Для бизнеса, особенно крупного, важно знать, каким конкретно производством заниматься, откуда брать финансирование, каковы будут условия кредитования, куда сбывать свою продукцию, как обеспечить прибыльное хозяйствование при ограниченном потребительском спросе.
Возможности для решения всех этих проблем создаются при широком использовании государственно-частного партнерства, способного стать действенным средством обеспечения выполнения плановых задач. Такое партнерство, как правило, предусматривает долевое финансирование частными и государственными инвесторами совместных проектов, которое дает возможность привлекать на один рубль бюджетных средств до 4–5 рублей частных вложений. При реализации таких проектов широко практикуется льготное кредитование. Для выполнения строительно-монтажных работ, освоения, выпуска и сбыта новой продукции используются действующая система госзаказов и государственных закупок, а также взаимообязывающие коммерческие контракты, учитывающие интересы сторон и гарантирующие получение обоюдной материальной выгоды.
Сторонники максимальной открытости страновой экономики выступают против протекционизма во внешней торговле, к которому прибегают отдельные государства в стремлении оградить свое производство от разрушительного воздействия иностранных конкурентов. Хорошим тоном считается подтверждение на международных конференциях и саммитах необходимости борьбы с протекционизмом как с недопустимым злом. Но то, что является злом для глобалистов, для отстающих стран служит часто единственным средством защиты их развивающейся и еще слабой экономики от более сильных конкурентов. Именно поэтому эти страны сопротивляются дальнейшей либерализации мировой торговли на длящемся годами Дохийском раунде переговоров под эгидой ВТО.
Протекционистские меры были бы полезны и для возрождения отечественного производства в нашей стране. Об этом свидетельствуют успехи политики импортозамещения в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, которая стала проводиться после введенного Россией эмбарго на ввоз соответствующей продукции из стран, применяющих антироссийские санкции. Важно, чтобы эта политика не стала временной мерой, а превратилась в постоянный курс самостоятельного развития: «Импортозамещение должно рассматриваться как целенаправленная деятельность государства на восстановление внутреннего рынка и обеспечение экономической независимости страны. В этом смысле импортозамещение – это перестройка структуры народного хозяйства на принципах достаточной способности национальной экономики к расширенному воспроизводству» [12. C. 17].
Импортозамещение во всех отраслях экономики стало неизбежным в условиях самоизоляции Запада от российского рынка, ухода с него иностранных брендов, отключения наших банков от платежной системы СВИФТ, разрыва международных технологических и транспортно-логистических цепочек. Оно стало главным средством выживания и дальнейшего развития отечественного производства.
Краткие выводы
Проделанный анализ по заранее намеченному плану позволил решить задачи данного исследования, в ходе которого были приведены весомые аргументы в подтверждение обозначенных выше двух главных гипотез. Было, на наш взгляд, доказано, что обоснованные разными экономическими теориями практические подходы к ускорению развития экономики отстающих стран на основе чисто рыночных механизмов не отвечают реальному положению этих стран, включая Россию. Выявлена необходимость для отстающих стран отказаться от ряда теоретических догм и начать проводить политику, направленную на ускорение экономического роста с использованием четкого целеполагания и комплексного долгосрочного планирования ради достижения намечаемых целей, руководствуясь не краткосрочными рыночными критериями, а стремлением получить более весомый результат в длительной перспективе.
1 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». 2015. Нью-Йорк: Генеральная Ассамблея ООН.
2 Solow R. A contribution to the theory of economic growth. Quartarly Journal of Economics, 1956. Vol. 70, No 1, pp. 65–94.
3 Arthur W.B. Competing technologies, increasing returns, and lock-in by historical events. Economic Journal, 1989. Vol. 99, No 394, pp. 116–131.
4 Maddison A. The world economy. Vol 1: A millennial perspective; Vol 2: Historical statistics. 2006. Paris: OECD Publishing.
5 Аузан А.А. «Эффект колеи». Проблемы зависимости от траектории предшествующего развития – эволюция гипотез // Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика. 2015. № 1. С. 2–17.
6 Григорьев Л.М., Майхрович М.Я. Теории роста и реалии последних десятилетий // Вопросы экономики. 2023. № 2. С. 24. (С. 18–42).
7 Инглхарт Р., Венцель К. Модернизация, культура, изменения и демократия: последовательность человеческого развития. М.: Новое издательство. 2011; World Values Survey. The Inglehart-Wenzel world cultural map. WVS: Round Seven. 2022. https://www.worldveluessurvey.org
Об авторах
Юрий Князев
ФГБУН Институт экономики РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: kyuk151@rambler.ru
доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник
Россия, МоскваСписок литературы
- Голикова В.В., Гончар К.Р., Кузнецов Б.В., Яковлев А.А. Российская промышленность на перепутье. Что мешает нашим фирмам стать конкурентоспособными. М.: Изд. дом ВШЭ. 2007.
- Гэмбл Эндрю. Кризис без конца? Крах западного процветания. М.: Издательский дом ВШЭ. 2018. 304 с.
- Жданова Л.Л. Дискуссионные вопросы теории воспроизводства и накопления капитала // Журнал экономической теории. 2019. Т. 16. № 1.
- Кадочников П., Кнобель А., Синельников-Мурылев С. Открытость российской экономики как источник экономического роста // Вопросы экономики. 2016. № 12. С. 26–42.
- Катуков Д.Д., Малыгин В.Е., Смородинская Н.В. Фактор созидательного разрушения в современных моделях и политике экономического роста // Вопросы экономики. 2019. № 7. С. 95–118.
- Князев Ю. Научный и идеологический аспекты социальных теорий (на примере марксизма) // Экономист. 2019. № 12. С. 65–72.
- Князев Ю. Объективный рынок и сознательное целеполагание // Общество и экономика. 2017. № 7. С. 5–20.
- Любимов И.Л. От универсализма к индивидуализму: новые подходы к решению проблем экономического роста // Вопросы экономики. 2019. № 11. C. 108–126.
- Полтерович В.М. К общей теории социально-экономического развития. Часть 1. География, институты или культура // Вопросы экономики. 2018. № 11. С. 5–26.
- Полтерович В., Попов В. Эволюционная теория экономического развития. Часть I. Опыт быстрого развития. Часть II. Необходимость своевременного переключения // Вопросы экономики. 2006. № 7. С. 4–23; № 8. С. 46–64.
- Сакс Дж. Цена цивилизации. М.: Издательство Института Гайдара. 2012.
- Сидорович А. Новая экономическая политика развития: от системных противоречий к системным решениям // Общество и экономика. 2016. № 6.
- Симачев Ю.В., Данильцев А.В., Федюнина А.А., Глазатова М.К., Кузык М.К., Зудин Н.Н. Россия в меняющихся условиях мировой торговли: структурный взгляд на новое позиционирование // Вопросы экономики. 2019. № 8. С. 5–29.
- Шейнис В. Загадочный облик будущего мира // Мир перемен. 2019. № 3. С. 87–103.
- Шумпетер Й. Теория экономической деятельности. М. 1996.
- Aghion P., Akcigit U., Howitt P. (2015). The shumpeterian growth paradigm. //Annual Review of Economics, Vol. 7. Nо 1. P. 557–575.
- Aghion P., Howitt P. The Economics of growth. Cambridge, MA: MIT Press. 2008.
- Aghion P., Roulet A. Growth and the Smart State // Annual Review of Economics. 2014. Vol. 6. No 1. P. 913–926.
- Acemoglu D., Johnson S., Gallego F., Robinson J. Institutions, human capital, and development// Annual Review of Economics. 2014. Vol. 6. No 1. P. 875–912.
- EBRD. Transition report 2017–2018: Sustaining growth? London: European Bank for Reconstruction and Development. 2017.
- Gereffi G. Global value chain analysis. Center of Globalization, Governance & Competitiveness, Duke University, Durham, North Carolina. 2016.
- Gurvich E. Institutional constraints and economic development // Russian Journal of Economics. 2016. Vol. 2. Nо 4. Р. 349–374.
- Hsieh C.-T, Klenow P.G. Misallocation and manufacturing TFP in China and India // Quarterly Journal of Economics. 2009. Vol. 124. Nо 4. P. 1403–1448.
- Krueger A. Trade policy and economic development: How we learn? //American Economic Review. 1997. Vol. 87. No 1. P. 1–22.
- Kuznetsov Y., Sabel C. New open economy industrial policy: Making choices without picking winners. In: M. Dutz et al, (ed), Making innovation policy work: Learning from experimentation, Washington, D C: World Bank; Paris: OECD Publishing. 2014. P. 35–47.
- Romer P. Endogenous Technological Change // Journal of Political Economy. 1990. Vol. 98. No 5. P. 71–102.
- Rodrik D. Premature deindustrialization // Journal of Economic Growth. 2016. Vol. 21. № 1. P. 1–33.
- Schumpeter J.A. Capitalism, socialism, and democracy. New York: Harper & Brothers. 1942.
- Syverson C. Market structure and productivity: A concrete example // Journal of Political Economy. 2004. Vol. 112. № 6. P. 1181–1222.
- UNIDO. Industrial development report 2018, Demand for manufacturing: driving inclusive and sustainable industrial development. Vienna. 2017.
- World Bank Group. Global value chain development report 2017. Measuring and analyzing the impact of GVCs on economic development. Washington, DC: The World Bank Publications. 2017.