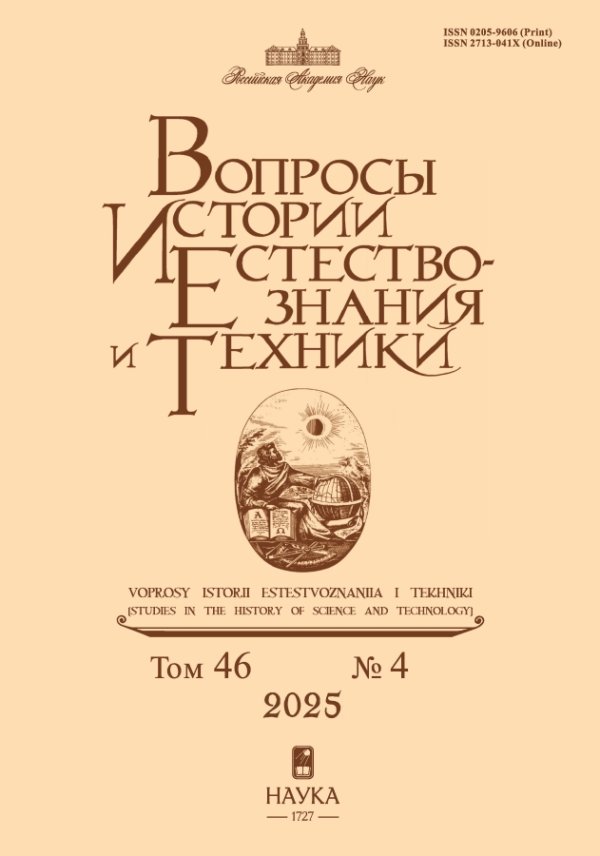“The sciences were never at war”: Sir Joseph Banks and Anglo-French scientific cooperation during the French revolutionary and Napoleonic Wars
- Authors: Shipitsyna Y.S.1
-
Affiliations:
- Ural Federal University
- Issue: Vol 45, No 2 (2024)
- Pages: 278-290
- Section: Social History of Science
- URL: https://bakhtiniada.ru/0205-9606/article/view/264317
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0205960624020033
- EDN: https://elibrary.ru/xrcfvw
- ID: 264317
Full Text
Abstract
The article is devoted to the history of interactions between Sir Joseph Banks, President of the London Royal Society in 1778–1820, and the French naturalists during the French Revolutionary and Napoleonic Wars. From the beginning of the French Revolution the communication between the English and French scientists was hindered and, in some cases, stopped altogether. Banks’ actions helped to renew contacts and reactivate scientific life in both countries. His input was essential for the intellectual heritage of French scientists such as Jacques Julien de La Billardière, Déodat de Dolomieu, and Pierre Bernard Milius. The exchange of periodicals, the conservation of natural science collection and returning it to France, the naturalists’ liberation from captivity – the credit for all of this belongs to Joseph Banks. The analysis in this article is based on the correspondence between Banks, French naturalists and British ministers, published by the British embryologist Sir Gavin de Beer in 1960. The article reveals the context in which this publication appeared and offers Russian translation of the fragments of these letters. Special attention is given to the British scientific culture. Thus, the author suggests to ponder on the extent to which Banks’ actions were determined by the professional culture of the time or by the English mentality. Both of these factors could have possibly influenced Banks’ actions, paradoxical in a sense that in the situation of armed conflicts they turned out to be potentially advantageous for the French science.
Full Text
Английский ботаник Джозеф Бэнкс (1743–1820) приложил немало усилий для упрочения и расширения сети научных контактов в Британской империи и «республике ученых» в целом. Высокая степень личного энтузиазма, прагматизм, амбициозность и верность идее общего блага, с которой преумножение знания связывал еще Фрэнсис Бэкон, определяли его поведенческую стратегию в сообществе интеллектуалов и оказывали влияние на административную политику целого ряда научных институтов1. В данной статье мы обратимся к нескольким эпизодам из биографии Бэнкса, связанным с поддержкой французских коллег в годы французских революционных и Наполеоновских войн, и проанализируем мотивацию этого неординарного ученого-натуралиста. Взаимодействие Англии и Франции в сфере науки в условиях военных конфликтов однажды уже оказалось в центре внимания историков в середине ХХ в., когда был опубликован ряд писем, адресованных друг другу английскими и французскими учеными.
Так, в 1960 г. в издательстве «Томас Нельсон» вышла любопытная работа – сборник писем, которыми обменивались французские и английские натуралисты начиная со второй половины XVIII в. и до момента окончания Наполеоновских войн. Редактором издания является английский эмбриолог-эволюционист Гэвин де Бер (1899–1972). Прославленный ученый английского происхождения провел свои детские и юношеские годы в Париже, где его отец работал в качестве журналиста «Иксчендж телеграф компани». Ребенком Гэвин жил близ Версаля и играл с друзьями в саду Тюильри, а повзрослев, отправился в Оксфорд изучать зоологию. Де Бер был участником обеих мировых войн, во время и по окончании которых он писал диссертацию по эмбриологии и сотрудничал с ведущими эволюционистами своего времени: Джулианом Хаксли и Эдвином Гудричем. Библиография его работ представлена трудами как на английском, так и на французском языках2. В 1940 г. он стал членом Лондонского королевского общества, а в 1952 г. – членом-корреспондентом Французской академии наук. Начиная с 1950-х гг. де Бер увлекся историческими исследованиями. В сфере его внимания – не только английские коллекционеры и натуралисты, но также Вольтер, Жан-Жак Руссо и, как ни странно, Ганнибал, работа о котором – единственная из всего обширного и в подлинном смысле этого слова междисциплинарного наследия де Бера – переведена на русский язык3.
С 1946 по 1949 г. де Бер возглавлял Линнеевское общество, а с 1950 по 1960 г. – Музей естественной истории в Лондоне. Но ни непосредственная близость к архивным материалам этих учреждений, ни «французский эпизод» биографии ученого, разумеется, не может полностью объяснить его интерес к перипетиям англо-французской коммуникации натуралистов. Представляется, что важную роль в этом сыграл исторический контекст начала холодной войны: как известно, дисциплинарное становление истории науки в университетах Европы и Северной Америки пришлось на 1950–1960-е гг. и было окружено спорами о понимании сущности науки и предназначении ученого. Одним из инициаторов и вдохновителей этого процесса стал участник Манхэттенского проекта и президент Гарварда Джеймс Брайант Конант. Его «кумулятивистская концепция научного прогресса» 4была вскоре подвергнута пересмотру и свергнута концепцией научных революций Томаса Куна в ходе его знаменитых дебатов с Карлом Поппером в 1965 г. 5Победа куновского подхода открыла начало так называемым научным войнам, которые Стив Фуллер определяет как «постоянную публичную борьбу между профессиональными учеными и практиционерами исследований науки за авторитет в определении природы и направления науки», начавшуюся в конце холодной войны, «когда национальные государства фундаментально пересмотрели основания для больших ассигнований в науку»6. Все это случится позднее, но и во введении, написанном де Бером, отчетливо чувствуются тревоги вокруг войн и конфликтов, причем не только в научном сообществе:
Современный мир настолько привык к идее тотальной войны и свойственному ей максимальному напряжению сил всего населения [земного шара], что уже с трудом может поверить в то, что еще во времена наших прадедов все было совершенно иначе. Со времен основания Лондонского королевского общества и Парижской академии наук в 1660-х гг. и до последнего выстрела, прозвучавшего между французскими и британскими солдатами и матросами в момент падения Наполеона, Британия и Франция находились в состоянии войны в общей сложности около 60 лет. Но в этот длительный период вражды, когда естественным образом были затруднены привычные средства коммуникации и транспортного сообщения, а также перемещение писем, научных образцов и инструментов, ученые по обе стороны Ла-Манша тем не менее никогда не прекращали общение друг с другом7, –
так подчеркивает разницу современных ему условий и исследуемых исторических обстоятельств де Бер. Этот акцент на «мирном мироощущении» ученых прошлого чувствуется и в самом названии книги – строчке «Науки меж собой никогда не воевали» из письма Эдварда Дженнера, которая звучит как актуальное напоминание для нас и сегодня.
В 13 главах де Бер помещает письма на английском и французском языках, которыми обменивались между собой ученые-натуралисты во время военных конфликтов двух держав, кратко комментируя событийную канву переписки. Семь глав посвящены участию английского ботаника и в ту пору уже президента Лондонского королевского общества Бэнкса в судьбах французских ученых. Мы остановимся на некоторых наиболее интересных сюжетах, связанных с личностью Бэнкса. Разумеется, письма могут быть прочтены и глазами других героев этих историй: библиотекаря Парижского музея естественной истории Ж.-К.-М. де Лоне, ботаника Ж.-Ж. де Лабиллардьера, геолога Д. Доломье и др. Особое внимание автора к фигуре Бэнкса продиктовано не только личным исследовательским интересом, но и тем соображением, что именно в лице Бэнкса как влиятельного исследователя и авторитетного руководителя английской академии в ситуации неопределенности и институциональной перестройки, вызванной сменой политических режимов, нашла большую поддержку французская наука.
Как известно, Французская академия наук и Лондонское королевское общество являются старейшими научными институтами. С момента своего возникновения они поддерживали контакты и приветствовали обмен опытом, хотя в своей организационной структуре и самих принципах функционирования имели немало отличий. Французские и английские академики нередко выступали с критикой друг друга, но почитали за честь получить звание иностранного члена-корреспондента или награды.
В 1793 г. медаль Копли – ежегодная престижная награда Лондонского королевского общества, которая присуждается за научные достижения и по сей день, – осталась без героя. Отказ назвать претендента на награду был продиктован тем, что он в тот момент был помещен под стражу и предан суду за участие в Генеральном откупе 8 революционными властями Франции. Речь идет о выдающемся химике Антуане Лоране Лавуазье, казненном на гильотине 8 мая 1794 г. «за помощь врагам нации». Было ли молчание Лондонского королевского общества своеобразным знаком протеста против гонений на ученого во Франции и отсутствия заступничества за него на родине или проявлением осторожности из опасений навлечь на Лавуазье еще больше бед? Так или иначе, ученые всей Европы знали, почему в 1793 г. медаль не была никому вручена.
В том же 1793 г. во Франции были упразднены все академические структуры, однако уже в 1791–1792 гг. между Французской академией наук и Лондонским королевским обществом прекратился обмен периодической печатью. Чуть позже запрет на обмен «всеми возможными вещами, которые могут принести пользу отдельным лицам или правительству Франции» 9был установлен формально. А именно, 7 мая 1793 г. английский король Георг III подписал «Акт о тщательном предотвращении всяческого вероломного сообщения, или помощи, или пособничества врагам Его высочества во время текущей войны между Великобританией и Францией», по которому была запрещена пересылка из Англии во Францию любыми способами «стратегических товаров, продовольствия, одежды или природных объектов», а 1 марта 1794 г. утверждался еще более обширный перечень10. Письма, журналы и книги не были в нем упомянуты, но, разумеется, при определенных обстоятельствах могли быть полезными «отдельным лицам или правительству Франции». Поэтому, когда в феврале 1797 г. президент Лондонского королевского общества Бэнкс решился на возобновление контактов с французскими учеными, он заручился одобрением премьер-министра Уильяма Питта-младшего. Ситуация усугублялась еще и тем, что Бэнкс решился действовать на фоне побед, одержанных Наполеоном в Италии, и борьбы Первой антифранцузской коалиции, а также попытки высадки французского десанта в декабре 1796 г. в Баунти-Бэй и «фишгардского вторжения»11, пришедшегося на конец февраля 1797 г.
4 февраля 1797 г. Бэнкс отправил письмо Ж. Шарретье, прибывшему в Англию для переговоров об обмене военнопленными. Письмо содержит просьбу о предоставлении Бэнксу выпусков периодики Национального института12, учрежденного в соответствии с конституцией Франции 1795 г., и своеобразное признание легитимности этого нового учреждения:
Я предпринял все усилия, чтобы найти здесь возможность доступа к научным парижским журналам, особенно в отношении публикаций Национального института, но мои попытки не увенчались успехом.
Потому я и беспокою Вас этим письмом, полагая, что благодаря вашему посредничеству поиск журналов и возобновление коммуникации с Парижем окажется не столь безнадежным делом <…> Я предпочту приобрести все выпуски за то время, что они выходили, чем оставаться в неведении о сочинениях наших собратьев в Париже, которые подобно и нам, возделывают виноградники науки.
Посылаю Вам копию списка членов Лондонского королевского общества, чтобы показать Вам, что звание «[иностранного] члена Национального института» добавлено после всех фамилий тех, кто, как известно, причастен к этому учреждению13.
Уже 18 февраля Бэнкс получил известие из самой Франции. К нему обратился де Лоне, библиотекарь-хранитель Парижского музея естественной истории, с такой же просьбой. Это письмо показывает заинтересованность и французского ученого сообщества в налаживании связей:
Сэр,
Несколько дней тому назад в моих руках оказался великолепный каталог вашей столь богатой библиотеки и, будучи библиотекарем-хранителем в нашем Музее естественной истории, я загорелся желанием приобрести два экземпляра [из вашей библиотеки], один из которых я оставил бы лично себе. Зная Вас, сэр, не только как чрезвычайно ученого человека, но к тому же как старательно радеющего о развитии и распространении науки, я осмелился просить Вас удовлетворить мое желание <…> в свою очередь, могу предложить для Вас несколько своих экземпляров.
<…> Я также прекрасно осведомлен, сэр, что вы весьма преуспели в собственных ботанических изысканиях – месье Жюссье14, директор Королевского ботанического сада в Париже, мой близкий друг. Если бы Вы соблаговолили предоставить нашей библиотеке результаты своей работы, мы с готовностью выразили бы свою признательность, включив Ваше имя в список дарителей нашей библиотеки.
Вне всяких сомнений, Вы извините мне мою назойливость, убедившись, что я стараюсь не ради чего иного, кроме как прогресса в науке, в попечении и заботе о которой Вы также преуспели, и [надеюсь] доказать это Вам, как и мое искреннее уважение15.
Сохранилась записка Бэнкса Питту от 17 марта 1797 г., в которой он просит уделить ему время для разговора о возобновлении научных контактов с Парижем и позволения отправить выпуски «Философских изысканий Лондонского королевского общества», «Гринвичских наблюдений» и др. во Францию. Не дожидаясь аудиенции, Бэнкс на следующий же день посылает Шарретье несколько томов «Философских изысканий». В его письме есть такие строки:
Сэр,
Не теряя ни минуты, отвечаю Вам с большой благодарностью за великодушные и продуктивные шаги, предпринятые для возобновления сотрудничества между Национальным институтом и Лондонским королевским обществом. Такое сотрудничество имеет не только практическую пользу для научного процесса, но и сможет стать основой для лучшего понимания между двумя странами в будущем, чем то, что мы, к несчастью, наблюдаем в последние годы.
Я надеюсь, и у меня есть все основания для надежды, что наши министры, к которым я обратился с просьбой обсуждения данного вопроса, не станут чинить нам препятствий со своей стороны16.
Так, в 1797 г. «академическое молчание» между Францией и Англией было прервано. Возможно, к возрождению официальных контактов Бэнкса подтолкнула история, начавшаяся несколькими годами раньше, и ее благополучный исход.
Французский ботаник Жак-Жюльен де Лабиллардьер (1755–1834) был членом экспедиции д’Антркасто в Австралию (1792–1794), снаряженной на поиски погибшего графа Лаперуза. Когда команда узнала о революции во Франции, она находилась на острове Ява. Голландские власти задержали верных павшей монархии участников экспедиции. Спустя некоторое время Лабиллардьеру и другим удалось уплыть обратно во Францию – в марте 1796 г. он уже был в Париже. Тем временем собранная им коллекция осталась в руках адмирала де Росселя, Голландия была аннексирована Францией, а в ходе сражения у Шетландских островов британский флот захватил корабли де Росселя, который настоятельно требовал вернуть коллекцию Франции. Британские войска передали коллекцию графу Прованскому17, который в то время находился в Курляндии и, в свою очередь, распорядился передать коллекцию в дар английской королеве Шарлотте. Через посредничество доверенных лиц графа Прованского и королевы Шарлотты – герцога д’Аркура, графа де Бернона и майора Уильяма Прайса – коллекция была частично передана в дар королеве, частично – поручена Бэнксу. В апреле 1796 г., почти одновременно с тем, как коллекция попала к новым владельцам, до Бэнкса дошло письмо Лабиллардьера, отправленное еще в 1794 г. с Явы, с просьбой способствовать возвращению коллекции, его новое письмо с краткой описью утраченного, а также официальное требование французского правительства передать коллекцию ее законному владельцу.
Бэнкс проявил по-настоящему дипломатический такт и убедил королеву вернуть подарок. В одном из писем Лабиллардьеру он рассуждал:
Науки двух наций могут находиться в состоянии мира в то время, как их политики пребывают в состоянии войны, – это аксиома, хорошо усвоенная нами с тех пор, как Вы оказали поддержку капитану Куку. И, разумеется, ничто не сможет более эффективно способствовать уменьшению вражды между нашими политиками, так часто затевающими конфликты друг против друга, как возможность продемонстрировать гармонию и добрые намерения, царящие меж их собратьев, радеющих о науке18.
В этом отрывке Бэнкс прямо противопоставляет себя и свое предназначение как ученого тем, кто наделен властью и руководствуется лишь политическими интересами. В конце он добавляет, что Лабиллардьер может быть совершенно уверен в конфиденциальности всей информации, что стала известна Бэнксу и другим лицам, принявшим участие в возвращении коллекции (путешественник Жан Батист де Шевалье (1752–1836), поскольку «предмет нашего обсуждения, без сомнения, не менее важен, чем установление мира между науками наших наций»19:
Милорд,
Когда не далее как три недели тому назад я имел честь ожидать решения Вашей светлости по вопросу, касающемуся месье де Лабиллардьера, я уповал на то, что сумел уверить Вашу светлость в том, что дело по возвращению натуралистической коллекции этого джентльмена, собранной им в период участия в экспедиции недавно почившего месье де Лаперуза, это дело, которое преумножит славу национального характера англичан как людей, которые любят науку и радеют о ней со всей душевной щедростью и справедливостью и без колебаний преодолевают все препятствия, какие только могут возникнуть20.
Бэнкс отлично понимал, какой высокой ценностью обладает коллекция. В 1768–1771 гг. он принял участие в первой кругосветной экспедиции Джеймса Кука и вместе с Дэниэлом Соландером обследовал восточное побережье Австралии. Ботаники собрали большой гербарий, описали и зарисовали множество видов растений, животных. В своем путевом дневнике Бэнкс описал обычаи местных жителей и личные впечатления от посещения континента. Но по возвращении обработка архивов так и не была завершена, все они были опубликованы через много лет после его смерти. Имея доступ к натуралистической коллекции де Лабиллардьера, Бэнкс мог дополнить собственные наблюдения и коллекции и прославиться еще и как знаток австралийской флоры. Но он не стал этого делать.
После того как коллекция вернулась к своему создателю, ее материалы были опубликованы в составе описания путешествия «в поисках Лаперуза»21. Сразу после выхода в Париже эта работа была переведена на английский и немецкий языки. В Англии в течение двух лет вышли сразу четыре издания под руководством Джона Стокдейка. Позднее, в 1804–1806 гг., отдельным атласом были напечатаны 265 гравюр, созданные на основе ботанических иллюстраций22. Этот атлас стал первым масштабным изданием описания австралийской флоры.
Возвращения во Францию ожидали не только коллекции и периодические издания, но и многие люди. Деода Граттэ де Доломье (1750–1801) принял участие в Египетской экспедиции Бонапарта. Корабль, на котором он возвращался из Египта во Францию, был захвачен неаполитанцами, а Доломье в числе прочих был пленен и брошен в тюрьму в Таранто 20 марта 1799 г. Через третьих лиц, своих друзей и семью Доломье обратился к Бэнксу с просьбой о помощи. Академик отреагировал мгновенно: советуя, к каким заступникам Доломье следует обратиться, он и сам отправил одно за другим письма Уильяму Гамильтону, английскому послу в Неаполе, а также его супруге леди Гамильтон, фаворитке королевы Неаполя. Вопреки всем стараниям, Доломье пробыл в плену вплоть до 1801 г., когда был заключен Люневильский мир; после этого Доломье был обменян на английского офицера, плененного французской стороной. Тем не менее именно благодаря попечительству Бэнкса были значительно улучшены условия тюремного содержания геолога, так что он даже смог создать рукопись «Размышлений о геологии», изданных уже посмертно23. Бэнкс посчитал необходимым написать Доломье сразу после освобождения и рассказать о том, какие им были приложены усилия и задействованы связи для облегчения участи геолога.
Этот случай заступничества Бэнкса за французского ученого навлек на него недовольство со стороны его критиков в Лондонском королевском обществе. В благодарность за неравнодушие французы избрали Бэнкса иностранным членом-корреспондентом Национального института наук и искусств. В письме-обращении Бэнкса к собранию института выражается признательность и надежда на сотрудничество, однако в Англии это письмо послужило причиной организации оппозиции, укорявшей ботаника в недостатке патриотизма24. Тем не менее Бэнкс не оставил попытки использовать свое влияние и принял активное участие в процессе организации обмена ученых, попавших в плен во время Наполеоновских войн. Известно, что к лету 1806 г. Бэнксу удалось вызволить из французского плена десять английских ученых. Французов, вернувшихся на родину, было меньше, однако среди них оказался капитан Пьер-Бернард Мильюс (1773–1829). Впервые Мильюс был пленен в Ирландии в 1796 г. и освобожден в 1799. После этого в 1800–1803 гг. он принял участие в научной экспедиции Николя-Тома Бодена в Австралию и после смерти Бодена взял на себя командование судном «Географ», успешно вернувшимся во Францию. Французская экспедиция собрала значительную натуралистическую коллекцию, однако в освоении региона английский капитан Мэттью Флиндерс опередил французов. Открытия, сделанные им в 1798–1799 гг., побудили Бэнкса продвигать талантливого исследователя. Благодаря Бэнксу в 1801 г. Флиндерс отправился в новое путешествие к берегам Австралии. Безопасность в море ему обеспечивал французский паспорт, получить который также помог Бэнкс.
Когда стало известно, что капитан Мильюс был пленен в 1804 г. как командующий французским флагманом «Дидоном», потерпевшим поражение в бою с английским «Фениксом», Бэнкс чувствовал себя обязанным помочь. В мае 1804 г. Мильюс был освобожден. На этот раз заступничество Бэнкса встретило противодействие первого лорда Адмиралтейства виконта Хоуика, второго графа Грея25. В результате конфликта Бэнкс вообще отказался принимать участие в вызволении английских пленных26. Его влияние в деле установления контактов с Францией в дальнейшем прослеживается в судьбе его помощника и ассистента, знаменитого химика Гемфри Дэви27.
Переписка с учеными и действия Бэнкса показывают его не столько как «имперского ботаника», сколько как ученого-энтузиаста, для которого профессиональная идентичность оказывается важнее национальной, а стремление к истине одерживает верх над политическим заказом и потенциальной экономической выгодой. В то же время по письмам, адресованным чиновникам и министрам, мы видим, что Бэнкс мотивирует свои просьбы иначе, – обращаясь к официальному дискурсу о национальном престиже англичан как людей, которым свойственно особое, почтительное отношение к науке и, как следствие, особенные успехи в этой области.
Создание и совершенствование научного знания становится поводом для национальной гордости англичан еще со времен выхода «Нового Органона» Фрэнсиса Бэкона, в котором была аргументирована программа реформирования аристотелевской традиции натуральной философии в духе новой методологии, основанной на эксперименте и отстраненном, объективном наблюдении и, что особенно важно, сформулированной с позиций заботы об общем благе28. Как писала Лия Гринфельд, для англичан «занятие наукой было делом национального признания»29. Ввиду того, что в «классической учености Англия не могла выдержать никакого сравнения с Францией и Италией», англичане сделали ставку на новое для европейского интеллектуального сообщества предприятие – научное познание мира:
Поддержка нового, современного укрепляла национальную гордость. Наука была современным начинанием, поэтому на этом поле англичане могли успешно соревноваться. Будучи вначале отличительным знаком культурной особенности Англии, она вскоре стала доказательством английского превосходства30.
Средствами науки начали конструировать и другие исключительные особенности англичан. К примеру, в 1799 г. появляется работа о репродуктивной функции и родовспоможении врача Чарльза Уайта, в которой подчеркиваются физиологические особенности англичан и делается вывод о превосходстве английской нации31.
Отсылки к науке и вдумчивому наблюдению за окружающей действительностью позднее стали считаться наиболее выразительной чертой даже британского искусства. В работе Джонатана Джонса единой нитью связаны творения Джорджа Стаббса, Марка Уоллингера и Дэмиена Херста, Бенджамина Маршалла и Люсьена Фрейда, а уж жанровые полотна и портреты ученых в интерьере, принадлежащие кисти Джозефа Райта из Дерби, – само воплощение «научности» британского искусства:
…британское искусство родилось из того же стремления к наблюдению, что подогревало и любопытство науки. В этом смысле оно – дитя научной революции или, возможно, его близнец-уродец, заспиртованный в банке32.
Так, из простого конкурентного преимущества благодаря новизне и доступности этой культурной ниши наука стала инструментом для изменения английской ментальности. «Британский эмпиризм» и пресловутый «здравый смысл» стали достоянием не только И. Ньютона, Р. Бойля или Дж. Локка, оттачивающих новые подходы познания мира, но и простого обывателя. Помогая французским натуралистам, Бэнкс опирался не только на свой высокий статус в академическом сообществе, но и на эту дискурсивную традицию, присутствующую в некоторых академических нарративах по сей день. Как мы видели по письмам, Бэнкс и его корреспонденты позиционировали себя как единое сообщество, границы которого не совпадают с политическими границами, – «республику ботаников», или еще более общее объединение – «республику ученых»33. Это манифестировало обособление интеллектуалов от повседневных конфликтов и проблем отдельных государств. Тем не менее практическая реализация исследований неизбежно зависела от общественного порядка. Издатель писем де Бер отмечал, что переписка между английскими и французскими учеными дает представление о степени цивилизованности их поведения в ситуации военного конфликта, в сравнении с которым «современные условия выглядят просто варварством»34. В условиях французских революционных и Наполеоновских войн английская наука в лице Бэнкса оказала существенную поддержку французской науке. Эта поддержка имела большое практическое и символическое значение в условиях институциональных изменений во Франции.
1 Речь идет прежде всего о Королевских ботанических садах Кью, Лондонском королевском обществе, Британском музее, Линнеевском обществе и других организациях, для которых деятельность Бэнкса имела большое значение в 1770–1820-е гг. Подробнее об этом см.: Шипицына Ю. С. Рождение ботаники в Британии: имперский и национальный дискурсы (последняя треть XVIII – начало XIX в.). Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2021.
2 Barrington E. J. W. Gavin Rylands de Beer, 1899–1972 // Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society. 1973. Vol. 19. Iss. 19. P. 65–93.
3 Бир Г., де. Ганнибал: борьба за власть в Средиземноморье. М.: Русич, 2005.
4 Дастон Л. О ценности коллективной работы и исследования практик. Интервью с Лоррейн Дастон // Логос. 2020. Т. 30. № 2. С. 3.
5 См. подробнее: Фуллер С. Кун против Поппера: борьба за душу науки. М.: Канон+; Реабилитация, 2020.
6 Там же. С. 245.
7 Beer G., de. The Sciences Were Never at War. London: Thomas Nelson and Sons, 1960. P. IX.
8 Генеральный откуп – компания финансистов, имевшая право сбора королевских податей и других косвенных налогов на откуп. Договор с откупщиками возобновлялся каждые шесть лет. Система генерального откупа просуществовала с 1726 по 1794 г.
9 Beer G., de. The Sciences Were Never at War… P. 32.
10 Ibid. P. 33.
11 Фишгардское вторжение (22–24 февраля 1797 г.) – попытка сил революционной Франции вторгнуться на территорию Великобритании с моря, закончившееся поражением франко-ирландской коалиции.
12 Национальный институт наук и искусств, Национальный институт – в 1795–1806 гг. такое название носил Институт Франции, основное официальное научное учреждение Франции, объединяющее Французскую академию, Академию надписей и изящной словесности, Академию наук, Академию искусств и Академию моральных и политических наук.
13 Beer G., de. The Sciences Were Never at War… P. 33–34.
14 Антуан Лоран де Жюссье (1748–1836) – французский ботаник, известный как создатель первой естественной классификации растений, предложивший также понятие семейства.
15 Beer G., de. The Sciences Were Never at War… P. 34–35.
16 Ibid. P. 36.
17 Людовик XVIII, Луи Станислас Ксавье (1755–1824) – брат короля Людовика XVI, король Франции в 1814–1815, 1815–1824 гг., с рождения носивший титул графа Прованского. С 1791 г. находился в эмиграции, жил в разных странах Европы. В 1808 г. поселился в Англии. После отречения Наполеона I занял французский престол.
18 Beer G., de. The Sciences Were Never at War… P. 55.
19 Ibid.
20 Ibid. P. 57.
21 La Billardière J.-J. H., de. Relation du voyage à la recherche de La Pérouse, fait par ordre de lʼAssemblée constituante, pendant les années 1791, 1792 et pendant la 1ère et la 2e année de la République françoise. Paris: Chez H. J. Jansen, imprimeur-libraire, 1800. T. 1–2.
22 La Billardière J.-J. H., de. Novae Hollandiae plantarum specimen. Parisius: Ex typographia dominae Huzard, 1804–1806.
23 Dolomieu D., de. Sur la philosophie minéralogique et sur lʼespèce minéralogique. Paris: De lʼImprimerie de Bossange, Masson et Besson, 1801.
24 Beer G., de. The Sciences Were Never at War… P. 104
25 Чарльз Грей, второй граф Грей, виконт Хоуик (1764–1845) – в 1806–1807 гг. первый лорд Адмиралтейства и министр иностранных дел, позднее, в 1830–1834 гг., занимал должность премьер-министра.
26 Beer G., de. The Sciences Were Never at War… P. 171.
27 Подробнее см. в: Fullford T. The Role of Patronage in Early Nineteenth-Century Science, as Evidenced in Letters from Humphry Davy to Joseph Banks // Notes and Records of the Royal Society. 2019. Vol. 73. Iss. 4. P. 457–475.
28 Sargent M. R. From Bacon to Banks: The Vision and the Realities of Pursuing Science for the Common Good // Studies in History and Philosophy of Science. 2012. Vol. 43. No. 1. P. 83.
29 Гринфельд Л. Национализм. Пять путей к современности. М.: ПЕР СЭ, 2012. С. 84.
30 Там же. С. 83.
31 См. подробнее в: Cody L. F. Birthing the Nation: Sex, Science and the Concept of the Eighteenth-Century Brittons. Oxford: Oxford University Press, 2005. P. 237–268.
32 Джонс Дж. Британское искусство от Хогарта до Бэнкси. Эмпиризм как гений британского искусства. М.: Слово, 2020. С. 13.
33 См. о республике ботаников работы Рене Сигри и Эрика Уидмера: Sigrist R. On Some Social Characteristics of the Eighteenth-Century Botanists // Scholars in Action. The Practice of Knowledge and the Figure of the Savant in the 18th Century / A. Holenstein, H. Steinke, M. Stuber (eds.). Leiden; Boston: Brill, 2013. P. 205–234; Sigrist R., Widmer E. D. Training Links and Transmission of Knowledge in 18th Century Botany: A Social Network Analysis // Revista hispana para el análisis de redes sociales. 2011. Vol. 21. No. 7. P. 319–359.
34 Beer G., de. The Sciences Were Never at War… P. XI–XII.
About the authors
Yulia S. Shipitsyna
Ural Federal University
Author for correspondence.
Email: shipitsyna.phd@gmail.com
Russian Federation, Ul. Turgeneva, 4, Yekaterinburg, 620075
References
- Barrington, E. J. W. (1973) Gavin Rylands de Beer, 1899–1972, Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, vol. 19, iss. 19. pp. 65–93.
- Beer, G., de (1960) The Sciences Were Never at War. London: Thomas Nelson and Sons.
- Bir G., de (Beer, G., de) (2005) Gannibal: bor’ba za vlast’ v Sredizemnomor’e [Hannibal: the Struggle for Power in the Mediterranean]. Moskva: Rusich.
- Cody, L. F. (2005) Birthing the Nation: Sex, Science and the Concept of the Eighteenth-Century Brittons. Oxford: Oxford University Press.
- Daston, L. (Daston, L.) (2020) O tsennosti kollektivnoi raboty i issledovaniia praktik. Interv’iu s Lorrein Daston [On the Value of Teamwork and the Studies of Practices. Interview with Lorraine Daston], Logos, vol. 30, no. 2, pp. 1–14.
- Dolomieu, D., de (1801) Sur la philosophie minéralogique et sur lʼespèce minéralogique. Paris: De lʼImprimerie de Bossange, Masson et Besson.
- Dzhons, Dzh. (Jones, J.) (2020) Britanskoe iskusstvo ot Khogarta do Benksi. Empirizm kak genii britanskogo iskusstva [British Art from Hogarth to Banksy. Empiricism as the Genius of British Art]. Moskva: Slovo.
- Fuller, S. (Fuller, S.) (2020) Kun protiv Poppera: bor’ba za dushu nauki [Kuhn vs.t Popper. The Struggle for the Soul of Science]. Moskva: Kanon + and Reabilitatsiia.
- Fullford, T. (2019) The Role of Patronage in Early Nineteenth-Century Science, as Evidenced in Letters from Humphry Davy to Joseph Banks, Notes and Records of the Royal Society, vol. 73, iss. 4, pp. 457–475.
- Grinfel’d, L. (Greenfeld, L.) (2012) Natsionalizm. Piat’ putei k sovremennosti [Nationalism. Five Roads to Modernity]. Moskva: PER SE.
- La Billardière, J. J. H., de (1800) Relation du voyage à la recherche de La Pérouse, fait par ordre de lʼAssemblée constituante, pendant les années 1791, 1792 et pendant la 1ère et la 2de année de la République Françoise. Paris: Chez H. J. Jansen, imprimeur-libraire, vols. 1–2.
- La Billardière, J. J. H., de (1804–1806) Novae Hollandiae plantarum specimen. Parisius: Ex typographia Dominae Huzard.
- Sargent, M. R. (2012) From Bacon to Banks: The Vision and the Realities of Pursuing Science for the Common Good, Studies in History and Philosophy of Science, vol. 43, no. 1, pp. 82–90.
- Shipitsyna, Iu. S. (2021) Rozhdenie botaniki v Britanii: imperskii i natsional’nyi diskursy (posledniaia tret’ XVIII – nachalo XIX v.) [The Birth of Botany in Britain: the Imperial and National Discourses (Last Third of the 18th – Early 19th Century)]. Ekaterinburg: Ural’skii federal’nyi universitet.
- Sigrist, R. (2013) On Some Social Characteristics of the Eighteenth-Century Botanists, in: Holenstein, A., Steinke, H., and Stuber, M. (eds.) Scholara in Action. The Practice of Knowledge and the Figure of the Savant in the 18th century. Leiden and Boston: Brill, pp. 205–234.
- Sigrist, R., and Widmer, E. D. (2011) Training Links and Transmission of Knowledge in 18th Century Botany: A Social Network Analysis, Revista hispana para el análisis de redes sociales, vol. 21, no. 7, pp. 319–359.