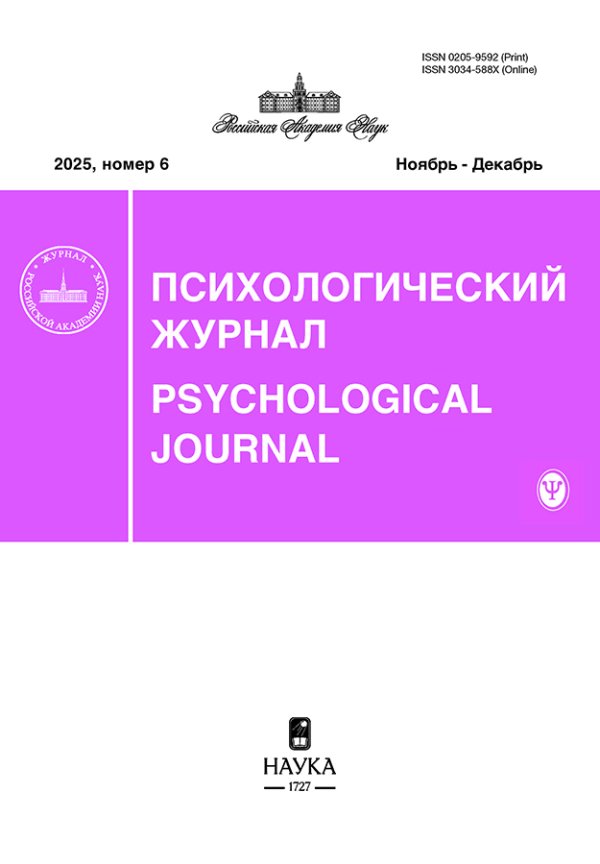On the relationship of mental and biological in the problem of modeling consciousness
- Authors: Zelenkova T.V.1
-
Affiliations:
- State University of Humanities and Technology
- Issue: Vol 45, No 2 (2024)
- Pages: 5-14
- Section: Theoretical and metodological problems in psychology
- URL: https://bakhtiniada.ru/0205-9592/article/view/258233
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0205959224020015
- ID: 258233
Cite item
Full Text
Abstract
The problem of mental modelling and creation of thinking devices is one of the most significant and at the same time, the least studied in modern science. The main difficulties in solving it are associated with insufficient elaboration of the relationship between the mental and the biological, primarily from the conceptual apparatus and a unified methodological base. The article discusses the issues of the definition of alive, the emergence of the psyche, the concept of pan-interiorism, existing models of consciousness and their criticism from the position of non-disjunctive logic and proposes a new semiotic model based on a cultural substrate. The work is an attempt at an interdisciplinary synthesis of views on the above problems of the largest scientists of the XX and XXI centuries: V.I. Vernadsky, S.L. Rubinshtein, A.V. Brushlinsky, M.M. Bakhtin, Yu.M. Lotman and others. The possibility of building artificial intelligence based on cultural substrate is substantiated, as it is proposed to use semiotic systems, whose properties in many respects resemble the properties of a living organism: they possess the mechanism of autopoiesis, follow the Redi principle, are organized in the form of cholarchy, and exist only in a communicative environment.
Full Text
И.В. Гёте
Природа — не только “другое” для человека, но и природа в самом человеке.
В этом природном — первая самая естественная и теплая его непосредственная связь с миром, с его жизнью.
С.Л. Рубинштейн
Проблема соотношения психического и биологического занимает умы философов, биологов, физиологов и психологов многие сотни лет начиная со времен Античности. Сегодня эта проблема приобретает особую актуальность в связи с идеями моделирования психики человека и создания искусственного интеллекта. Решение этих задач требует: а) предельной четкости в определении необходимых понятий и б) их системной целостности [8], которые выполняют “интегрирующую роль в науке, создавая опорные точки в пространстве научного знания, становятся ориентирами ее поисков, инструментами объяснений и интерпретации” [19, с. 8]. В настоящей статье сделана попытка проследить подходы к решению данной проблемы, опираясь на исследования крупнейших ученых XX и XXI вв.: В.И. Вернадского, С.Л. Рубинштейна, А.В. Брушлинского, М.М. Бахтина, Ю.М. Лотмана и др.
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИВОГО: БИОГЕНЕЗ VS АБИОГЕНЕЗ
В письме к известному лингвисту Б.А. Успенскому Ю.М. Лотман пишет, что текст может существовать как текст только тогда, когда ему предшествовал другой текст, поскольку само существование текста предполагает его понимание членами социума и любой развитой культуре всегда должна предшествовать другая развитая культура.
Эту мысль он высказал в связи с исследованиями В.И. Вернадского, который доказал, что жизнь может возникнуть только из другой жизни, и поэтому “он считает жизнь и косную материю двумя исконными космическими началами, проявляющимися в разных формах, но вечно отдельными и вечно контактирующими” [13, с. 684].
По мнению Вернадского, момент превращения не-жизни в жизнь нигде во Вселенной не наблюдается и не реконструируется, и поэтому гипотезы о том, что жизнь происходит из неживого или может быть объяснена теологически, являются спекуляциями, основанными на презумпции, что она (жизнь) должна обязательно от чего-то произойти [7].
По этому поводу он пишет: “Между живыми и косными телами биосферы нет переходов — граница между ними на всем протяжении геологической истории резкая и ясная…” [7, с. 172]. И далее: “Это не является философской или научной гипотезой или теорией — это есть эмпирическое обобщение из бесчисленного множества точно логически и эмпирически установленных фактов, поэтому жизни вне живого организма в биосфере нет” [Там же, с. 194]. Тем не менее между живой и неживой материей на Земле всегда существует постоянная связь, прежде всего это обмен химическими элементами.
Мысль о том, что биогенез является наиболее приемлемой формой зарождения живого, была высказана Франческо Реди еще в XVII в.: “Принцип Реди — все живое из живого — есть первое достижение, которое позволяет нам научно подойти к загадке жизни” [6, с. 89]. Этот принцип никогда не нарушался: “Живое вещество XX века составляет единое во времени явление с живым веществом архейской эры” [Там же]. Более того, и в космический (догеологический) период существования Земли принцип Реди был сущностью жизни: “Начала жизни в том Космосе, какой мы наблюдаем, не было, поскольку не было начала этого Космоса. Жизнь вечна постольку, поскольку вечен Космос, и передавалась всегда биогенезом”, хотя формы живого вещества были другими [Там же, с. 102].
Причиной заблуждений в вопросе возможности перехода неживого в живое Вернадский считал настрой ученых на поиск сходств между живой и неживой природой, тогда как необходимо делать акцент на выявлении различия между ними. Конечно, можно искусственно создать все “строительные кирпичики” (составные части) организма, но “вдохнуть в них жизнь”, создать ту “одушевляющую связь”, о которой писал Гёте, — это утопия.
Другая особенность жизни состоит в том, что новые виды, включая человека, появляются сразу в форме популяции, которая уже обладает определенной структурой (“социальной средой”) и поддерживает внутреннюю связь между входящими в нее организмами (прототип “культуры”). При этом каждый отдельный организм, помимо физического тела, имеет еще и некоторый аналог психики для сохранения своей идентичности и взаимодействия с популяцией. Все эти четыре элемента взаимозависимы, образуют сеть и эволюционируют как единое целое [24].
Близких взглядов на систему “детерминант психологии человека” придерживается В.А. Янчук, рассматривающий четырехмерный неделимый “континуум пространств интердетерминант психологической феноменологии”, который представляет собой гетерархию, состоящую из сети биологического, психического и социального компонентов “под управлением” культурного компонента [22, с. 208].
По мнению Вернадского, жизнь является неотъемлемой частью природы наряду с энергией, материей, электричеством и др. [5] и представляет собой класс всех организмов (биосферу), который непрерывно создает сам себя и ноосферу (класс всех культур и социумов) [7].
Сходную позицию разделяет и выдающийся французский ученый Тейяр де Шарден, признавая, что “жизнь — более реальна, чем живые существа” [20, с. 142]. Конкретные организмы исчезнут, но жизнь останется. В этом смысле организмы не вечны, а жизнь, распределенная по всем организмам прошлого, настоящего и будущего, бесконечна. При этом мы обречены видеть только уже готовые формы жизни, но никогда не увидим процесс их зарождения [20].
Аналогичный подход мы видим и у знаменитого французского философа А. Бергсона: “Жизнь — это тенденция, сущность которой есть развитие в форме пучка, она создает расходящиеся линии, между которыми разделяется жизненный порыв [élan vital]” [2, с. 120]. На этих линиях возникают все новые и новые формы жизни. Однако “о явлениях, наблюдаемых в самых низших формах жизни, трудно сказать, относятся ли они еще к сфере физики и химии, или это уже явления жизни” [Там же, с. 119].
АУТОПОЭЗИС КАК БИОПСИХИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО
Открытие чилийскими биологами У. Матураной и Ф. Варелой в 70-е годы XX в. механизма аутопоэзиса фактически означало завершение поисков той “одушевляющей связи”, о которой говорил Гёте. Эта связь присуща исключительно живым организмам, и ее нельзя создать и запустить искусственным путем. Отличительная особенность живых существ состоит в том, что они непрерывно воспроизводят самих себя без разделения на производителя и продукт [23]. Развивая идеи Вернадского о начале жизни, Матурана и Варела предполагают, что первичная жизненная среда, возникнув однажды на Земле в каком-либо одном месте, в дальнейшем начинает возникать во многих местах и на протяжении многих миллионов лет [Там же].
Как астрология внесла вклад в современную астрономию, а алхимия привела к развитию экспериментальной химии, так и представления о “жизненной силе”, или “энтелехии”, способствовали созданию научной концепции аутопоэзиса, опирающейся на идею “доминантной монады”, введенной Уайтхедом.
Воодушевленные успехом своего открытия, Матурана и Варела пытались впоследствии перенести биологическую модель аутопоэзиса на социум, однако потерпели неудачу, поскольку рассматривали общество в духе гоббсовского Левиафана как один большой организм, считая, что онтогенезы отдельных организмов образуют биологическую сеть, являющуюся формой онтогенеза некоторого гигантского суперорганизма [23]. Этот недостаток в дальнейшем был преодолен Н. Луманом, создавшим теорию социального аутопоэзиса на основе внутренних коммуникативных связей в социуме, объединенных “доминантным дискурсом” (взаимопониманием, или взаимным резонансом) [14].
Интересно отметить, что идея самопостроения живого организма была высказана еще в 1926 г. (на 50 лет раньше авторов теории аутопоэзиса!) учеными из “круга Бахтина”. Так, определяя живой объект, И.И. Канаев пишет: “Развивающийся организм — это машина, строящаяся из строящихся частей. Когда мы ее разрушаем, на ее месте начинает строиться новая машина из оставшихся элементов и в новых условиях” [9, с. 125]. Следовательно, делает он вывод: “В отличие от тел мертвой природы и от машин и механизмов, созданных рукою человека, живой организм сам может починять и восстанавливать себя самого, следуя при этом с поразительной точностью сложнейшему плану своего строения” [Там же, с. 112]. Канаевым также была высказана и другая замечательная идея об энтелехии как о “доминантной монаде”, а именно что энтелехия — это “не материальная и не пространственная и потому совершенно недоступная внешним чувствам интенсивная величина. Это — как план целого, определяющий и регулирующий развитие организма” [Там же, с. 117].
Проблеме поиска различий между живой и неживой материей уделял большое внимание и крупнейший физик XX в., один из создателей квантовой теории Э. Шредингер. В своих исследованиях он пришел к результатам, удивительным образом совпадающим с основными положениями теории аутопоэзиса, и фактически подтвердил принцип Реди “все живое — из живого”, который ввел Вернадский.
Прежде всего Шредингер сформулировал три критерия отличия живой материи от неживой с точки зрения физики. Первый — уникальность и неповторимость структуры живого, т.е. полное отсутствие ее аналогов в физическом мире. Второй — качественное различие законов, которым подчиняются живое и неживое. Если объекты неживой материи подчиняются статистическим закономерностям, законам больших чисел, то живые объекты следуют динамическим законам индивидуального организма [21].
И наконец третий — в статистических законах важно следствие. Из неживого возникает только неживое, а в динамических законах важна причина — живое рождается только из живого (принцип Реди) и поддерживает свою организацию по правилу кольца обратной связи (аутопоэзис): “существующая упорядоченность проявляет способность поддерживать сама себя и производить упорядоченные явления, опирающихся на активность организмов. Поэтому может показаться, что получается нечто подобное порочному кругу” [Там же, с. 78].
Аутопоэзис как неотъемлемый атрибут живого невозможен без какой-либо формы психического, пусть даже самой элементарной, т.е. он имеет структуру биопсихического кольца. Более того, именно наличие такого “внутреннего измерения” (см. далее) обеспечивает целостность живого организма во времени и пространстве (его “хронотоп”), поскольку нужна, например, хотя бы простейшая форма памяти для непрерывного сохранения информации о текущем состоянии организма, чтобы обеспечить его идентичность в будущем.
КОНЦЕПЦИЯ ПАНИНТЕРИОРИЗМА
Исходя из положения Вернадского о том, что жизнь как планетарное явление создает и биосферу, и ноосферу, можно обоснованно предполагать наличие на всех уровнях живого не только биологических, но и психических составляющих, хотя бы и в простейшей форме.
Более определенно об этом высказывается Шарден: “С самого начала в земной материи была замкнута некоторая масса элементарного сознания” [20, с. 66], которое “в направлении, обратном эволюции, качественно преломляется в виде спектра с изменчивыми нюансами, нижние границы которого теряются во мраке” [Там же, с. 57].
В связи с этим интересно мнение создателя интегрального подхода в психологии К. Уилбера. С одной стороны, он критикует позицию Уайтхеда, распространившего прегензию (первичную чувствительность) на уровень атомов, а с другой — допускает бесконечность деления сознания на нижележащие уровни настолько далеко, насколько это необходимо. Важно лишь не забывать о том, что сознания на более высоких эволюционных уровнях всегда больше, чем на нижележащих. Например, сколько бы “сознания” ни было у дерева, у коровы его больше, а у приматов еще больше и т.д. [24].
Гораздо раньше похожие мысли высказывал и С.Л. Рубинштейн, введя понятие “внутренней природы вещей и явлений”, которую обусловливают внешние воздействия. Они «откладываются в ней так, что в каждом явлении, результатами своих воздействий на него, как бы “представлены”, отражены все взаимодействующие с ним предметы» [18, с. 11]. Таким образом, в любом явлении в свернутом виде откладывается вся история его взаимодействий с реальностью. Результаты всех последующих воздействий несут на себе отпечаток этой истории: “любое воздействие одного явления на другое преломляется через внутренние свойства того явления, на которое это воздействие оказывается” [Там же] — внешнее всегда действует через внутреннее.
Взаимодействие, при котором одни явления представлены или отражены в других, — это, по мнению Рубинштейна, «некоторый аналог психического отражения. Это не означает, что в самом фундаменте материи имеется сознание, психика, но это означает, что в материальном мире имеются черты, по крайней мере формально сходные с ними, некоторые исходные предпосылки для их развития. Сознание не вовсе чужеродно и “одиноко” в мире; оно не привнесено извне; в самом фундаменте материи есть свойства, аналогичные ему, предпосылки для его естественного и закономерного развития» [Там же, с. 12].
Таким образом, фактически Рубинштейн предвосхищает появление понятия “панинтериоризм”, возникшего в современной западной философии и означающего наличие внутреннего измерения, или протосознания в духе Уайтхеда, у любого материального объекта. При этом важно подчеркнуть принципиальное отличие научно-философского понятия “панинтериоризм”, предполагающего наличие качества “внутреннего” у материи, от религиозно-философского представления о “панпсихизме”, одушевляющем Вселенную, поскольку они находятся между собой точно в таком же отношении, как, например, современная химия и средневековая алхимия.
Допущение Рубинштейном существования внутреннего измерения на всех уровнях материи тем более предполагает его наличие у материи живой. И если А.Н. Леонтьев, указав объективный признак психики, нашел достаточные условия ее присутствия в организме, то С.Л. Рубинштейн сформулировал необходимые условия такого присутствия. Действительно, если животное реагирует на абиотические свойства внешней среды, то у него, несомненно, есть психика. Но если животное не реагирует на абиотические раздражители, то это не значит, что у него ее нет. Поэтому для объективной картины необходима интеграция обоих взглядов, которая обеспечит и полноту, и точность представлений о критериях психического.
Шарден выражает эту же мысль в форме метафоры: «Все ценное, с самого начала содержавшееся в космическом лоскуте, из которого вышел наш мир, теперь концентрируется в “короне” ноосферы. И высокопоучительна констатация того, сколь незаметно произошло такое громадное событие, как возникновение этой ноосферы» [20, с. 150].
КРИТИКА УПРОЩЕННЫХ МОДЕЛЕЙ СОЗНАНИЯ
Прежде чем переходить к проблемам, связанным с моделированием психических процессов, будет полезно рассмотреть наиболее интересные точки зрения крупных современных ученых, имеющие непосредственное отношение к рассмотренным ранее вопросам.
В отличие от достаточно взвешенного подхода Шредингера, другой знаменитый физик и математик Р. Пенроуз занимает более радикальную позицию (так называемый квантовый физикализм), пытаясь свести все явления химии, биологии и даже психологии к чисто физическим закономерностям. Так, он прямо утверждает, что “мы обязаны понять мысленный мир на основе физического” [17, с. 100]. И далее: “Сознание есть проявление квантово-сцепленного внутреннего состояния вкупе с участием этого состояния во взаимодействии между процессами квантового и классического уровней” [16, с. 574]. Поэтому “нейронный уровень описания, к которому сводится модное нынче представление о мозге и разуме, является не более чем тенью процессов более глубокого уровня — именно там, в глубине, находится физический фундамент разума, который мы столь упорно разыскиваем!” [Там же]. Таким образом, Пенроуз полностью игнорирует доказательства Вернадского и с помощью квантовой механики уже много лет безуспешно пытается перекинуть мостик между живой и неживой материей.
Интересную попытку внести свой вклад в рассматриваемую проблему предпринял крупный российский математик Ю.И. Манин. Его взгляды основаны на теории информации и функциональном подходе к психике, т.е. на выделении и формализации ее основных характеристик. Прежде всего Манин отмечает огромный временной масштаб, связанный с “кристаллизацией человеческой психики” в процессе ее эволюции, и в силу этого «пушкинская метафора “дым столетий” точна: количество деталей, различимых историческим зрением, быстро падает» [15, с. 285]. Поэтому “любые нынешние догадки о ранних стадиях языка и сознания поневоле выражаются метафорически из-за отсутствия надлежащего понятийного языка” [Там же, с. 307].
В качестве такой метафоры, по его мнению, лучше всего подходит компьютерная модель, поскольку с ее помощью удобнее всего исследовать процессы переработки информации в биологических системах. Поэтому он предлагает “понимать под психикой совокупность информационных процессов, происходящих в центральной нервной системе” [15, с. 298]. При этом основные функции психики это: а) мера отражения в сознании информационных процессов, обеспечивающих поведенческий акт; б) мера роли сознания в формировании этих информационных процессов [Там же].
Используя компьютерный подход, Манин делает вывод: «Мы не пытаемся ответить на вопрос “что такое сознание”, но лишь выделяем его характеристики, которые представляются существенными. Если этими же характеристиками обладают какие-то техногенные информационные процессы, к ним можно, со всеми приличествующими оговорками, отнести слово “сознание”» [Там же, с. 300].
Похожую позицию занимает и другой известный советский и американский математик В.А. Лефевр, который предлагает изучать психику с помощью абстрактной алгебры, заявляя: «Чтобы построить формальную модель человека, нам нет нужды исследовать природу “пространства” или “области”, в которой обитает душа» [10, с. 29]. Таким образом, пишет он, “я полностью отвлекаюсь от того факта, что человеческое существо обладает мозгом”, поскольку «душа обладает своей собственной “вычислительной техникой”, которую нельзя наблюдать. Моя алгебраическая модель позволяет увидеть некоторые связи между такими чисто человеческими сущностями как совесть и музыка, с одной стороны, и физическими сущностями, такими, как элементарные частицы и наблюдение, с другой» [Там же, с. 30].
Более того, пишет он, “можно предположить, что формальная модель характеризует не только нашу, земную версию человека, но и любую другую, находящуюся в космосе” [10, с. 31]. Исходя из этого, Лефевр считает, что он вывел, по его собственному выражению, универсальную “формулу человека”, которая подходит для всей Вселенной [11].
Недостатки такого рода подходов лучше всего видны при их сопоставлении с важными положениями, сформулированными А.В. Брушлинским:
Взгляды Манина и Лефевра противоречат всем этим положениям, поскольку:
Критикуя подобные дизъюнктивные (обратимые) подходы к сознанию, А.В. Брушлинский писал о том, что “главная ошибка в истолковании чисто функционального метода как бессубстратного, состоит в следующем. В качестве исходного основания используют лишь один тип субстратных свойств, а именно морфологически неизменные элементы математического множества, машины и другие подобные объекты. И этот один из многих видов субстрата осознанно или неосознанно рассматривают как единственно возможный и потому универсальный. Тем самым сразу же игнорируются все остальные виды субстрата, и прежде всего морфофизиологические основы любого психического явления (которые, конечно, не состоят из дизъюнктивных, морфологически неизменных элементов). В итоге и возникает иллюзия, будто чисто функциональный подход превращается в бессубстратный и, следовательно, всеобщий” [4, с. 143]. Другими словами, при таком подходе исчезает главное, что характерно для психики: ее неразрывность с мозгом и механизм аутопоэзиса, непрерывно меняющий и мозг, и психику.
Брушлинский допускал перспективу построения недизъюнктивной модели человеческого интеллекта, но из-за невозможности на тот момент создания искусственного субстрата, по своим свойствам сходного с живым, задача была невыполнимой. Математики и физики пытались решить эту проблему по-своему, но все их модели были дизъюнктивны (обратимы) и строились на константных (неизменяемых) элементах, что противоречило основным характеристикам живого субстрата.
НЕДИЗЪЮНКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
Таким образом, подход Лотмана основан на культурном субстрате.
При этом Лотман различает сознание вообще (как таковое) и сознание человеческое как его частную форму. Основная сложность в корректном определении и разделении этих понятий состоит в том, что “единственным реально данным нам интеллектуальным объектом до сих пор предполагался механизм индивидуального сознания человека” [12, с. 25]. А поскольку не существует никакого другого сознания для сравнения и противопоставления, отделение человеческого сознания от сознания вообще представляется достаточно трудным делом. И тем не менее, считая такое отделение в целом достижимым, можно ставить вопрос о возможности создания искусственного интеллекта. Правда, здесь сразу же возникает другой вопрос: «В какой мере, моделируя отдельные элементарные звенья мыслительного процесса, мы действительно приближаемся к построению искусственного интеллекта. Получим ли мы в итоге “мыслящее устройство”, или же перед нами окажется лишь усовершенствованный придаток к интеллекту человека?» [Там же].
Лотмана в первую очередь интересовала проблема создания именно “мыслящего устройства”, чтобы по-новому взглянуть на понимание искусственного интеллекта, не имитируя тот или иной частный аспект разумной деятельности, а моделируя целиком весь интеллект. Образцом такого мыслящего устройства Лотман считал художественный текст или же текст на иностранном языке, так как они оба в процессе чтения требуют обязательного преобразования (получения на выходе нового текста), первый — в форме интерпретации, а второй — в виде перевода. По мнению Лотмана, такие тексты “обнаруживают черты интеллектуального устройства: они обладает памятью, в которой они могут концентрировать свои предшествующие значения [предыдущие интерпретации], и одновременно они проявляют способность, включаясь в коммуникативную цепь, создавать новые нетривиальные сообщения” [12, с. 27]. В качестве иллюстрации он рассматривает текст “Гамлета”, который можно прочитать в книге или посмотреть постановку этой пьесы в театре. В результате мы получим множество новых сообщений (мнений) от читателей и зрителей за какой-либо период. Эти сообщения, касающиеся и Шекспира, и читателей, и зрителей, и самой трагедии, формально можно рассматривать как сгенерированные самим текстом пьесы.
Важный вывод, к которому пришел Лотман, состоит том, что “мыслящее устройство” не может работать в изоляции, оно не станет само по себе самостоятельно мыслить, сколько бы усилий ни прикладывали его создатели. Для того чтобы появилось нечто похожее на мысль (возможность порождать новые оригинальные тексты), между создаваемой системой (искусственным интеллектом) и поступающими извне другими текстами должна сложиться семиотическая ситуация (осмысленное общение с помощью знаков), в результате которой мыслящее устройство активизируется. В этом смысле парадокс: «“сознанию должно предшествовать сознание” — звучит как тривиальная истина» [12, с. 28]. Продолжая свою мысль дальше, он перефразирует этот парадокс: «“Развитой цивилизации должна предшествовать развитая цивилизация”. Всякий раз, когда археологи обнаруживают “первую” и “древнейшую” цивилизацию, им приходится через некоторое время убеждаться, что ей предшествовала (часто в прямом смысле, располагаясь под ней в более древних пластах раскопок) еще более ранняя, но иногда даже более развитая цивилизация» [Там же, с. 28].
СЕМИОТИЧЕСКОЕ КОЛЬЦО КАК ИНВАРИАНТ “МЫСЛЯЩЕГО УСТРОЙСТВА”
Работу подобного устройства Лотман описывает в форме семиотического кольца, предполагающего двустороннюю активность и самокоррекцию, в точности как в биологическом аутопоэзисе: «Текст, введенный извне, стимулирует, “включает” сознание. Но для того, чтобы это “включение” состоялось, включаемое устройство должно иметь в своей памяти фиксацию семиотического опыта, т.е. такой акт не может быть “первым” [принцип Реди]. Модели “статическое состояние — запуск — действие” противостоит модель кругового взаимостимулирующего обмена» [12, с. 28].
Лотман рассматривает мозг как биполярную структуру, один из полюсов которой связан с дискретными (знаковыми), а другой — с непрерывными (символическими) процессами в психике. По такому же образцу необходимо создавать и “инвариант мыслящего устройства”. Дискретный полюс будет отвечать за генерацию линейных текстов, последовательно присоединяя новые сегменты, а непрерывный — за создание нелинейных, вложенных друг в друга (рекурсивных) текстов. В этом случае линейная организация текста представляет последовательный тип логического мышления, а нелинейная — параллельный тип образного. Значение этих типов мышления в том, что “именно на их пересечении рождается творческое (т.е. создающее новые тексты) сознание” [Там же, с. 30].
Важная особенность создаваемого “мыслящего устройства”, по мнению Лотмана, состоит в том, что “каждая из двух бинарных его структур должна быть одновременно и целым, и частью целого. Наращивание устройства достигается не присоединением к нему новых звеньев, а включением его — сверху — в единство высших уровней в качестве их части, а снизу — путем превращения его частей в функционирующие субструктуры. Это создает высокую концентрацию информации и практически неистощимые резервы нового смыслообразования” [12, с. 30]. Здесь Лотман на несколько лет раньше К. Уилбера сформулировал ключевой “принцип холархичности” структуры мозга, которая должна учитываться при создании “мыслящего устройства”.
Благодаря наличию двух полюсов на каждом уровне (дискретного и непрерывного) и отсутствию взаимно однозначных соответствий между ними смыслообразование приобретает многоступенчатый, произвольный характер, не предсказуемый автоматическими алгоритмами. В этом и состоит принципиальное отличие человеческого поведения “от автоматического устройства, не способного уклониться от алгоритма поведения, заданного ему” [Там же, с. 31]. Здесь мы видим практически полную аналогию со взглядами Н.А. Бернштейна, также выделяющего произвольность как один из важнейших объективных (наблюдаемых) признаков наличия сознания [3].
В итоге Лотман пишет: “Если человеку удастся создать полноценный искусственный разум, то мы менее всего заинтересованы, чтобы этот разум был точной копией человеческого. Определение Тьюринга, согласно которому разумным следует признать такое устройство, при сколь угодно длительном общении с которым мы не отличим его от человека, психологически понятно в своем антропоцентризме, но теоретически малоубедительно” [12, с. 33].
Обобщая положение Вернадского о том, что жизнь может возникнуть только из жизни, Лотман формулирует главный вывод: “мысль тоже нельзя вывести эволюционно из не-мысли”. Подобно тому как сама жизнь имеет разные формы (от простейших до наиболее сложных), “у мысли (у семиозиса) также есть простые и сложные формы. Только существование разума объясняет существование разума” [13, с. 684].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе сделана попытка междисциплинарного синтеза взглядов крупнейших отечественных и зарубежных ученых XX и XXI вв. на фундаментальные общенаучные проблемы соотношения психического и биологического и моделирования сознания.
Формулировка В.И. Вернадским принципа Реди “все живое происходит от живого” послужила методологической основой доказательства им существования резкой границы между живой и неживой материей и невозможности абиогенеза. Независимо от успехов синтеза органических веществ из неорганических получить из них живой организм невозможно в принципе, поскольку искусственно создать ту самую “одушевляющую связь” нельзя ни при каких условиях. У. Матурана и Ф. Варела, открыв аутопоэзис, фактически обнаружили этот “таинственный механизм одушевления”, присущий исключительно живым организмам.
Поскольку, по Вернадскому, жизнь создает и биосферу, и ноосферу, наличие психических составляющих возможно на всех уровнях живого, хотя бы и в простейшей форме. К таким же выводам независимо пришел и С.Л. Рубинштейн, предполагая, что в материальном мире имеются черты, формально сходные с сознанием (панинтериоризм), а также существуют условия для их развития.
Критикуя редукционистские подходы к моделированию психики на основе законов физики или информатики из-за их обратимости (дизъюнктивности), А.В. Брушлинский допускал перспективу разработки недизъюнктивной модели человеческого интеллекта, но эта задача была в то время невыполнимой из-за невозможности создания искусственного субстрата, по своим свойствам сходного с живым.
В качестве такого (культурного) субстрата Ю.М. Лотман предлагает использовать семиотические системы, чьи свойства во многом напоминают свойства живых организмов. Необходимо создание “мыслящего устройства”, смыслообразование в котором имеет многоступенчатый, произвольный характер, не предсказуемый автоматическими алгоритмами, причем такое устройство не должно быть копией человеческого интеллекта — это должен быть другой разум, другое сознание.
Материал настоящей статьи удивительным образом оказался созвучным мыслям, высказанным А.Г. Асмоловым и его коллегами в одной из последних работ: “Представление о мире как об упорядоченной иерархии, состоящей из подсистем разной природы, где основные границы пролегают между неорганическим, органическим и психическим уровнями, обосновывалось, в частности, такими мыслителями, как Тейяр де Шарден и В.И. Вернадский” [1, с. 107]. И далее: для “преодоления разрыва между естественнонаучным и гуманитарным путями познания психического, необходимо смещение внимания от исследований анализа эволюции психики к исследованию психики как двигателя эволюции” [Там же, с. 105].
Здесь, как и выше у Вернадского, фактически сформулирована фундаментальная идея эволюционного кольца, в котором, с одной стороны, биосфера (“афферент”) строит и себя, и ноосферу (социокультурную среду), а с другой — ноосфера (“эфферент”) не только эволюционирует под влиянием собственных внутренних факторов, но и создает новые условия для непрерывной эволюции биосферы.
About the authors
T. V. Zelenkova
State University of Humanities and Technology
Author for correspondence.
Email: tzelenk@mail.ru
PhD in Psychological Sciences, Associate Professor of the Department of Psychology and Defectology
Russian Federation, 142611, Moscow Region, Orekhovo-Zuevo, Zelenaya str., 22References
- Asmolov A.G., Shekhter E.D., Chernorizov A.M. Istoriko-evolyutsionnaya optika poznaniya Homo complexus: priglashenie k dialogu. Nauchnye podkhody v sovremennoi otechestvennoi psikhologii. Moscow: Izd-vo “Institut psikhologii RAN”, 2023. P. 99–115. (In Russian)
- Bergson A. Tvorcheskaya evolyutsiya. Moscow: TERRA-Knizhnyi klub; KANON-press-Ts, 2001. 384 p. (In Russian)
- Bernshtein N.A. Sovremennye iskaniya v fiziologii nervnogo protsessa. Moscow: Smysl, 2003. 330 p. (In Russian)
- Brushlinskii A.V. Sub”ekt: myshlenie, uchenie, voobrazhenie. Moscow: Izd-vo “Institut prakticheskoi psikhologii”; Voronezh: NPO “Modek”, 1996. 392 p. (In Russian)
- Vernadskii V.I. Zhivoe veshchestvo i biosfera. Sobr. soch.: V 24 v. V. 8. Moscow: Nauka, 2013. 525 p. (In Russian)
- Vernadskii V.I. Nachalo i vechnost’ zhizni. Moscow: Sov. Rossiya, 1989. 702 p. (In Russian)
- Vernadskii V.I. Filosofskie mysli naturalista. Moscow: Nauka, 1988. 522 p. (In Russian)
- Zelenkova T.V. K probleme sozdaniya sistemno-setevogo psikhologicheskogo tezaurusa v kontekste metamoderna. Psikhologicheskii zhurnal. 2023. V. 44. № 6. P. 109–113. (In Russian)
- Kanaev I.I. Sovremennyi vitalizm. Bakhtin pod maskoi. № 5 (1). Stat’i Kruga Bakhtina. Moscow: Labirint, 1996. P. 102–126. (In Russian)
- Lefevr V.A. Ot psikhofiziki — k modelirovaniyu dushi. Voprosy filosofii. 1990. № 7. P. 25–31. (In Russian)
- Lefevr V.A. Formula cheloveka: Kontury fundamental’noi psikhologii. Moscow: Progress, 1991. 108 p. (In Russian)
- Lotman Yu.M. Izbrannye stat’i: V 3 v. V. 1. Stat’i po semiotike i tipologii kul’tury. Tallinn: Aleksandra, 1992. 479 p. (In Russian)
- Lotman Yu.M. Semiosfera. Saint Petersburg: Iskusstvo-SPb, 2000. 704 p. (In Russian)
- Luman N. Obshchestvo kak sotsial’naya sistema. Moscow: Logos, 2004. 323 p. (In Russian)
- Manin Yu.I. Matematika kak metafora. Moscow: MTsNMO, 2010. 379 p. (In Russian)
- Penrouz R. Teni razuma. Moscow-Izhevsk: In-t komp’yuternykh issledovanii, 2005. 688 p. (In Russian)
- Penrouz R., Shimoni A., Kartrait N., Khoking S. Bol’shoe, maloe i chelovecheskii razum. Moscow: Mir, 2004. 191 p. (In Russian)
- Rubinshtein S.L. O meste psikhicheskogo vo vseobshchei vzaimosvyazi yavlenii material’nogo mira. Rubinshtein S.L. Printsipy i puti razvitiya psikhologii. Moscow: Izd-vo APN SSSR, 1959. P. 7–22. (In Russian)
- Sergienko E.A. Psikhicheskoe razvitie s pozitsii sistemno-sub”ektnogo podkhoda. Moscow: Izd-vo “Institut psikhologii RAN”, 2021. 390 p. (In Russian)
- Sharden T. Fenomen cheloveka. Moscow: Nauka, 1987. 239 p. (In Russian)
- Shredinger E. Chto takoe zhizn’? S tochki zreniya fizika. Moscow: Atomizdat, 1972. 62 p. (In Russian)
- Yanchuk V.A. Kul’turno-dialogicheskaya interdeterministskaya perspektiva integral’nogo sinteza v “ochelovechivanii” psikhologicheskogo znaniya: k 80-letiyu V.N. Panferova. Psikhologiya cheloveka v obrazovanii. 2019. V. 1. № 3. P. 205–216. (In Russian)
- Maturana H., Varela F. Autopoiesis: the organization of the living. Maturana H., Varela F. Autopoiesis and Cognition. Boston, 1980. P. 63–134.
- Wilber K. Sex, Ecology, Spirituality: The spirit of evolution. Boston: Shambhala, 1995.
Supplementary files