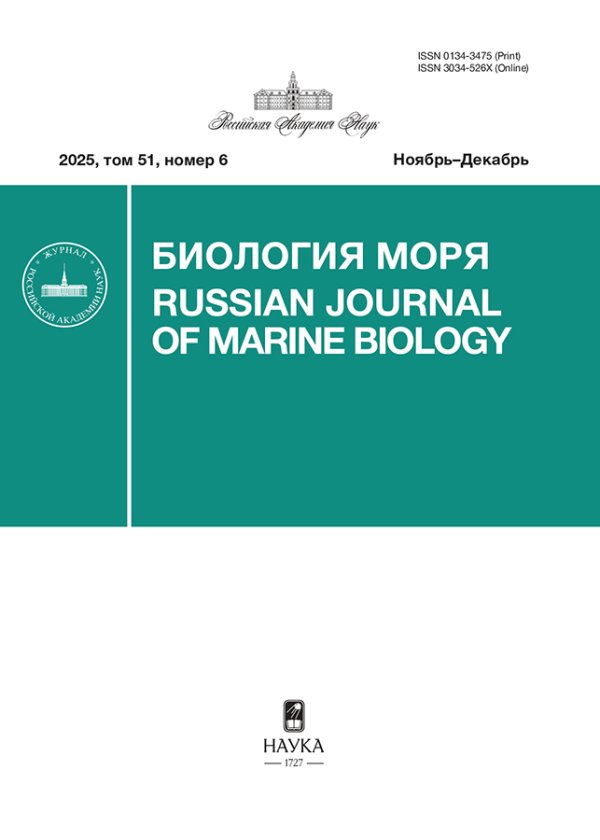Long-Term Changes in the Seasonal and Interannual Dynamics of the Abundance of Eggs of Common Pelagophilic Fish Species in the Gdansk Deep of the Baltic Sea
- Authors: Karaseva E.M.1, Ezhova E.E.2
-
Affiliations:
- Atlantic Branch of the Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (AtlantNIRO)
- Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences (IO RAS)
- Issue: Vol 50, No 1 (2024)
- Pages: 62-69
- Section: ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
- Accepted: 11.06.2024
- Published: 15.02.2024
- URL: https://bakhtiniada.ru/0134-3475/article/view/256793
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0134347524010042
- ID: 256793
Cite item
Full Text
Abstract
The abundance of eggs of the Baltic cod Gadus morhua Linnaeus, 1758 and the Baltic sprat Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758) in the Gdansk Deep of the Baltic Sea was estimated from data for March–August 2015–2022. The estimates were compared with historical data for 1968–1977. In the modern period, the average sprat egg abundance increased one and a half times from 134.7 to 192.6 eggs/m2, and the spawning peak shifted to earlier dates, from May–July 1968–1977 to April–June 2015–2022. The average cod egg abundance decreased by half from 16.3 to 8.0 eggs/m2, and the spawning shifted a month later, from May–June to June–July, which is apparently related to climate change.
Full Text
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Сбор ихтиопланктонных проб производили в границах исключительной экономической зоны РФ (далее ИЭЗ) с марта 2015 по июль 2022 г. на судах ИО РАН (“Профессор Штокман”, “Академик Иоффе”, “Академик Борис Петров”, “Академик Николай Страхов”, “Академик Сергей Вавилов”) и на судах АтлантНИРО (СТМ “Атлантида” и СТМ “АтлантНИРО”). Количество ихтиопланктонных проб, собранных за весенне-летний сезон на судах ИО РАН за указанные годы, составило 281, на судах АтлантНИРО – 131, в сумме – 412 проб. В качестве орудия лова использовали сеть ИКС-80. Сбор проб проводили по стандартной методике (Расс, Казанова, 1966) посредством вертикального облова слоя дно-поверхность. Пробы фиксировали 4%-м раствором формальдегида. Местоположение ихтиопланктонных станций в сборах АтлантНИРО и ИО РАН в пределах Гданьской впадины показано на рис. 1.
Рис. 1. Местоположение ихтиопланктонных станций в сборах АтлантНИРО весной–летом 2015–2022 гг. (а), в сборах ИО РАН весной–летом 2016–2022 гг. (б).
Виды ихтиопланктона идентифицировали по определителю Казановой (1954). Количественные оценки икры двух массовых видов рыб, балтийской трески и балтийского шпрота, рассчитанные в экз./м2, были сопоставлены с литературными данными за 1968−1977 гг. (Грауман, 1980) для выявления многолетних трендов в динамике нерестовых запасов этих рыб. При расчете средних значений численности икры трески и шпрота были исключены данные за 2018 и 2020 гг., охватывавшие только март (начало нереста) и июль−август. Таким образом, для расчета средней численности икры трески и шпрота использовали данные за 6 лет: 2015−2017, 2019 и 2021−2022 гг.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Оценки численности икры трески и шпрота для каждого из шести месяцев (март–август) и в среднем за сезон размножения представлены в табл. 1.
Таблица 1. Средняя численность (экз./м2) икры трески и шпрота в Гданьской впадине за 2015–2022 гг.
Вид | Месяцы | ||||||
III | IV | V | VI | VII | VIII | III−VIII | |
Треска | 3.77 | 3.15 | 4.87 | 13.85 | 16.05 | 6.02 | 7.96 |
Шпрот | 71.4 | 310.75 | 414.97 | 255.6 | 68.74 | 0.0 | 186.9 |
Сезонная встречаемость икры трески в Гданьской впадине охватывала 6 мес. (март–август) и характеризовалась минимумом в марте и апреле и пиком средней численности в конце июня – начале июля. Сезонная встречаемость икры шпрота охватывала 5 мес. (март–июль) с пиком в мае и минимумом в июле, в августе икра этого вида в ихтиопланктоне отсутствовала.
Межгодовая динамика численности икры трески характеризовалась пиком численности в 2017 г. и ее резким снижением в 2021–2022 гг. (рис. 2).
Рис. 2. Межгодовая изменчивость численности икры трески и шпрота в Гданьской впадине Балтийского моря в 2015–2022 гг.
Невключенные в рис. 2 данные по икре трески за 2020 г. показали такую же низкую численность (1.2–1.8 экз./м2), как и в последующие годы. Средняя численность икры трески за март–август 2017 г. составила 38.1 экз./м2 с максимальным значением 96 экз./м2 в конце июня. К концу рассматриваемого периода численность икры трески резко сократилась, не превышая 0.33 экз./м2 за аналогичные месяцы 2022 г. В среднем за весь период минимальная численность икры трески (менее 4 экз./м2) была отмечена в марте–апреле.
Сезонный максимум численности икры шпрота приходился на май, то есть, в более ранние сроки, чем у икры трески с летним сезонным максимумом. Пик численности в межгодовой динамике икры шпрота за 2015−2022 гг. пришелся на 2019 г. с максимальным значением более 1000 экз./м2 и средним значением 600 экз./м2. Минимальный уровень численности был отмечен в 2015 г. (рис. 2). Таким образом, как сезонная, так и межгодовая динамика численности икры шпрота не совпадала с таковой трески. Несмотря на более раннее завершение нереста шпрота, численность его икры в среднем за март–август значительно превышала таковую трески.
Сопоставление современных данных с оценками численности икры этих видов в Гданьской впадине за 1968−1977 гг. (Грауман, 1980) показало значительные междекадные различия в их сезонной динамике. Пик максимальной численности икры трески в современный период сдвинулся на месяц позже: с мая–июня в 1968–1977 гг. на июнь–июль в 2015–2022 г. (рис. 3).
Рис. 3. Сезонная изменчивость численности икры трески в 1968–1977 и 2015–2022 гг. в Гданьской впадине Балтийского моря.
Напротив, пик максимальной численности икры шпрота сдвинулся на более ранние сроки: c мая–июля 1968–1977 гг. на апрель–май 2015–2022 гг. (рис. 4).
Рис. 4. Сезонная изменчивость численности икры шпрота в 1968–1977 и 2015–2022 гг. в Гданьской впадине Балтийского моря.
Общая продолжительность встречаемости икры трески в ихтиопланктоне (6 мес.) была одинаковой для двух рассматриваемых периодов. У шпрота продолжительность встречаемости икры в современный период составила 5 мес., сократившись на 1 мес. по сравнению с 1968−1977 гг.
Были выявлены также заметные изменения средней численности икры этих видов за рассматриваемые периоды. В целом, средняя численность икры шпрота в современный период увеличилась в полтора раза − с 134.7 до 192.6 экз./м2. Напротив, средняя численность икры трески уменьшилась в два раза – с 16.3 до 7.95 экз./м2 (рис. 5).
Рис. 5. Средняя численность икры шпрота и трески (экз./м2) в Гданьской впадине в 1968–1977 и 2015–2022 гг.
ОБСУЖДЕНИЕ
Согласно литературным данным (Грауман, 1984; Kändler, 1949; Mankowski, 1959), только 4 вида так называемых пелагофильных рыб, выметывающих пелагическую икру (треска, шпрот, речная камбала, морской налим), размножаются в Гданьской впадине в весенне-летний период. Ограниченное количество видов до некоторой степени компенсируется весьма длительным периодом их нереста и, соответственно, длительной (до 5−6 мес.) встречаемостью в ихтиопланктоне икры наиболее многочисленных рыб – балтийской трески и балтийского шпрота.
Характерной особенностью Балтийского моря является его вертикальная стратификация, то есть относительно высокая соленость придонных вод (до 13−14‰ в Гданьской впадине) по сравнению с поверхностным слоем с соленостью до 6−8‰ в Юго-Восточной Балтике (Антонов, 1987). Нерестовый биотоп трески в течение всего сезона размножения приурочен к зоне галоклина, локализующегося в Гданьской впадине на глубине более 70−80 м. Оптимальные условия для нереста трески в глубоководных впадинах возникают при уровне солености не менее 11‰ и высоком содержании кислорода (не менее 2 мг/л), что однако обеспечивается только в случае проникновения в глубоководные впадины адвекций североморских вод, так называемых больших балтийских затоков (Koester et al., 2017).
В марте в этой глубоководной зоне нерестится также балтийский шпрот. В апреле и мае, а в некоторые годы, по-видимому, и в начале июня этот вид начинает совершать вертикальные суточные миграции, поднимаясь в темное время суток в поверхностный слой, где и происходит икрометание (Шкицкий, Ноздрин, 1969). Однако, как показали современные исследования, весной в поверхностном слое ночью присутствует только икра на I и II стадиях развития (Карасева, Иванович, 2010). Икринки шпрота на более поздних стадиях (III и IV) постепенно опускаются в верхнюю часть галоклина, на глубины более 70 м, где и происходит выклев их личинок, также как и личинок донных видов рыб. Только во второй половине лета и в условиях штилевой погоды отмечается основная локализация икры шпрота в поверхностном слое (Карасева, Иванович, 2010). По предположению этих авторов, в условиях низкой солености поверхностного слоя (менее 8‰) продолжительность удержания в нем икры и личинок могла зависеть от степени развития вертикальных градиентов плотности воды в термоклине, возраставших в ходе летнего прогрева. В современный период нерест этого вида к середине июля уже подходит к завершению. Таким образом, в первые месяцы сезона размножения развитие икринок шпрота происходит в зоне галоклина и зависит от таких факторов среды, как содержание кислорода, соленость и температура воды в указанной зоне.
В начале рассматриваемого периода (2015 г.) условия для размножения трески в Гданьской впадине были наиболее благоприятными в результате проникновения в декабре 2014 г. мощной североморской адвекции (Mohrholz et al., 2015), за которой в сентябре 2015 г. и феврале 2016 г. прошли еще два затока соленых и насыщенных кислородом североморских вод (Дубравин и др., 2017; Кречик и др., 2017). В результате весной и летом 2016−2017 гг. в Гданьской впадине сложились оптимальные условия для нереста трески и выживания ее икры и личинок (Карасева и др., 2020). Эти абиотические условия были благоприятны также для размножения шпрота в начальный период (Voss et al., 2006). Однако, поскольку шпрот является основным кормовым объектом для трески, интенсивность его нереста и, соответственно, количество выметанной икры возрастали по мере ухода трески из Гданьской впадины. Миграция трески могла происходить либо в северо-восточном направлении, вслед за водами адвекции с высоким уровнем солености и содержания кислорода, либо в противоположном направлении, в юго-западные районы, при развитии стагнационных процессов в восточных впадинах Балтийского моря.
Сопоставление современных оценок сезонной динамики численности выметанной икры трески и шпрота (а следовательно, и динамики нереста) с данными за 1968−1977 гг. (Грауман, 1980) показало, что пики нереста этих видов расходились как в прошлом, так и в настоящее время (рис. 4, 5). Однако важное различие заключалось в том, что в 1968–1977 гг. численность икры трески в мае–июне значительно превышала таковую в июле–августе. Напротив, численность икры шпрота была в среднем ниже в начале нерестового сезона (апрель–май), возрастая ближе к его концу (июнь–июль). Соответственно, в прошлом наиболее интенсивный нерест трески отмечался раньше пика нереста шпрота. В современный период пик численности икры шпрота сместился на весну (апрель–май). В то же время сезонный максимум численности икры трески имел противоположный тренд, сместившись на летние месяцы, что привело к более позднему нересту этого вида по сравнению со шпротом.
Сходные процессы были отмечены для европейского шпрота Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758) в Черном море: изменение температурного режима в этом регионе привело к изменению фенологии размножения шпрота и сдвигу его массового нереста с зимнего на осенний гидрологический сезон (Климова и др., 2021).
Эти сезонные сдвиги в балтийском регионе были связаны с климатическими изменениями, которые привели к росту придонной температуры воды в глубоководных впадинах (Alheit et al., 2005). Кроме того, в состоянии популяции балтийской трески произошли значительные изменения. Уже в первых отечественных исследованиях (Токарева, 1967) было отмечено, что эта популяция включает две группировки: крупноразмерную, с пиком нереста в апреле–июне, и мелкоразмерную, с более поздним летним нерестом. Первая группировка доминировала в популяции балтийской трески на протяжении 1940–1980-х годов, в то время как вторая стала преобладающей в начале нового века (ICES, 2014). Согласно данным ИКЕС, в последние годы было отмечено уменьшение численности трески более крупных размеров и старших возрастов, а также уменьшение ее средней массы и размера.
Известно, что адаптация биосистем к условиям среды заключается в оптимизации разнообразия в различных направлениях: на популяционном (внутрипопуляционное фенотипическое разнообразие) и ценотическом (число видов) уровнях, в зависимости от свойств видов и характеристик среды (Алещенко, Букварева, 2010). При крайне низком видовом богатстве пелагофильных рыб Балтийского моря наличие двух группировок в популяции балтийской трески, видимо, можно рассматривать как проявление внутрипопуляционного фенотипического разнообразия. Однако, несмотря на расхождение сроков нереста этих двух группировок, вертикальное расположение их нерестового биотопа оставалось неизменным в течение всего нерестового сезона, то есть было ниже галоклина (Грауман, 1984).
Напротив, репродуктивная стратегия балтийского шпрота заключалась в использовании различных нерестовых биотопов в ходе сезона размножения – верхнюю часть галоклина в начале нерестового сезона и поверхностный слой в конце весны – летом (Карасева, Иванович, 2010). Смещение пика размножения шпрота с мая–июля в 1968–1977 гг. на апрель–июнь 2015–2022 гг. в значительной степени происходило в связи с климатическими изменениями и ростом температуры воды. Это смещение снова привело к расхождению сроков массового нереста шпрота и трески, но теперь уже одновременно с ростом продолжительности нагульного периода для личинок и молоди шпрота, увеличивая шансы их выживания и появления многочисленного поколения.
В настоящее время величина запасов шпрота сохраняется на высоком уровне, что как правило определяется современным климатическим фоном, в частности, мягкими зимами и повышением температуры воздуха. Эти климатические факторы способствуют увеличению выживания икры и личинок шпрота (Амосова и др., 2022; Alheit et al., 2005).
БЛАГОДАРНОСТИ
Авторы признательны сотрудникам сектора Балтийского моря АтлантНИРО и сотрудникам лаборатории морской экологии Атлантического отделения ИО РАН, обеспечившим сбор обширного ихтиопланктонного материала в 2015−2022 гг.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Экспедиционные исследования на судах Атлантического филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН выполнялись за счет бюджетов соответствующих институтов. Обработка проб ихтиопланктона и анализ данных поддержаны госбюджетной темой Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) № 076-00007-22-00, интерпретация данных финансировалась в рамках госзадания Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН № FMWE-2024-0021. Никаких дополнительных грантов на проведение или руководство данным конкретным исследованием получено не было.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Этические нормы, под которыми понимается минимизация негативного воздействия на природную среду при сборе и обработке ихтиопланктона, были максимально соблюдены.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы данной работы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
About the authors
E. M. Karaseva
Atlantic Branch of the Russian Federal Research Institute of Fisheries and Oceanography (AtlantNIRO)
Author for correspondence.
Email: karasiova@atlantniro.ru
ORCID iD: 0009-0006-6452-3451
Russian Federation, Kaliningrad, 236022
E. E. Ezhova
Shirshov Institute of Oceanology, Russian Academy of Sciences (IO RAS)
Email: igelinez@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-2460-7862
Russian Federation, Moscow, 117997
References
- Алещенко Г.М., Букварева Е.Н. Двухуровневая иерархическая модель оптимизации биологического разнообразия // Изв. РАН. Сер. биологическая. 2010. № 1. С. 5−15.
- Амосова В.М., Зезера А.С., Голубкова Т.А. Влияние факторов среды на величины запасов рыб в Балтийском море // Тр. ВНИРО. 2022. Т. 187. С. 110−127.
- Антонов А.Е. Крупномасштабная изменчивость гидрологического режима Балтийского моря и ее влияние на промысел. Л.: Гидрометеоиздат.1987. 248 с.
- Грауман Г.Б. Экологические особенности воспроизводства основных пелагофильных рыб в Балтийском море // Fisch.-Forsch. 1980. Т. 18. № 2. C. 77−81.
- Грауман Г.Б. Ихтиопланктон // Очерки по биологической продуктивности Балтийского моря. М.: Управление делами Секретариата СЭВ. 1984. Т. 3. С. 259−456.
- Дубравин В.Ф., Капустина М.В., Кречик В.А. Эволюции гидрохимических структур вод Балтийского моря // Изв. КГТУ. 2017. № 46. С. 24−33.
- Казанова И.И. Определитель икры и личинок рыб Балтийского моря и его заливов // Тр. ВНИРО. 1954. Т. XXVI. С. 221−265.
- Карасева Е.М. Численность икры восточно-балтийской трески Gadus morhua callarias (Gadidae) в XX веке как показатель изменений состояния популяции // Вопр. ихтиологии. 2018. Т. 58. № 6. С. 699−709.
- Карасева Е.М., Ежова Е.Е., Кречик В.А. Влияние абиотических факторов среды на численность икры и личинок трески в Юго-Восточной Балтике в 2016 г. // Океанология. 2020. Т. 60. № 4. С. 729−739.
- Карасева Е.М., Иванович В.М. Вертикальное распределение икры и личинок балтийского шпрота Sprattus sprattus balticus (Clupeidae) в связи с сезонной и суточной изменчивостью // Вопр. ихтиологии. 2010. Т. 50. № 2. С. 240−250.
- Климова Т.Н., Вдодович И.В., Аннинский Б.Е. и др. Влияние некоторых абиотических и биотических факторов на нерест европейского шпрота Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758) в Черном море в ноябре 2016−2017 гг. // Океанология. 2021. Т. 61. № 1. С. 67−78.
- Кречик В.А., Капустина М.В., Дубравин В.Ф., Ежова Е.Е. Различия и изменчивость термохалинных и гидрохимических показателей вод придонного слоя Гданьской и Готландской впадин в 2015−2016 годах // Система Балтийского моря. М.: Научный мир. 2017. С. 109−121.
- Расс Т.С., Казанова И.И. Методическое руководство по сбору икринок, личинок и мальков рыб. М: Пищ. пром-ть. 1966. 42 с.
- Токарева Г.И. Динамика популяции балтийской трески в связи с особенностями ее биологии и промысла. Автореф. дис. … канд. биол. наук. Калининград. 1967. 23 с.
- Шкицкий В.А., Ноздрин Ю.П. К вопросу о суточных вертикальных миграциях балтийского шпрота (Sprattus sprattus balticus) // Тр. АтлантНИРО. 1969. Вып. 21. С. 133−139.
- Alheit J., Moellmann C., Dutz J. et al. Synchronous ecological regime shifts in the central Baltic and the North Sea in the late 1980s // ICES J. Mar. Sci. 2005. V. 62. P. 1205−1215.
- Apstein C. Die Verbreitung der pelagischen Fischeier und Larven in der Beltsee und den angrenzenden Meeresteilen 1908/09 // Wiss. Meeresunters. N. F. Bd. 13. Abt. Kiel. 1911. S. 225−284.
- ICES. Report of the Baltic Fisheries Assessment Working Group (WGBFAS). 3−10 April 2014, ICES HQ, Copengagen, Denmark. 2014. ICES CM 2014 /ACOM:10. 919 p.
- Kändler R. Die Häufigkeit pelagischer Fischeier in der Ostsee als Masstab für die Zu- und Abnahme der Fischbeständ // Kiel. Meeresforsch. 1949. № 6. P. 73–89.
- Köster F.W., Huver B., Hinrichsen H.-H. et al. Eastern Baltic cod recruitment revisited – dynamics and impacting factors // ICES J. Mar. Sci. 2017. V. 74. № 1. P. 3−19.
- Mankowski W. Badania makroplanktonu poludniowego Baltiku w latach 1952–1955 // Prace MIR w Gdyni. 1959. № 10/A. P. 69–131.
- Mohrholz V., Naumann M., Nausch G. et al. Fresh oxygen for the Baltic Sea – an exceptional saline inflow after a decade of stagnation // J. Mar. Syst. 2015. V. 148. P. 152−166.
- Voss R., Clemmesen C., Baumann H., Hinrichsen H.-H. Baltic sprat larvae: coupling food availability, larval condition and survival // Mar. Ecol.: Prog. Ser. 2006. V. 308. P. 243−254.
Supplementary files