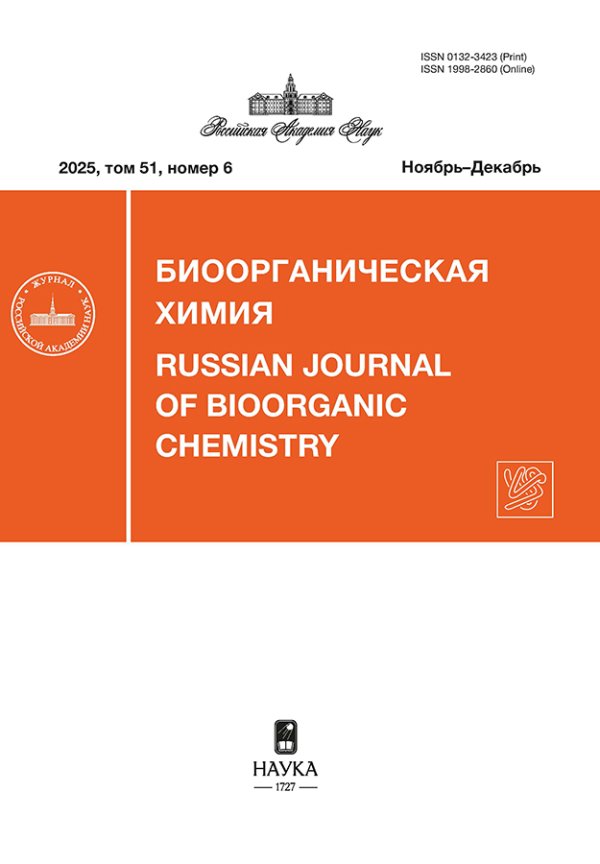Architectonics of Ubiquitin Chains
- Authors: Ivanova K.A.1, Belogurov A.A.1, Kudriaeva A.A.1
-
Affiliations:
- Shemyakin–Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 50, No 4 (2024)
- Pages: 379-397
- Section: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/0132-3423/article/view/267305
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132342324040038
- EDN: https://elibrary.ru/MXJACY
- ID: 267305
Cite item
Full Text
Abstract
Ubiquitination, one of the most common posttranslational modifications of proteins, has a significant impact on its functions, such as stability, activity and cellular localization. Disorders in the processes of ubiquitination and deubiquitination are associated with various oncological and neurodegenerative diseases. The complexity of ubiquitin signaling – monoubiquitination and polyubiquitination with different lengths and types of interconnections between ubiquitins – determines their versatility and ability to regulate hundreds of different cellular processes. Advanced biochemical, mass spectrometric and computational methods are required for in-depth understanding of the mechanisms of assembly and disassembly, detection of ubiquitin chains and their signal transmission. Recent scientific achievements make it possible to identify the ubiquitination of proteins and the structure of ubiquitin chains, however, there are still a considerable number of unresolved issues in this area. Current review claims for a detailed analysis of the current understanding of the architectonics of the ubiquitin chains.
Full Text
Сокращения: Ub – убиквитин; APC/C – убиквитинлигаза; ЖХ – жидкостная хроматография; МС – масс-спектрометрия.
1. ВВЕДЕНИЕ
Убиквитин (Ub) – небольшой (~8 кДа) сигнальный белок, играющий центральную роль во многих клеточных процессах, включая деградацию белков [1, 2], активацию сигнальных путей и репарацию ДНК [3, 4]. Известно до 14 различных семейств убиквитина и убиквитин-подобных белков, различающихся по аминокислотной последовательности, но имеющих характерную пространственную структуру.
Рис. 1. (а) – В данной методике используется введение мутаций в убиквитин с последующим нанесением на ПААГ и масс-спектрометрией для выявления образования разветвленных цепей (табл. 1); (б) – представлен вариант обнаружения убиквитиновых цепей при помощи присоединенных эпитопной метки и сайта расщепления с последующей обработкой протеазой и иммуноблоттингом (табл. 1); (в) – показана схема метода иммунопреципитации, в котором присутствие разветвленных цепей детектируется последовательным иммуноблоттингом, ЖХ и МС (табл. 1).
Убиквитин прикрепляется к белку-мишени с помощью последовательных действий представительного семейства ферментов. Ковалентное присоединение убиквитина к субстратам осуществляется при помощи системы, состоящей из трех ферментов: активирующей убиквитин E1-лигазы, конъюгирующей E2-лигазы и убиквитинлигазы E3. Существует множество способов модификации белков убиквитином, из которых выделяют моноубиквитинирование (одного или нескольких сайтов), а также полиубиквитинирование с разными параметрами связи и длинами убиквитиновых цепей. ε-Аминогруппы семи остатков лизина K6, K11, K27, K29, K33, K48 и K63, входящих в состав убиквитина, позволяют ему образовывать изопептидные связи между карбоксильной группой С-концевого остатка глицина одной молекулы убиквитина и аминогруппой другой молекулы убиквитина, которая, в свою очередь, связана с белком-субстратом посредством С-концевого остатка глицина G76 [5]. Параметры цепей крайне разнообразны: они могут быть как гомогенными или гомотипическими (т.е. образовывать связи через остатки лизинов в строго определенном положении), так и гетерогенными или гетеротипическими (комбинировать разные типы связей); последние, в свою очередь, могут разветвляться посредством убиквитинирования сразу по нескольким сайтам (разветвленные цепи) [6]. Считается, что значение сигнала убиквитинирования зависит от типа связи и длины убиквитиновой цепи. Так, классическое представление состоит в том, что цепи, образованные через остаток лизина K48, обычно маркируют белки, предназначенные для деградации в протеасоме, в то время как цепи, образованные связью через остаток лизина К63, играют ключевую роль в координации процессов направленного эндоцитоза, воспаления, трансляции и репарации ДНК. Если физиологические функции были охарактеризованы для некоторых гомотипических убиквитиновых цепей [7], то гетеротипические цепи остаются практически неизученными. Существование и физиологическая роль большей части гетеротипических комбинаций – до сих пор открытый вопрос. В основном это связано с тем, что на несмотря на довольно широкий репертуар методов, используемых для изучения убиквитиновых цепей [7], ввиду большой сложности объекта исследования очень затруднительно корректно интерпретировать получаемые результаты.
В данном обзоре рассмотрены используемые в настоящий момент методы изучения убиквитиновых цепей, их характеристики и ограничения, а также особенности функционирования как описанных, так и пока мало изученных гомо- и гетеротипических цепей.
2. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ УБИКВИТИНОВЫХ ЦЕПЕЙ
Традиционно убиквитинирование белков – процесс, важный для регуляции клеточных функций, – исследовали биохимическими методами, в первую очередь, используя иммуноблоттинг с антителами к убиквитину. Этот метод наиболее распространен для обнаружения и подтверждения убиквитинирования отдельных белков. Однако иммуноблоттинг – аналитически сложный метод, что ограничивает его применимость для полного профилирования убиквитинирования белков. С развитием масс-спектрометрических подходов все чаще используются протеомные методы для профилирования убиквитинирования. Для повышения чувствительности идентификации убиквитинированных белков осуществляют их обогащение из лизатов клеток. Для этого присоединяют к убиквитину различные эпитопные (Flag, HA, V5, Myc, Strep и His) или белковые метки (GST, MBP, SUMO, CBP, Halo, Nus A и FATT) (рис. 1) [8]. C помощью этого метода было обнаружено значительное число сайтов убиквитинирования на различных субстратах [9, 10].
Несмотря на то что данный подход довольно прост и удобен, он имеет довольно низкую эффективность и высокий уровень “шума”, поэтому большее внимание привлекают подходы, позволяющие обогащать эндогенные убиквитинированные белки.
Для профилирования эндогенно убиквитинированных субстратов было разработано несколько типов антител к убиквитину, способных распознавать все типы связей [11]. Помимо антител к тотальному убиквитину используют антитела, специфичные к определенным типам связей (M1/ K11/K27/K48/K63) [12]. Этот подход успешно применяется для характеристики убиквитинирования белков из тканей животных или клинических образцов без необходимости генетических манипуляций.
Рис. 2. (а) – В данной методике к образцу с субстратом добавляют деубиквитиназы, в результате чего происходит отщепление убиквитиновых цепей от субстрата с последующей их визуализацией методом масс-спектрометрии; (б–г) – представлены варианты масс-спектрометрических подходов, в которых использовано расщепление трипсином (б, в) и разделение убиквитиновых цепей в зависимости от их способа ветвления (б–г) (табл. 1). Частично заимствовано из работ [19], [82], [90–94].
Помимо антител используются белки, содержащие убиквитин-связывающие домены, которые распознают убиквитин, что также может быть использовано для связывания и обогащения эндогенно убиквитинированных белков [13, 14] (рис. 2, табл. 1). Тандемно повторяющиеся убиквитин-связывающие домены (TUBEs) продемонстрировали значительно более высокую аффинность (наномолярные концентрации), чем одиночные домены [14, 15]. Были разработаны TUBEs для специфических связей K63, K48 и M1 [15, 16].
Кроме того, используются методы, включающие в себя введение радиоактивных изотопов для отслеживания образования разветвленных цепей (рис. 3) (табл. 1).
Рис. 3. (а) – В данной методике происходит убиквитинирование радиоактивно меченым убиквитином с последующим нанесением на ПААГ, вырезанием из геля, обработкой трипсином и разделением на масс-спектрометрии в соответствии с изотопным составом; (б) – представлена комбинация методов ЖХ и тандемной-масс-спектрометрии, в результате которой становится возможной идентификация убиквитиновых цепей; (в) – в этом случае к флуоресцентно меченым убиквитиновым цепям присоединяется белковая метка GST, впоследствии пробу наносят на ПААГ и выявляют флуоресцентным сканированием (табл. 1). Частично заимствовано из работы [95].
Важно отметить, что убиквитинирование можно изучать и при помощи баз данных, таких как SCUD и UbiProt [17].
Цепи убиквитина с различной топологией регулируют стабильность белка, белок-белковое взаимодействие или локализацию белка в эукариотических клетках и, таким образом, играют важную роль в многофункциональных сигналах [18]. Рассмотренные выше подходы в основном обнаруживают убиквитинированные субстраты и сайты убиквитинирования, но не способны определить архитектуру цепей. Существует несколько возможностей детекции архитектуры цепей, например, для идентификации различных топологий используют специфические антитела или TUBEs [8].
Рис. 4. (а) – Схема методики PRIME, примененной в работе Kudriaeva et al. [7]. Показана синхронная экспрессия резоруфин-лигазы и белка интереса, а также обработка клеток резоруфином; (б) – схема профилирования стабильности убиквитина у млекопитающих [7]. Стабильные линии клеток HEK293T с одновременной экспрессией вариантов LAP-UbK0 с заменой R на K и TagBFP-LplA(AAG), смешанные в равном соотношении, обрабатывали резоруфином, инкубировали с DMSO или ингибитором протеасомы в течение 2 ч и далее фракционировали с применением проточной цитометрии. Фракции клеток с разным соотношением флуоресценции TagBFP и резоруфина подвергали ПЦР для амплификации геномного кластера, кодирующего соответствующий вариант убиквитина, и далее NGS-секвенированию. Показан график зависимости распространенности вариантов убиквитина от их стабильности. Сокращения: гДНК – геномная ДНК.
Важное значение для определения параметров круговорота Ub имеет работа Kudriaeva et al. (2021) (рис. 4) [7]. В ней авторы использовали лентивирусные конструкции, обеспечивающие синхронную экспрессию ZsGreen и модифицированной липоатлигазы LpIA (AAG), конъюгирующей к ε-аминогруппе лизина в составе LAP пептида флуорофор резоруфин. В результате анализа флуоресценции клеток HEK293T, экспрессирующих LAP-Ub и ZsGreen-LpIA (AAG), было установлено, что время полужизни убиквитина в клетках млекопитающих составляет τ1/2 ~ 4 ч. Динамическое равновесие между процессами убиквитинирования и деубиквитинирования соответствовало 6–7 молекулам Ub на субстрат. Отношение флуоресценции ZsGreen и резоруфина позволило определить стабильность вариантов Ub. Так, стабильность снижалась в ряду WT > R27K > > R29K > R33K > R6K > R11K > R63K > R48K > > UbK0VV. Профилирование стабильности вариантов Ub методом FACS выявило, что аминокислотный остаток K27 обеспечивает стабильность всей молекулы Ub. Анализ полученных данных показал, что только каждый четвертый захват полиубиквитинового субстрата приводит к потере одной молекулы убиквитина из состава всей цепи, и что каждая молекула Ub принимает участие в среднем в 16 циклах конъюгации, каждые 15 мин включаясь в новые цепи.
Подробное описание методов, позволяющих изучать гетеротипические цепи, представлено в табл. 1.
Таблица 1. Методы изучения разветвленных цепей
Метод | Достоинства | Недостатки | Ссылки |
Вставка сайта расщепления TEV после Gly53, Glu64 и FLAG-эпитопа с последующим иммуноблоттингом | – Позволяет отслеживать образование разветвленных убиквитиновых цепей in vivo, в отличие от масс-спектрометрии – Выяснено, что APC/C, Ube2C и Ube2S присоединяют к субстратам разветвленные цепи | – Изменение поверхностных свойств белка и нарушение его способности формировать цепи – Только качественная идентификация – Возможны артефакты | |
Масс-спектрометрия “bottom-up” Варианты: 1) обработка трипсином с последующей ЖХ-МС 2) к лизатам клеток добавляли антитела, специфичные к определенным связям между убиквитинами, (иммунопреципитация), затем наносили на гель-электрофорез и окрашивали по Кумасси, далее вырезали фрагменты и обрабатывали трипсином, затем МС 3) аффинная хроматография, обработка трипсином, затем МС 4) иммунопреципитация, обработка трипсином и MС-MС 5) нанесение на гель-электрофорез, обработка трипсином, затем Ub-AQUA (изотопно меченые распознаваемые пептиды (signature peptides (AQUA peptides)) для восьми типов связей добавляют к образцам в качестве внутренних стандартов), ЖХ-МС, мониторинг параллельных реакций (parallel reaction monitoring (PRM)) 6) мутация R54A, нанесение на гель-электрофорез, обработка трипсином, затем Ub-AQUA (изотопно меченые распознаваемые пептиды (signature peptides (AQUA peptides)) для восьми типов связей добавляются к образцам в качестве внутренних стандартов), ЖХ-МС, PRM 7) + TR-TUBE, обработка трипсином, Ub-AQUA/PRM | – Были обнаружены цепи K6/K11, K27/K29, K29/K33 и K48/K63 (после модификации Ub c мутацией Arg54) – К преимуществам геля относятся эффективная денатурация белков, удаление несовместимых с МС солей и хаотропов – Возможно обнаружение разветвленных K48/K63-цепей и отделение их от K48- и K63-цепей – Позволяет одновременно детектировать все восемь типов связей и определять их стехиометрию – Достоинства PRM: высокая чувствительность и точность – Позволяет избежать неспецифической адсорбции гидрофобных пептидов – Можно определить K48/K63-, K48- и K63-цепи | – Не позволяет выявлять цепи с аминокислотными остатками лизина, расположенными непоследовательно, по причине ферментативного гидролиза и исчезновения разветвленного пептида – Неточное вырезание из геля может приводить к ошибкам (введение небольшого количества Ub из других дорожек) – Невозможно детектировать разветвленные цепи кроме тех, в которых ветви расположены на соседних лизинах (K6/K11, K11/K27 и K27/K29) – Не удается определить K48/K63-цепи из-за R54А – Адсорбция образцов из-за высокой гидрофобности разветвленных K48/63- и K63-цепей – Метод фокусируется на составе связей и не позволяет определить архитектуру высокого порядка: для регистрации остальных разветвленных полимеров (кроме K48/K63) необходимо ввести еще больше мутаций, что приведет к увеличению размеров полимера и затруднит идентификацию [21, 22] | [9, 23–26] |
UbiCRest Варианты: 1) обработка деубиквитиназой Trabid 2) предварительная иммунопреципитация cIAP1, затем добавление деубиквитиназ: сконструированных K48-специфичной OTUB1* и K63-специфичной AMSH*, а также pan-DUB Usp2cc, затем МС | – Позволяет выяснять порядок образования связей на цепях – Гидролиз связей K29 доказал их присутствие – Обнаружено, что K63-цепи расположены проксимальнее к cIAP1, и на их основе происходит конъюгация с K11- и K48-цепями – Обнаружено, что K48-цепи – самые дистальные | – Требует оптимизации эксперимента, экспертной оценки специалиста, позволяет обнаружить ограниченное количество вариантов цепей [27] – Ограничение способа заключается в том, что полимеры могут изменить структуру после добавления деубиквитиназ [19] | [23, 28, 29] |
Иммунопреципитация Варианты: 1) + PRM 2) иммунопреципитация белка cIAP1, активированного LCL-161, далее ЖХ-МС, затем PRM 3) + K11/K48-специфичное антитело + убиквитин-специфичная пептидаза 2 (USP2) 4) поверхностный плазмонный резонанс (SPR) + K11/K48 биспецифичное антитело, иммуноблоттинг + убиквитинлигаза APC/C, убиквитин-конъюгирующие ферменты UBE2C, UBE2S | – Подтверждено, что K48-цепи собирает CRL2VHL – Выявлено, что к cIAP1 прикреплены K11-, K48- и K63-цепи – Показано, что после ингибирования протеасомы белок C9orf72 модифицируется K11/K48-цепями – Обнаружено, что после добавления деубиквитиназы K11/K48-цепи отщепляются – Антитела продемонстрировали более высокую аффинность к разветвленным K11/K48-цепям, чем к гомотипическим – Выяснено, что APC/C собирает K11/K48-цепи in vitro | – Низкий выход и кросс-специфичность антител – Получаются смеси убиквитина и конъюгатов убиквитина, с низкой эффективностью разделяемые обращенно-фазовой ЖХ | [28–32] |
Ub-clipping (масс-спектрометрия “middle-down”) Варианты: 1) + TUBE, потом + протеаза Lbpro, затем растворение трипсином в геле, далее AQUA МС 2) синтез стандартов K48/K63, K11/K63 и K11/K48 3) обработка трипсином, МС, диссоциация при переносе электронов (electron transfer dissociation (ETD)) | – Упрощенное определение структуры за счет C-концевого мотива GG – Подтверждено, что убиквитинлигаза TRIP12 рекрутируется к белку BRD4 посредством комплекса CRL2VHL и добавляет гетеротипические K29-связи, что способствует ветвлению при помощи K48-связей с участием CRL2VHL – Обнаружено, что K11- и K48-цепи конъюгированы с K63-связанными цепями (самыми проксимальными), и разветвленные цепи включают связи K11/K48, K48/K63 и, возможно, K11/K63 – Возможно определить ветвление цепей – Выяснено, что убиквитинлигаза NleL создает K6/K48-разветвления, убиквитин-конъюгирующие ферменты UBE2S и UBE2R1 образуют K11/K48-ветви, убиквитин-конъюгирующие ферменты UBE2N/UBE2V2 с UBE2R1 формируют K48/K63-бифуркации | Не позволяет определить разветвленный Ub [1] | [26–29, 33] |
Масс-спектрометрия “top-down” ЖХ-МС, ETD, ProSight Lite, кислотный гидролиз при помощи микроволн (microwave-supported acid cleavage) | Возможно точное определение архитектуры разветвленных цепей | Требуется оптимизация метода [34] | |
Изотопно-разрешенная масс-спектрометрия пептидов Этапы: 1) добавление субстратов diUb, затем убиквитинирование K48-цепями, нанесение на денатурирующий гель-электрофорез, далее визуализация 2) мечение проксимального убиквитина 15N и дистального 14N, убиквитинирование, SDS-PAGE, вырезание из геля, обработка трипсином, МС | – Не требует флуоресцентных меток или замен в ферментах или субстратах, не вызывает возмущений в биологической системе во время эксперимента – Позволяет определить, как синтезируются цепи и с какой скоростью – Выявлено, что предпочтительный субстрат для E2-25K – цепи K63-diUb – Выяснено, что предпочтительнее образуются разветвленные K48/K63-цепи, смешанные K29/K48-цепи и одинаковые количества разветвленных и смешанных K27/K48-цепей | Невозможно разделить смешанные или разветвленные цепи | [1] |
UbiChEM-MS – 1-й вариант Этапы: 1) + TUBE/NZF1, минимальный трипсинолиз, обращенно-фазовая ЖХ, МС 2) + ингибитор протеасомы MG132,+ тандемные убиквитин-связывающие домены (TUBE) 3) + ингибитор протеасомы MG132,+ белок NZF1 4) ETD 5) UbiCRest, + деубиквитиназа TRABID, + деубиквитиназа OTUB1, + деубиквитиназа USP15, WB | – Позволяет обнаруживать цепи, которые не идентифицируются масс-спектрометрией “bottom-up”, и отслеживать их динамику – Возможна идентификация ветвления эндогенных цепей – Разделяет линейные и разветвленные цепи – Использует DUB с разной селективностью для определения архитектуры цепей – Добавление TUBE позволяет выделить цепи с высокой молекулярной массой. Выяснено, что 57% of Ub1–74 существует в виде monoUb, 41% – GGUb1–74, 2% – 2×GGUb1–74 – Разветвленные цепи накапливаются, а значит, участвуют в протеасомной деградации – Выяснено, что цепи, обогащенные NZF-доменом, не участвуют в протеасомной деградации – Выявлены остатки Gly-Gly на K29- и K48-цепях – Обнаружено, что NZF1-обогащенные цепи содержат K29- и K48-связи | – | [36] |
UbiChEM-MS – 2-й вариант + связь-специфичные антитела к K11, WB, минимальный трипсинолиз, масс-спектрометрия “middle-down” высокого разрешения, ETD- фрагментация | – Показано, что в асинхронно растущих клетках HEK293 содержится 72–78% Ub1–74, 21–26% GGUb1–74, ~1% 2×GGUb1–74 – Обнаружено, что разветвленные цепи накапливаются после остановки митоза – Выявлено, что цепи K11/K48 образуются циклозависимо | – | [2] |
Микроскопический термофорез | – Показано, что UCH37(C88S)–RPN13C имеет самую высокую аффинность к [Ub]2–6,48Ub | Невозможно измерить белок-белковые взаимодействия [37] | [38] |
ЖХ, тандемная масс-спектрометрия | Возможно прямое и эффективное определение конъюгатов убиквитина и убиквитиновых цепей | Возможны “изобарные” интерференции, “эффект супрессии иона” [39] | [30] |
Мутанты Ub Варианты: 1) мутанты Ub (K11R), ubiK11, масс-спектрометрия 2) мутанты K48R, R42A, + белок Ubc1 | – Выявлено, что в присутствии мутантных форм убиквитинирование киназы Nek2A с помощью Ube2S не происходит – Обнаружено, что убиквитин-конъюгирующий фермент Ube2S образует разветвленные цепи – Показано, что APC/C прикрепляет связи K11, K48 и K63 к Nek2A – Установлено, что UBA-домен Ubc1 связывается с дистальным фрагментом K63-Ub2, чтобы совместить UBC-домен с проксимальным Ub, тем самым способствуя образованию разветвленных цепей K48/K63 | Применение ограничено системами in vitro [3] | [20, 40] |
Добавление GST-слитных белков к флуоресцентно-меченым K48- и K63-цепям, SDS-PAGE, флуоресцентное сканирование | Показано, что K63-цепи связываются сильнее с UBA-доменом Ubc1 | Фотообесцвечивание и аутофлуоресценция | [4] |
Примечание: UbiCRest – рестрикция убиквитиновых цепей (Ubiquitin Chain Restriction); UbiChEM-MS – масс-спектрометрия “middle-down”-обогащения убиквитиновых цепей (Ubiquitin Chain Enrichment Middle-down Mass Spectrometry).
3. ФУНКЦИИ УБИКВИТИНОВЫХ ЦЕПЕЙ
3.1. K6-цепи
Известно, что цепи K6 (рис. 5) регулируют митофагию [28, 41–43].
Рис. 5. Кристаллическая структура K6-связанного диубиквитина как пример гомотипических цепей K6 (PDB: 2XK5). Показана изопептидная связь между остатком K6 проксимального убиквитина и C-концом аксиального.
Интересно, что на лишенных природного убиквитина клетках U2OS, в которые был введен экзогенный убиквитин, было показано, что у популяций клеток с заменой на аргинин K6 или K63 наблюдается задержка митофагии. Кроме того, методом протеомики AQUA рассчитано, что во время деполяризации митохондрий происходит шестикратное увеличение содержания K6-, K11-, K48- и K63-связанных полиубиквитинов, образованных при участии убиквитинлигазы Parkin. Деубиквитиназа USP30 избирательно удаляет цепи K6 и K11 с белков внешней мембраны митохондрий. Другой аналогичный фермент, USP8, удаляет полиубиквитины, связанные через K6, с Parkin, и препятствует аутоубиквитинированию Parkin, что говорит о роли данных форм убиквитина в контроле качества митохондрий [42]. Помимо этого выявлено, что численность K6-связанных цепей не растет при ингибировании протеасомы [44, 45]. Считается, что полимеры с данным типом связи участвуют в репарации ДНК, осуществляемой при помощи фермента E3 BRCA1–BARD1. Под воздействием УФ-лучей содержание K6- и K33-связанных цепей возрастает [46].
3.2. K11-цепи
Рис. 6. Кристаллическая структура K11-связанного диубиквитина как пример гомотипических цепей K11 (PDB: 2MBQ). Показана изопептидная связь между остатком K11 аксиального убиквитина и C-концом проксимального.
Цепи K11 (рис. 6) способствуют протеасомному гидролизу субстратов и завершению митоза [23, 47]. Так, количество подобных полиубиквитинов возрастает во время деятельности убиквитинлигазы APC/C в течение митоза [48]. Также цепи K11 регулируют прогрессию клеточного цикла, способствуя деградации его медиаторов [49]. K11-цепи не только регулируют прохождение клеточного цикла, но и участвуют в клеточном ответе на гипоксию [47]. Функция данных форм во врожденном иммунитете иллюстрируется деградацией факторов, ответственных за это явление [50]. Так, белок STING под действием присоединенных K11-цепей продолжает функционировать в клетке [50]. После этого запускается активация интерферонов I типа и провоспалительных цитокинов [51]. Считается, что убиквитинлигаза RNF26, прикрепляющая к субстратам K11-полиубиквитины, регулирует метаболизм интерферонов I типа, и что данный процесс протекает времязависимо [50]. Кроме того, известно, что K11- и K48-формы, модифицирующие белок Beclin-1, регулируют протеолиз [52]. Более того, убиквитинирование данного белка K11-цепями противодействует аутофагии и способствует реакции интерферонов I типа после гидролиза белка Beclin-1.
3.3. K27-цепи
Рис. 7. Кристаллическая структура K27-связанного диубиквитина (PDB: 5J8P) как пример гомотипических цепей K27. Показаны остаток K27 аксиального убиквитина и C-конец проксимального.
Методом масс-спектрометрии с множественным мониторингом реакций обнаружено, что K27-связанные конъюгаты (рис. 7) присоединяются к гистону H2A, и что данная разновидность цепей преобладает на хроматине во время повреждения ДНК [47, 53].
Благодаря гомотипическим цепям K27 к месту повреждения ДНК направляются такие белки репарации, как 53BP1, Rap80, RNF169 и RNF168 [53]. Аналогично отсутствие K27-соединенных полиубиквитинов на гистонах H2A и H2A.X препятствует ответу на повреждение ДНК, поскольку его медиаторы (53BP1, Rap80, RNF168 и RNF169) не получают убиквитиновый сигнал для начала ответной реакции [53]. Кроме того, убиквитинирование TRIM23 вышеупомянутыми цепями приводит к повышению активности TBK1 и, в свою очередь, к фосфорилированию p62 и аутофагии при появлении в клетке вирусных ДНК и РНК [54]. Любопытно, что аналогичный фермент TRIM26 тоже модифицируется вышеуказанными цепями при запуске сигнального пути RLR и после фосфорилирования данной убиквитинлигазы при помощи TBK1 [50]. Впоследствии белок NEMO связывается с K27-полимерами на убиквитинлигазе TRIM26, что повышает экспрессию провоспалительных цитокинов, интерферонов I типа и интерферон-стимулированных генов (ISGs) [5]. Опубликованы данные об участии подобных полимеров в иммунном ответе на экзогенную ДНК микроорганизмов [55]. Так, STING подвергается убиквитинированию K27-связанными формами при помощи белка AMFR, что повышает активность серин-треониновой протеинкиназы TBK1, что, в свою очередь, дает возможность фактору транскрипции IRF-3 фосфорилироваться и запустить экспрессию интерферонов I типа [55]. Появились сообщения и о том, что присоединение K27-цепей к NEMO активирует каскад RLR, транскрипционный фактор NF-κB и IRF3 [6]. Предполагается, что белки, ответственные за врожденный иммунитет, такие как Rhbdd3, прикрепляются к полиубиквитинам на белке NEMO [7]. После этого K27-полимеры образуются на Rhbdd3, и к ним приближается деубиквитиназа A20, которая расщепляет цепи K63 на NEMO, что ослабляет сигналинг NF-κB [7]. Таким образом, Rhbdd3 регулирует деятельность дендритных клеток и препятствует развитию Th17-клеточного колита на мышиной модели [8]. Обнаружено, что благодаря убиквитинлигазе TRIM40 происходит убиквитинирование цепями K27 и K48 рецептора опознавания паттерна RIG-I и RIG-I-подобного рецептора MDA5, что приводит к протеолизу данных субстратов [56]. Также выяснено, что к белку MAVS присоединяются цепи K27 при участии убиквитинлигазы TRIM21 [57, 58]. Аналогичную функцию выполняет E3-фермент MARCH8 [59]. Сходным действием обладает и убиквитинлигаза RNF34, убиквитинирующая MAVS цепями K27 и K29 [60]. Известно, что K27-полиубиквитины задействованы в реакции иммунной системы на ДНК-вирусы или бактерии рода Listeria [61, 62]. Описано и совместное действие гомотипических цепей в клетке. Так, предполагается, что K27- и K63-формы запускают каскад TAK1 [10]. Установлено, что K27- и K33-цепи участвуют в реакции на стресс [63].
3.4. K29-цепи
Цепи K29 (рис. 8) участвуют в протеолитической деградации [23].
Рис. 8. Кристаллическая структура K29-связанного диубиквитина (PDB: 4S22) как пример гомотипических цепей K29. Показаны остаток K29 аксиального убиквитина и C-конец проксимального.
Выявлено, что гомотипические цепи K29 представляют собой наиболее многочисленный вид полимеров с нестандартной архитектурой [64–66]. Например, есть данные о том, что убиквитинлигаза Smurf1 присоединяет гомотипические K29-цепи к белку Axin [11]. Подобная посттрансляционная модификация препятствует связыванию Axin с корецепторами Wnt LRP5 и LRP6 (LRP5/6), что нарушает присоединение фосфатов к LRP6 и способствует подавлению каскада Wnt/β-катенин [67]. Кроме того, известно, что деубиквитиназа Trabid, ассоциированная с сигналингом выше, отщепляет полиубиквитины c K29- и K33-связями [65, 68–71]. Считается, что данная E3 осуществляет взаимодействие и отщепляет убиквитины с APC [72]. Синтез гомотипических цепей K29 и K48 осуществляется при помощи фермента E3 UBE3c/Hul5 [73]. Отщепление первых цепей происходит благодаря домену OTU деубиквитиназы TRABID [74]. Имеются данные о том, что убиквитинлигаза TRIP12 в одиночку формирует K29-связанные убиквитиновые цепи [28]. Это было подтверждено методом замены лизина на аргинин в мутантных формах убиквитина [28].
3.5. K33-цепи
Поскольку данные цепи (рис. 9) не накапливаются при нарушении работы протеасомы, считается, что они влияют на независимую от протеолиза деятельность клетки [25].
Рис. 9. Кристаллическая структура K33-связанного диубиквитина (PDB: 4XYZ) как пример гомотипических цепей K33. Показана изопептидная связь между остатком K33 аксиального убиквитина и C-концом проксимального.
Синтез K11- и K33-цепей происходит при участии убиквитинлигазы AREL1 [64, 65]. Предполагается, что убиквитинирование данным ферментом белков, способствующих программируемой клеточной гибели (SMAC, HtrA2 и ARTS), предотвращает данный процесс [75]. Обнаружено, что K33-полиубиквитины ингибируют работу Т-клеточного рецептора (TCR) и AMPK-родственных протеинкиназ [12, 13]. Также имеются сведения об участии подобных форм в транспорте белков после аппарата Гольджи [76]. Ранее считалось, что K63-цепи принимают участие в секреции и эндоцитозе, способствуя сортировке белков мембраны [47]. Теперь выяснено, что фермент E3 Cul3–KLHL20 добавляет K33-формы к коронину-7 (Crn7) [47]. Полученный конъюгат взаимодействует с белком Eps15, что направляет его в транс-Гольджи на связывание с F-актином и подавляет его деполимеризацию [47].
3.6. K48-цепи
Считается, что чаще всего встречается именно этот тип цепей (рис. 10), отвечающих за направление на деградацию белков протеасомой [23, 77].
Рис. 10. Кристаллическая структура K48-связанного диубиквитина (PDB: 3AUL) как пример гомотипических цепей K48. Показаны остаток K48 аксиального убиквитина и C-конец проксимального.
Выявлено, что K48- и K63-полиубиквитины контролируют врожденный иммунитет против вирусных инфекций [50]. Методом иммунопреципитации определено, что с белком BRD4 в присутствии PROTAC MZ1 преимущественно связываются K48-цепи [14].
Циклические формы K48-цепей образуются при участии убиквитин-конъюгирующего фермента E2-25K [78]. Несмотря на конформационные ограничения, подобные цепи могут взаимодействовать с рядом белков [78]. Выявлено, что сложнее гидролизовать деубиквитиназой циклический диубиквитин, чем линейный [78]. По-видимому, при связывании с ферментом OTUB1 у циклического диубиквитина происходит трансформация конформации в более открытую форму, и они начинают взаимодействовать не только I44-патчами, но и соседними участками [78]. Предположительно, рост злокачественных опухолей ассоциирован с транскрипционным фактором p53, к которому прикрепляются цепи K48 [63].
3.7. K63-цепи
K63-формы (рис. 11) содействуют аутофагии, митофагии и утилизации патогенов [77].
Рис. 11. Кристаллическая структура K63-связанного диубиквитина (PDB: 2JF5) как пример гомотипических цепей K63. Показаны остаток K63 аксиального убиквитина и C-конец проксимального.
Вышеупомянутые полимеры также влияют на круговорот белков, эндоцитоз, сборку сигнальных комплексов, репарацию ДНК, иммунный ответ и активность киназ [23, 49, 79–81]. Предполагается, что цепи подобного строения принимают участие в митозе, образовании мРНК, проверке правильности структуры белков и в различных каскадах [32, 82, 83]. Появились свидетельства того, что K63-полиубиквитины взаимодействуют с комплексом ESCRT0 и его составляющими, белками STAM и Hrs [15]. После разрушения структуры на обеих цепях ДНК фермент E3 RNF8, формирующий K63-полимеры на гистоне H1 и белке L3MBTL2, привлекает к месту повреждения белки репарации, такие как 53BP1 и BRCA1 [84, 85]. Таким образом, функционирование убиквитинлигаз RNF8 и RNF168 приводит к убиквитинированию K63-, K48- и K27-цепями областей хроматина с двухцепочечными разрывами ДНК [16, 17]. Выявлено, что специфичность убиквитинлигазы к связям K48 и K63 определяется типом аминокислоты на C-конце HECT-домена [86]. Отмечено, что в отличие от E3, присоединяющих K48- или K63-цепи, на C-конце убиквитинлигазы TRIP12 находится серин [28]. Обнаружено, что присоединенный валин на C-конце данной убиквитинлигазы меняет селективность на K48-цепи [28].
4. ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛИУБИКВИТИНОВЫХ ЦЕПЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ВЕТВЛЕНИЯ
Рис. 12. Разветвленные К11/К48 (PDB: 6OQ1) (а) и К48/К63 цепи (PDB: 7NPO) (б).
Согласно последним данным, разветвленные цепи (рис. 12) составляют 5–20% всех убиквитиновых цепей в клетке [18, 19]. Кроме того, известно, что представленность разветвленных цепей изменяется, реагируя на различные стимулы; например, инфицирование бактериями влияет на содержание разветвленных K6/K48-цепей, образованных при участии NleL [87, 88]. Считается, что M1/K63-цепи ответственны за активацию NF-κB [32]. Разветвленные цепи K48/K63 участвуют в сигналинге NF-κB и собираются адаптерным белком TRAF6 и убиквитинлигазой HUWE1 IL-1β-зависимо [20]. Также они задействованы в каскадах апоптоза [28] и протеасомной деградации [29]. Цепи K29/K48 ускоряют PROTAC-направленную деградацию субстратов и участвуют в протеасомном гидролизе [28, 29]. Кроме того, они контролируют ЭПР-ассоциированную деградацию (ERAD) у млекопитающих и убиквитин-зависимую деградацию (Ub fusion degradation) у дрожжей [28]. Сборка данных цепей осуществляется при помощи убиквитинлигазы TRIP12 и комплекса CRL2VHL [28]. K11/K48-цепи направляют на деградацию субстраты, участвующие в клеточном цикле, экспрессии генов и контроле качества белков, регулируют митоз (при формировании APC/C) [14, 21]. Смешанные цепи K11/K48, вероятно, регулируют репарацию двухцепочечных разрывов ДНК [22]. Выявлено, что белок C9orf72 – субстрат K11/K48-убиквитинирования [31]. Обнаружено, что деубиквитиназа UCH37 предпочтительнее связывается с разветвленными K6/K48-цепями, чем с цепями K11/K48 или K48/K63 [38]. Более того, выяснено, что смешанные цепи Ub–6Ub–48Ub и Ub–48Ub–6Ub почти не деубиквитинируются [38]. Цепи K48/K63 участвуют в ответе на введение IL-1β [22]. K11/K63-цепи, вероятно, участвуют в интернализации рецепторов [36]. Кроме того, считается, что образование смешанных цепей происходит во время эндоцитоза или иммунного ответа [20]. Сообщалось, что разветвленные цепи модифицируют эффекты, вызванные гомотипическими цепями [89].
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Убиквитинирование является одной из наиболее сложных для идентификации и изучения посттрансляционной модификаций из-за сложной структуры – образования цепей различной длины и типов связей, а также динамической регуляции. Конформация убиквитиновой цепи играет важнейшую роль в регуляции функции субстратов в различных физиологических и патологических клеточных процессах. Для идентификации убиквитинирования белка было разработано множество экспериментальных и вычислительных подходов, однако на настоящий момент экспериментальные методы – единственный способ получить представление об архитектуре убиквитиновых цепей. Вместе с тем ни один из существующих методов не может однозначно идентифицировать топологию и длину разветвленных цепей. Таким образом, для понимания архитектуры убиквитиновой цепи, ее точной структуры, а также физиологической функции крайне необходимо развитие новых методологий.
ФОНДОВАЯ ПОДДЕРЖКА
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 21-74-10154).
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Настоящая статья не содержит описания исследований с участием людей или использованием животных в качестве объектов исследования.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
About the authors
K. A. Ivanova
Shemyakin–Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: anna.kudriaeva@ibch.ru
Russian Federation, ul. Miklukho-Maklaya 16/10, Moscow, 117997
A. A. Belogurov
Shemyakin–Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences
Email: alexey.belogurov.jr@gmail.com
Russian Federation, ul. Miklukho-Maklaya 16/10, Moscow, 117997
A. A. Kudriaeva
Shemyakin–Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry, Russian Academy of Sciences
Email: anna.kudriaeva@ibch.ru
Russian Federation, ul. Miklukho-Maklaya 16/10, Moscow, 117997
References
- Kudriaeva A.A., Belogurov A.A. // Biochemistry (Moscow). 2019. V. 84. P. 159–192. https://doi.org/10.1134/S0006297919140104
- Kudriaeva A.A., Sokolov A.V., Belogurov A.A. // Act. Nat. 2020. V. 12. P. 18–32. https://doi.org/10.32607/actanaturae.10936
- Kudriaeva A.A., Lipkin V.M., Belogurov A.A. // Dokl. Biochem. Biophys. 2020. V. 493. P. 193–197. https://doi.org/10.1134/S1607672920040079
- Bacheva A.V., Gotmanova N.N., Belogurov A.A., Kudriaeva A.A. // Biochemistry (Moscow). 2021. V. 86. P. S71–S95. https://doi.org/10.1134/S0006297921140066
- Komander D., Rape M. // Annu. Rev. Biochem. 2012. V. 81. P. 203–229. https://doi.org/10.1146/annurev-biochem-060310170328
- Yau R., Rape M. // Nat. Cell Biol. 2016. V. 18. P. 579– 586. https://doi.org/10.1038/ncb3358
- Kudriaeva A.A., Livneh I., Baranov M.S., Ziganshin R.H., Tupikin A.E., Zaitseva S.O., Kabilov M.R., Ciechanover A., Belogurov A.A. // Cell. Chem. Biol. 2021. V. 28. P. 1192–1205. https://doi.org/10.1016/j.chembiol.2021.02.009
- Huang Q., Zhang X. // Proteomics. 2020. V. 20. P. 1900100. https://doi.org/10.1002/pmic.201900100
- Peng J., Schwartz D., Elias J.E., Thoreen C.C., Cheng D., Marsischky G., Roelofs J., Finley D., Gygi S.P. // Nat. Biotechnol. 2003. V. 21. P. 921–926. https://doi.org/10.1038/nbt849
- Akimov V., Henningsen J., Hallenborg P., Rigbolt K.T.G., Jensen S.S., Nielsen M.M., Kratchmarova I., Blagoev B. // J. Proteome Res. 2014. V. 13. P. 4192–4204. https://doi.org/10.1021/pr500549h
- Denis N.J., Vasilescu J., Lambert J., Smith J.C., Figeys D. // Proteomics. 2007. V. 7. P. 868–874. https://doi.org/10.1002/pmic.200600410
- Newton K., Matsumoto M.L., Wertz I.E., Kirkpatrick D.S., Lill J.R., Tan J., Dugger D., Gordon N., Sidhu S.S., Fellouse F.A., Komuves L., French D.M., Ferrando R.E., Lam C., Compaan D., Yu C., Bosanac I., Hymowitz S.G., Kelley R.F., Dixit V.M. // Cell. 2008. V. 134. P. 668–678. https://doi.org/10.1016/j.cell.2008.07.039
- Hjerpe R., Aillet F., Lopitz-Otsoa F., Lang V., England P., Rodriguez M.S. // EMBO Rep. 2009. V. 10. P. 1250–1258. https://doi.org/10.1038/embor.2009.192
- Xolalpa W., Mata-Cantero L., Aillet F., Rodriguez M.S. // Methods Mol. Biol. 2016. P. 161–175. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-3756-1_8
- Mattern M., Sutherland J., Kadimisetty K., Barrio R., Rodriguez M.S. // Trends Biochem. Sci. 2019. V. 44. P. 599–615. https://doi.org/10.1016/j.tibs.2019.01.011
- Kadimisetty K., Sheets K.J., Gross P.H., Zerr M.J., Ouazia D. // Methods Mol. Biol. 2021. P. 185–202. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-1665-9_10
- He W., Wei L., Zou Q. // Brief. Funct. Genomics. 2019. V. 18. P. 220–229. https://doi.org/10.1093/bfgp/ely039
- Haakonsen D.L., Rape M. // Trends Cell Biol. 2019. V. 29. P. 704–716. https://doi.org/10.1016/j.tcb.2019.06.003
- Hua X., Chu G.-C., Li Y.-M. // Chembiochem. 2020. V. 21. P. 3313–3318. https://doi.org/10.1002/cbic.202000295
- Meyer H.-J., Rape M. // Cell. 2014. V. 157. P. 910–921. https://doi.org/10.1016/j.cell.2014.03.037
- Fricker L.D. // J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2015. V. 26. P. 1981–1991. https://doi.org/10.1007/s13361-015-1231-x
- Kim M.-S., Zhong J., Pandey A. // Proteomics. 2016. V. 16. P. 700–714. https://doi.org/10.1002/pmic.201500355
- Ohtake F., Saeki Y., Ishido S., Kanno J., Tanaka K. // Mol. Cell. 2016. V. 64. P. 251–266. https://doi.org/10.1016/j.molcel.2016.09.014
- Phu L., Izrael-Tomasevic A., Matsumoto M.L., Bustos D., Dynek J.N., Fedorova A.V., Bakalarski C.E., Arnott D., Deshayes K., Dixit V.M., Kelley R.F., Vucic D., Kirkpatrick D.S. // Mol. Cell Proteomics. 2011. V. 10. P. M110.003756. https://doi.org/10.1074/mcp.M110.003756
- Xu P., Duong D.M., Seyfried N.T., Cheng D.., Xie Y., Robert J., Rush J., Hochstrasser M., Finley D., Peng J. // Cell. 2009. V. 137. P. 133–145. https://doi.org/10.1016/j.cell.2009.01.041
- Ohtake F., Tsuchiya H., Tanaka K., Saeki Y. // Methods Enzymol. 2019. V. 618. P. 105–133. https://doi.org/10.1016/bs.mie.2018.12.019
- Swatek K.N., Usher J.L., Kueck A.F., Gladkova C., Mevissen T.E.T., Pruneda J.N., Skern T., Komander D. // Nature. 2019. V. 572. P. 533–537. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1482-y
- Kaiho-Soma A., Akizuki Y., Igarashi K., Endo A., Shoda T., Kawase Y., Demizu Y., Naito M., Saeki Y., Tanaka K., Ohtake F. // Mol. Cell. 2021. V. 81. P. 1411–1424.e7. https://doi.org/10.1016/j.molcel.2021.01.023
- Akizuki Y., Morita M., Mori Y., Kaiho-Soma A., Dixit S., Endo A., Shimogawa M., Hayashi G., Naito M., Okamoto A., Tanaka K., Saeki Y., Ohtake F. // Nat. Chem. Biol. 2023. V. 19. P. 311–322. https://doi.org/10.1038/s41589-022-01178-1
- Geis-Asteggiante L., Lee A.E., Fenselau C. // Methods Enzymol. 2019. V. 626. P. 323–346. https://doi.org/10.1016/bs.mie.2019.06.025
- Jülg J., Edbauer D., Behrends C. // EMBO Rep. 2023. V. 24. P. e55895. https://doi.org/10.15252/embr.202255895
- Yau R.G., Doerner K., Castellanos E.R., Haakonsen D.L., Werner A., Wang N., Yang X.W., Martinez-Martin N., Matsumoto M.L., Dixit V.M., Rape M. // Cell. 2017. V. 171. P. 918–933.e20. https://doi.org/10.1016/j.cell.2017.09.040
- Deol K.K., Crowe S.O., Du J., Bisbee H.A., Guenette R.G., Strieter E.R. // Mol. Cell. 2020. V. 80. P. 796–809.e9. https://doi.org/10.1016/j.molcel.2020.10.017
- Waltho A., Sommer T. // Methods Mol. Biol. 2023. V. 2602. P. 19–38. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-2859-1_2
- Lee A.E., Geis-Asteggiante L., Dixon E.K., Kim Y., Kashyap T.R., Wang Y., Fushman D., Fenselau C. // J. Mass Spectrom. 2016. V. 51. P. 315–321. https://doi.org/10.1002/jms.3759
- Crowe S.O., Rana A.S.J.B., Deol K.K., Ge Y., Strieter E.R. // Anal. Chem. 2017. V. 89. P. 4428–4434. https://doi.org/10.1021/acs.analchem.6b03675
- Sparks R.P., Fratti R. // Methods Mol. Biol. 2019. V. 1860. P. 191–198. https://doi.org/10.1007/978-1-4939-8760-3_11
- Song A., Hazlett Z., Abeykoon D., Dortch J., Dillon A., Curtiss J., Martinez S.B., Hill C.P., Yu C., Huang L., Fushman D., Cohen R.E., Yao T. // Elife. 2021. V. 10. P. e72798. https://doi.org/10.7554/eLife.72798
- Seger C. // Wien. Med. Wochenschr. 2012. V. 162. P. 499–504. https://doi.org/10.1007/s10354-012-0147-3
- Pluska L., Jarosch E., Zauber H., Kniss A., Waltho A., Bagola K., von Delbrück M., Löhr F., Schulman B.A., Selbach M., Dötsch V., Sommer T. // EMBO J. 2021. V. 40. P. e106094. https://doi.org/10.15252/embj.2020106094
- Ordureau A., Sarraf S.A., Duda D.M., Heo J.-M., Jedrychowski M.P., Sviderskiy V.O., Olszewski J.L., Koerber J.T., Xie T., Beausoleil S.A., Wells J.A., Gygi S.P., Schulman B.A., Harper J.W. // Mol. Cell. 2014. V. 56. P. 360–375. https://doi.org/10.1016/j.molcel.2014.09.007
- Durcan T.M., Tang M.Y., Pérusse J.R., Dashti E.A., Aguileta M.A., McLelland G.-L., Gros P., Shaler T.A., Faubert D., Coulombe B., Fon E.A. // EMBO J. 2014. V. 33. P. 2473–2491. https://doi.org/10.15252/embj.201489729
- Cunningham C.N., Baughman J.M., Phu L., Tea J.S., Yu C., Coons M., Kirkpatrick D.S., Bingol B., Corn J.E. // Nat. Cell Biol. 2015. V. 17. P. 160–169. https://doi.org/10.1038/ncb3097
- Kim W., Bennett E.J., Huttlin E.L., Guo A., Li J., Possemato A., Sowa M.E., Rad R., Rush J., Comb M.J., Harper J.W., Gygi S.P. // Mol. Cell. 2011. V. 44. P. 325– 340. https://doi.org/10.1016/j.molcel.2011.08.025
- Wagner S.A., Beli P., Weinert B.T., Nielsen M.L., Cox J., Mann M., Choudhary C. // Mol. Cell Proteomics. 2011. V. 10. P. M111.013284. https://doi.org/10.1074/mcp.M111.013284
- Elia A.E.H., Boardman A.P., Wang D.C., Huttlin E.L., Everley R.A., Dephoure N., Zhou C., Koren I., Gygi S.P., Elledge S.J. // Mol. Cell. 2015. V. 59. P. 867– 881. https://doi.org/10.1016/j.molcel.2015.05.006
- Akutsu M., Dikic I., Bremm A. // J. Cell Sci. 2016. V. 129. P. 875–880. https://doi.org/10.1242/jcs.183954
- Matsumoto M.L., Wickliffe K.E., Dong K.C., Yu C., Bosanac I., Bustos D., Phu L., Kirkpatrick D.S., Hymowitz S.G., Rape M., Kelley R.F., Dixit V.M. // Mol. Cell. 2010. V. 39. P. 477–484. https://doi.org/10.1016/j.molcel.2010.07.001
- Rana A.S.J.B., Ge Y., Strieter E.R. // J. Proteome Res. 2017. V. 16. P. 3363–3369. https://doi.org/10.1021/acs.jproteome.7b00381
- van Huizen M., Kikkert M. // Front. Cell Dev. Biol. 2020. V. 7. P. 1–8. https://doi.org/10.3389/fcell.2019.00392
- Qin Y., Zhou M.-T., Hu M.-M., Hu Y.-H., Zhang J., Guo L., Zhong B., Shu H.-B. // PLoS Pathog. 2014. V. 10. P. e1004358. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1004358
- Jin S., Tian S., Chen Y., Zhang C., Xie W., Xia X., Cui J., Wang R.-F. // EMBO J. 2016. V. 35. P. 866–880. https://doi.org/10.15252/embj.201593596
- Gatti M., Pinato S., Maiolica A., Rocchio F., Prato M.G., Aebersold R., Penengo L. // Cell Rep. 2015. V. 10. P. 226–238. https://doi.org/10.1016/j.celrep.2014.12.021
- Sparrer K.M.J., Gableske S., Zurenski M.A., Parker Z.M., Full F., Baumgart G.J., Kato J., Pacheco-Rodriguez G., Liang C., Pornillos O., Moss J., Vaughan M., Gack M.U. // Nat. Microbiol. 2017. V. 2. P. 1543–1557. https://doi.org/10.1038/s41564-017-0017-2
- Wang Q., Liu X., Cui Y., Tang Y., Chen W., Li S., Yu H., Pan Y., Wang C. // Immunity. 2014. V. 41. P. 919–933. https://doi.org/10.1016/j.immuni.2014.11.011
- Zhao C., Jia M., Song H., Yu Z., Wang W., Li Q., Zhang L., Zhao W., Cao X. // Cell Rep. 2017. V. 21. P. 1613–1623. https://doi.org/10.1016/j.celrep.2017.10.020
- Liu H., Li M., Song Y., Xu W. // Front. Immunol. 2018. V. 9. P. 2479. https://doi.org/10.3389/fimmu.2018.02479
- Xue B., Li H., Guo M., Wang J., Xu Y., Zou X., Deng R., Li G., Zhu H. // J. Virol. 2018. V. 92. P. e00321-18. https://doi.org/10.1128/JVI.00321-18
- Jin S., Tian S., Luo M., Xie W., Liu T., Duan T., Wu Y., Cui J. // Mol. Cell. 2017. V. 68. P. 308.e4–322.e4. https://doi.org/10.1016/j.molcel.2017.09.005
- He X., Zhu Y., Zhang Y., Geng Y., Gong J., Geng J., Zhang P., Zhang X., Liu N., Peng Y., Wang C., Wang Y., Liu X., Wan L., Gong F., Wei C., Zhong H. // EMBO J. 2019. V. 38. P. e100978. https://doi.org/10.15252/embj.2018100978
- Chen Y., Wang L., Jin J., Luan Y., Chen C., Li Y., Chu H., Wang X., Liao G., Yu Y., Teng H., Wang Y., Pan W., Fang L., Liao L., Jiang Z., Ge X., Li B., Wang P. // J. Exp. Med. 2017. V. 214. P. 991–1010. https://doi.org/10.1084/jem.20161387
- Sun H., Zhang Q., Jing Y.-Y., Zhang M., Wang H.-Y., Cai Z., Liuyu T., Zhang Z.-D., Xiong T.-C., Wu Y., Zhu Q.-Y., Yao J., Shu H.-B., Lin D., Zhong B. // Nat. Commun. 2017. V. 8. P. 15534. https://doi.org/10.1038/ncomms15534
- Imai J., Koganezawa Y., Tuzuki H., Ishikawa I., Sakai T. // Cell Biol. Int. 2019. V. 43. P. 1393–1406. https://doi.org/10.1002/cbin.11186
- Kristariyanto Y.A., Choi S.-Y., Rehman S.A.A., Ritorto M.S., Campbell D.G., Morrice N.A., Toth R., Kulathu Y. // Biochem. J. 2015. V. 467. P. 345–352. https://doi.org/10.1042/BJ20141502
- Michel M.A., Elliott P.R., Swatek K.N., Simicek M., Pruneda J.N., Wagstaff J.L., Freund S.M.V., Komander D. // Mol. Cell. 2015. V. 58. P. 95–109. https://doi.org/10.1016/j.molcel.2015.01.042
- Yu Z., Chen T., Li X., Yang M., Tang S., Zhu X., Gu Y., Su X., Xia M., Li W., Zhang X., Wang Q., Cao X., Wang J. // Elife. 2016. V. 5. P. e14087. https://doi.org/10.7554/eLife.14087
- Fei C., Li Z., Li C., Chen Y., Chen Z., He X., Mao L., Wang X., Zeng R., Li L. // Mol. Cell. Biol. 2013. V. 33. P. 4095–4105. https://doi.org/10.1128/MCB.00418-13
- Kristariyanto Y.A., Abdul Rehman S.A., Campbell D.G., Morrice N.A., Johnson C., Toth R., Kulathu Y. // Mol. Cell. 2015. V. 58. P. 83–94. https://doi.org/10.1016/j.molcel.2015.01.041
- Licchesi J.D.F., Mieszczanek J., Mevissen T.E.T., Rutherford T.J., Akutsu M., Virdee S., El Oualid F., Chin J.W., Ovaa H., Bienz M., Komander D. // Nat. Struct. Mol. Biol. 2011. V. 19. P. 62–71. https://doi.org/10.1038/nsmb.2169
- Mevissen T.E.T., Hospenthal M.K., Geurink P.P., Elliott P.R., Akutsu M., Arnaudo N., Ekkebus R., Kulathu Y., Wauer T., El Oualid F., Freund S.M.V., Ovaa H., Komander D. // Cell. 2013. V. 154. P. 169– 184. https://doi.org/10.1016/j.cell.2013.05.046
- Virdee S., Ye Y., Nguyen D.P., Komander D., Chin J.W. // Nat. Chem. Biol. 2010. V. 6. P. 750–757. https://doi.org/10.1038/nchembio.426
- Tran H., Hamada F., Schwarz-Romond T., Bienz M. // Genes Dev. 2008. V. 22. P. 528–542. https://doi.org/10.1101/gad.463208
- Besche H.C., Sha Z., Kukushkin N.V., Peth A., Hock E.-M., Kim W., Gygi S., Gutierrez J.A., Liao H., Dick L., Goldberg A.L. // EMBO J. 2014. V. 33. P. 1159– 1176. https://doi.org/10.1002/embj.201386906
- Jin J., Xie X., Xiao Y., Hu H., Zou Q., Cheng X., Sun S.-C. // Nat. Immunol. 2016. V. 17. P. 259–268. https://doi.org/10.1038/ni.3347
- Kim J.-B., Kim S.Y., Kim B.M., Lee H., Kim I., Yun J., Jo Y., Oh T., Jo Y., Chae H.-D., Shin D.Y. // J. Biol. Chem. 2013. V. 288. P. 12014–12021. https://doi.org/10.1074/jbc.M112.436113
- Yuan W.-C., Lee Y.-R., Lin S.-Y., Chang L.-Y., Tan Y.P., Hung C.-C., Kuo J.-C., Liu C.-H., Lin M.-Y., Xu M., Chen Z.J., Chen R.-H. // Mol. Cell. 2014. V. 54. P. 586–600. https://doi.org/10.1016/j.molcel.2014.03.035
- Kwon Y.T., Ciechanover A. // Trends Biochem. Sci. 2017. V. 42. P. 873–886. https://doi.org/10.1016/j.tibs.2017.09.002
- Sorada T., Morimoto D., Walinda E., Sugase K. // Biochem. Biophys. Res. Commun. 2021. V. 562. P. 94–99. https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2021.05.031
- Pickart C.M., Fushman D. // Curr. Opin. Chem. Biol. 2004. V. 8. P. 610–616. https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2004.09.009
- Yang W.-L., Wang J., Chan C.-H., Lee S.-W., Campos A.D., Lamothe B., Hur L., Grabiner B.C., Lin X., Darnay B.G., Lin H.-K. // Science. 2009. V. 325. P. 1134–1138. https://doi.org/10.1126/science.1175065
- Lim J., Yue Z. // Dev. Cell. 2015. V. 32. P. 491–501. https://doi.org/10.1016/j.devcel.2015.02.002
- Ohtake F., Tsuchiya H. // J. Biochem. 2017. V. 161. P. 125–133. https://doi.org/10.1093/jb/mvw088
- Swatek K.N., Komander D. // Cell Res. 2016. V. 26. P. 399–422. https://doi.org/10.1038/cr.2016.39
- Uckelmann M., Sixma T.K. // DNA Repair (Amst). 2017. V. 56. P. 92–101. https://doi.org/10.1016/j.dnarep.2017.06.011
- Nowsheen S., Aziz K., Aziz A., Deng M., Qin B., Luo K., Jeganathan K.B., Zhang H., Liu T., Yu J., Deng Y., Yuan J., Ding W., van Deursen J.M., Lou Z. // Nat. Cell Biol. 2018. V. 20. P. 455–464. https://doi.org/10.1038/s41556-018-0071-x
- Maspero E., Valentini E., Mari S., Cecatiello V., Soffientini P., Pasqualato S., Polo S. // Nat. Struct. Mol. Biol. 2013. V. 20. P. 696–701. https://doi.org/10.1038/nsmb.2566
- Hospenthal M.K., Freund S.M.V., Komander D. // Nat. Struct. Mol. Biol. 2013. V. 20. P. 555–565. https://doi.org/10.1038/nsmb.2547
- Valkevich E.M., Sanchez N.A., Ge Y., Strieter E.R. // Biochemistry. 2014. V. 53. P. 4979–4989. https://doi.org/10.1021/bi5006305
- Paudel P., Banos C.M., Liu Y., Zhuang Z. // ACS Chem. Biol. 2023. V. 18. P. 837–847. https://doi.org/10.1021/acschembio.2c00898
- Wang Y.S., Wu K.P., Jiang H.K., Kurkute P., Chen R.H. // Molecules. 2020. V. 25. P. 5200. https://doi.org/10.3390/molecules25215200
- Ohtake F. // Trends Biochem Sci. 2020. V. 45. P. 820821. https://doi.org/10.1016/j.tibs.2020.04.008
- Sun M., Zhang X. // Cell Biosci. 2022. V. 12. P. 126. https://doi.org/10.1186/s13578-022-00870-y
- Di Meo A., Pasic M.D., Yousef G.M. // Oncotarget. 2016. V. 7. P. 52460–52474. https://doi.org/10.18632/oncotarget.8931
- Neagu A.N., Jayathirtha M., Baxter E., Donnelly M., Petre B.A., Darie C.C. // Molecules. 2022. V. 27. P. 2411. https://doi.org/10.3390/molecules27082411
- Singh G., Kumar S., Das R. // Anal Chem. 2023. V. 95. P. 10061–10067. https://doi.org/10.1021/acs.analchem.3c01425
Supplementary files