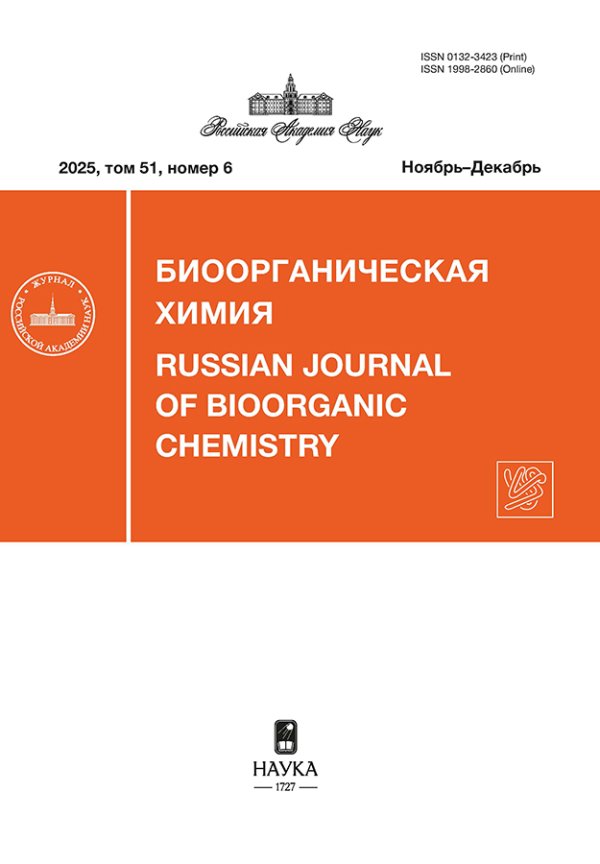Participation of the transcription factor CREB1 in the regulation of the Mdh2 gene encoding malate dehydrogenase in the liver of rats with alloxan diabetes
- Authors: Eprintsev A.T.1, Romanenko K.R.1, Selivanova N.V.1
-
Affiliations:
- Voronezh State University
- Issue: Vol 50, No 1 (2024)
- Pages: 26-36
- Section: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/0132-3423/article/view/258150
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132342324010034
- EDN: https://elibrary.ru/OWSFEY
- ID: 258150
Cite item
Full Text
Abstract
The aim of the study was to study the role of transcription factor CREB1 in regulating the expression of the gene encoding the mitochondrial form of malate dehydrogenase (MDH, EC 1.1.1.37) in the liver of rats with experimental diabetes. An increase in the rate of work of NAD-dependent malate dehydrogenase in rat liver cells during the development of experimental diabetes was shown, associated with the activation of the Mdh1 and Mdh2 genes encoding this enzyme. The analysis of the promoters of these genes showed that only in the Mdh2 gene there is a specific binding site with the transcription factor CREB1. It was found that in the liver of rats with pathology, there is an increase in the rate of expression of the gene encoding this transcription factor, which correlates with the expression of the Mdh2 gene. Thus, the data obtained by us confirm the possibility of positive regulation of the rate of the Mdh2 gene by the transcription factor CREB1.
Full Text
Сокращения: MDH – малатдегидрогеназа; CRE – cAMP-чувствительный элемент (cAMP response element); CREB – транскрипционный фактор, белок, связывающий cAMP-чувствительный элемент (cAMP response element-binding protein); ПЦР-РВ – полимеразная цепная реакция в реальном времени.
ВВЕДЕНИЕ
Сахарный диабет – распространенное заболевание, количество пациентов с таким диагнозом на сегодняшний день превышает 450 млн человек во всем мире [1]. При данной патологии наблюдается углеводное голодание клеток и тканей, что в свою очередь приводит к активизации глюконеогенеза [2]. Наиболее активно глюконеогенетические процессы протекают в печени, которая участвует в поддержании гомеостаза глюкозы и является главным метаболически активным органом.
В процессах адаптации особое место занимает малатдегидрогеназная ферментативная система. Малатдегидрогеназа (MDH, КФ 1.1.1.37) – полифункциональный ферментный комплекс, катализирующий обратимое превращение малата в оксалоацетат с использованием NADН в качестве кофермента [3]. Роль MDH заключается в осуществлении протекания энергетического и конструктивного обмена. В геноме крыс NAD-зависимая MDH кодируется двумя генами: Mdh1 и Mdh2.
В настоящее время регуляция экспрессии MDH освещена недостаточно и нуждается в дальнейшем изучении. Хотя имеются данные, что транскрипционный фактор MdWRKY126 может связываться с промотором гена MdMDH5, ответственного за синтез цитоплазматической формы MDH яблони, увеличивая скорость работы гена, кодирующего исследуемый фермент [4]. Ген Mdh1 дрожжей Saccharomices cerevisiae ингибируется глюкозой, причем его регуляция может осуществляться не непосредственно белком-репрессором Mig1p, а опосредованно, т.к. Mig1p регулирует транскрипцию НAP4, активатора этих генов [5]. Shi et al. показали [6], что окислительный стресс может повышать активность гена Mdh2 митохондриальной малатдегидрогеназы через микроРНК miR-743a при болезни Альцгеймера.
Большое количество процессов ферментативной активности требует многоуровневой регуляции. Один из механизмов подобной регуляции – контроль над экспрессией генов, осуществляемый при помощи транскрипционных факторов и вторичных мессенджеров [7]. Один из таких транскрипционных факторов – CREB (cAMP-response element-binding protein). Этот белок имеет структуру “спираль–петля– спираль”, содержит ДНК-связывающий мотив “лейциновая молния” [8]. CREB был обнаружен благодаря его способности связываться со специфической последовательностью CRE (cAMP response element – TGACGTCA) в промоторе гена нейропептида соматостатина [9]. Известно, что участок связывания CREB–CRE присутствует в промоторах ключевых ферментов глюконеогенеза: глюкозо-6-фосфатазы, пируваткарбоксилазы и фосфоенолпируваткарбоксикиназы [8]. Участие фактора CREB в регуляции глюконеогенеза было продемонстрировано с использованием трансгенных мышей, экспрессирующих в печени alb-ACREB – селективный ингибитор CREB. Эти животные характеризовались сниженным уровнем глюкозы в крови и подавленной экспрессией генов глюконеогенеза [10]. Кроме того, подавление экспрессии CREB при помощи малых интерферирующих РНК также приводило к снижению уровня глюкозы в крови в моделях in vivo, доказывая важную роль этого фактора в физиологическом контроле процесса глюконеогенеза [11]. В литературе имеются сведения, что данный фактор становится наиболее активным в период голодания, и его действие проявляется в широком спектре тканей [8]. Кроме того, Young-Sil Yoon et al. показали, что питание с высоким содержанием жиров активирует путь CREB/CRTC в адипоцитах за счет снижения экспрессии SIK2, Ser/Thr-киназы, которая фосфорилирует и ингибирует cAMP-зависимые транскрипционные коактиваторы [12]. Однако информации о работе данного транскрипционного фактора в условиях сахарного диабета I типа недостаточно, и она довольно разрозненная.
В связи с этим целью данной работы было изучение роли транскрипционного фактора CREB1 в регуляции экспрессии гена митохондриальной малатдегидрогеназы в печени крыс линии Wistar при экспериментальном аллоксановом диабете.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Эксперимент проводили на самцах крыс линии Wistar, которых перед началом эксперимента произвольным образом разделили на две группы (n = 8). В группе “Диабет” для индукции патологии животным однократно внутрибрюшинно вводили 5%-ный раствор аллоксана (доза 150 мг/кг массы тела), предварительно растворенный в 0.9%-ном цитрате натрия. Крысам контрольной группы (Норма) вместо аллоксана осуществляли инъекцию 0.9%-ного цитрата натрия.
К началу постановки эксперимента уровень глюкозы у всех крыс находился в пределах нормы и в среднем составлял 5.1 ± 0.12 ммоль/л. Введение аллоксана вызывало стойкое развитие экспериментального диабета у крыс, о чем свидетельствует повышение уровня глюкозы до 13.5 ± 0.22 ммоль/л на третьи сутки исследования (рис. 1). У группы контрольных здоровых животных уровень сахара в крови колебался в пределах нормы на протяжении всего времени эксперимента и в среднем составлял 4.8–5.4 ммоль/л. Известно, что аллоксан вызывает разрушение клеток поджелудочной железы, способствуя снижению синтеза инсулина, приводя, таким образом, к развитию сахарного диабета I типа [13].
Рис. 1. Концентрация глюкозы в крови здоровых крыс (Норма) и животных с аллоксановым диабетом (Диабет), p < 0.007.
Значения общей активности MDH в печени здоровых крыс и животных с аллоксановым диабетом показаны в табл. 1. Из приведенных данных видно, что в норме MDH представлена только в цитоплазме и митохондриях, тогда как при развитии диабета данный фермент проявляет свою активность еще и в пероксисомальной фракции. Кроме того, анализ полученных данных показал, что митохондриальная форма MDH увеличивает скорость своего функционирования в 3, а цитоплазматическая – в 2 раза. Для проверки достоверности полученных результатов был оценен уровень перекрестного загрязнения. Он составил 3–5%, что считается допустимым при интерпретации данных.
Таблица 1. Общая активность малатдегидрогеназы в различных компартментах клеток печени здоровых крыс (Норма) и животных с аллоксановым диабетом (Диабет)
Показатель | Норма | Диабет |
Активность MDH в цитоплазме, ед./г сырой массы | 0.98 (0.91–1.1) | 1.97 (1.91–2.1)* |
Активность MDH в митохондриях, ед./г сырой массы | 1.04 (1.01–1.35) | 3.15 (3.08–3.42)** |
Активность MDH в пероксисомах, ед./г сырой массы | – | 0.77 (0.69–0.86)*** |
* р ≤ 0.004; ** р ≤ 0.006; *** р ≤ 0.009.
Вероятно, увеличение общей активности MDH в печени крыс с экспериментальным диабетом свидетельствует об активации метаболических путей, в функционировании которых принимает участие данный фермент, однако причины роста активности не до конца понятны и требуют более детального изучения. Одной из причин такого увеличения скорости функционирования может быть повышение экспрессии генов, кодирующих MDH. Результаты исследования ПЦР-РВ приведены на рис. 2. Видно, что в печени крыс при диабете относительный уровень транскрипции исследуемых генов возрастал по сравнению с данным показателем в контрольной группе крыс. Увеличение скорости работы генов, кодирующих MDH у крыс с аллоксановым диабетом, более чем в 2 раза по сравнению с контрольной группой коррелирует с данными о росте активности данного фермента (rs = 0.9). Вероятно, этот факт может быть связан с интенсификацией работы цикла Кребса для синтеза энергетических эквивалентов и интермедиатов в связи с необходимостью адаптации животных к развивающейся патологии. Интересно, что ранее было показано увеличение активности и уровня экспрессии генов, кодирующих сукцинатдегидрогеназу [14].
Рис. 2. Относительный уровень транскриптов генов Mdh1 и Mdh2 из печени крыс контрольной группы (Норма) и животных с аллоксановым диабетом (Диабет). При оценке относительного уровня транскрипции исследуемых генов во всех группах исследуемых животных были выявлены статистически значимые различия (* p < 0.009; ** р ≤ 0.001).
Одним из механизмов, способствующих изменению скорости транскрипции генов малатдегидрогеназы у крыс при диабете, может выступать CREB1. Известно, что в промоторной части генов, регулируемых данным транскрипционным фактором, присутствует CRE (cAMP response element) – последовательность ДНК, с которой связывается CREB1 (5′-TGACGTCA-3′). Нами были проанализированы промоторы генов крыс, кодирующих изоферменты малатдегидрогеназы. Исследование структуры данных генов выявило наличие одного специфического сайта связывания CREB1 в промоторе гена Mdh2 (рис. 3), что может обуславливать его регуляцию за счет данного транскрипционного фактора. Наличие такого участка связывания в составе исследуемого гена указывает на возможность регуляции его работы на уровне изменения сродства РНК-полимеразы к промотору данного гена. Интересен тот факт, что регуляторная область гена Mdh1 подобной последовательности не содержит.
Рис. 3. Выравнивание промоторов генов Mdh1, Mdh2 и Sst1 (ген соматотропина, находящийся под регуляцией транскрипционного фактора CREB1) крысы. Прямоугольником выделен сайт CRE.
С целью выявления участия транскрипционных факторов семейства CREB в регуляции скорости экспрессии гена Mdh2 была проведена количественная оценка уровня транскрипта гена Creb1 в печени здоровых крыс и животных с патологией методом ПЦР-РВ. Результаты исследования ПЦР-РВ приведены на рис. 4. Показано, что в печени крыс при диабете концентрация транскрипта исследуемого гена возрастала более чем в 7 раз по сравнению с данным показателем в контрольной группе крыс.
Рис. 4. Относительный уровень транскриптов гена Creb1 из печени крыс контрольной группы (Норма) и животных с аллоксановым диабетом (Диабет). При оценке относительного уровня транскрипции гена Creb1 в опытной и контрольной группах животных были выявлены статистически значимые различия (p < 0.001).
Полученные результаты по скорости транскрипции фактора CREB1 позволяют сделать вывод о том, что в условиях аллоксанового диабета наблюдается увеличение содержания транскрипционного фактора CREB1, что имеет определенную корреляцию с содержанием мРНК гена Mdh2 (rs = 1). Похожие результаты были получены в исследовании Ling Qi et al., которые показали, что при ожирении в адипоцитах наблюдается активация белка CREB, приводящая к ингибированию работы генов, ответственных за синтез инсулина и белка-транспортера Glut4, приводя таким образом к развитию инсулинорезистентности и, как следствие, к сахарному диабету II типа [15].
Инициация транскрипции – важнейший этап реализации генетической информации. В настоящее время наиболее изучена инициация транскрипции с промоторов, содержащих TATA-бокс. На таких промоторах инициация транскрипции начинается с распознавания и связывания TBP (TATA-binding protein) непосредственно с ТАТА-боксом в коровой части промотора. Однако последовательности TATA-бокса обнаруживаются лишь в незначительной части эукариотических промоторов [16]. Так, на рис. 5 показана структура промоторов генов Mdh1 и Mdh2 крысы с отмеченными регуляторными элементами и сайтами посадки транскрипционных факторов (в т.ч. CREB1). Видно, что оба гена не содержат TATA-бокса. Изучение альтернативных путей инициации и поддержания транскрипции позволит расширить понимание устройства промоторов эукариот, что, в свою очередь, имеет большое фундаментальное и прикладное значение.
Рис. 5. Структура промоторов генов Mdh1 (Gene ID: 24551) и Mdh2 (Gene ID: 81829) в геноме крысы. Inr – инициатор и CG-бокс (регуляторные элементы); показаны сайты посадки для транскрипционных факторов: ASCL1 (achaete-scute complex-like), FOXO1 и CREB1.
Таким образом, регуляция скорости работы гена Mdh2, а следовательно, и функционирования митохондриальной формы малатдегидрогеназы, в печени крыс при аллоксановом диабете осуществляется через транскрипционный фактор CREB1.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Объект исследования. Объектом исследования выступали самцы белых лабораторных крыс линии Wistar массой 150–200 г (n = 8), выведенные в биопитомнике “СМК СТЕЗАР” (г. Владимир, Россия).
Экспериментальная модель. Для индукции экспериментального сахарного диабета однократно вводили 5%-ный раствор аллоксана (Диаэм, Россия), предварительно растворенный в 0.9%-ном цитрате натрия. Доза составляла 150 мг на 1 кг живой массы. Инъекции производили внутрибрюшинно. Животным контрольной группы вместо аллоксана вводили раствор 0.9%-ного цитрата натрия.
Животных содержали в условиях вивария при стандартной температуре с естественным освещением и свободным доступом в течение дня к воде и корму [17].
Измерение уровня глюкозы в крови было необходимо для доказательства индукции сахарного диабета и отслеживания динамики уровня глюкозы в ходе эксперимента. Определение уровня глюкозы в крови проводили при помощи глюкометра Сателлит-Плюс (ООО “Компания “ЭЛТА”, Россия). Забор крови осуществляли из хвостовой вены в утренние часы натощак.
Спустя 14 сут после моделирования аллоксанового диабета наркотизированных животных подвергали декапитации с целью анализа биоматериала (печени). Для эвтаназии использовали смесь ксилазина (10 мг/кг, 2%-ный раствор для инъекций; ALFASAN, Нидерланды) и кетамина (90 мг/кг, 5%-ный раствор для инъекций; ПАО “Фармак”, Украина) интраперитонеально. После декапитации печень извлекали, трехкратно промывали ледяным физиологическим раствором и гомогенизировали в 10-кратном объеме среды для выделения, содержащей 1 мМ ЭДТА, 2 мМ KCl, 3 мМ ДТТ, 0.35 M сахарозу, 50 мМ Tris-HCl-буфер (pH 7.8). После этого проводили центрифугирование в течение 5 мин при 3000 g и температуре 4°С. Далее отбирали супернатант (гомогенат), который в дальнейшем использовали при измерении активности фермента.
Определение активности малатдегидрогеназы. Активность MDH измеряли спектрофотометрически на спектрофотометре СФ-2000 (ОКБ-Спектр, Россия) при 340 нм по изменению оптической плотности реакционных смесей, связанной с расходованием NADH. Среда содержала 50 мМ Tris-HCl-буфер (pH 7.5), 1.5 мМ оксалоацетат, 0.15 мМ NADH, 5 мМ MgCl2, 4 мМ ДТТ. За единицу активности MDH принимали количество фермента, необходимого для превращения 1 мкмоль субстрата в 1 мин при 25°С. Активность ферментов выражали в виде общей активности (ед./г сырой массы).
Оценка перекрестного загрязнения. Перекрестное загрязнение оценивали с помощью маркерных ферментов цитоплазмы (алкогольдегидрогеназа [18]), митохондрий (сукцинатдегидрогеназа [14]) и пероксисом (каталаза [19]) по опубликованным методикам. Для расчета процента загрязнения выделенных фракций измеряли активность маркерных ферментов в гомогенате печени и принимали полученные значения за 100%. Далее производили анализ активности данных энзимов в каждой из выделенных фракций и пересчитывали процент от активности в гомогенате.
Анализ промоторов. Нуклеотидные последовательности промоторной области гена, кодирующего МDH крысы, были взяты из базы данных NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term=malate+dehydrogenase+rat) и проанализированы на наличие сайта связывания CREB1. В качестве референсного был взят ген Sst-1 (ген соматотропина, находящийся под регуляцией транскрипционного фактора CREB1). Выравнивание последовательностей промоторов генов Mdh1, Mdh2 и Sst-1 проводили в программе seaview3 (http://pbil.univ-lyon1.fr/software/seaview3.html; см. рис. 3).
Выделение РНК. Суммарную клеточную РНК выделяли из ткани печени методом фенол-хлороформной экстракции с использованием в качестве осадителя LiCl [20], с последующей обработкой ДНКазой 1 (Диаэм, Россия) согласно инструкции производителя.
Анализ качества РНК. Для анализа качества выделенной РНК проводили аналитический электрофорез в 1%-ном агарозном геле (Helicon, Россия). В качестве буфера использовали 50× ТАЕ-буфер, краситель для визуализации нуклеиновых кислот – бромистый этидий. Гелевую пластинку помещали в электрофоретическую камеру VE-10-v2 (Хеликон, Россия), заполненную 1× ТАЕ-буфером (рН 8.5). Пробы вносили в каждую ячейку в объеме 5 мкл. Электрофорез проводили в течение 40 мин при напряжении 70 В, после чего гель фотографировали в проходящем УФ-свете.
Обратная транскрипция. Обратную транскрипцию мРНК проводили с использованием обратной транскриптазы M-MuLV и праймеров олиго(dT) (СибЭнзим, Россия) для синтеза первой цепи кДНК согласно инструкции производителя. Для проведения реакции брали 2 мкг выделенной суммарной клеточной РНК в соответствии с рекомендацией производителя.
Подбор геноспецифических праймеров. Специфические праймеры подбирали с использованием нуклеотидных последовательностей генов Mdh1 (Gene ID: 24551), Mdh2 (Gene ID: 81829) и Creb1 (Gene ID: 81646) крысы, взятых из международной базы данных NCBI (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genes/), с помощью программы Primer-BLAST (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/). Праймеры к гену Mdh1: прямой – 5′-gctctactcgttccctgtcg-3′; обратный – 5′-acgactgtgtagtcatgcgg-3′; к гену Mdh2: прямой – 5′-acccccaaggttgactttcc-3′; обратный – 5′-ttcct- tcccattcatggcgt-3′; к гену Creb1: прямой – 5′-ttcagt- ctccacaagtccaaac-3′; обратный – 5′-gctgaagtctct- tcttctgatttt-3′; к гену Eef1a1: прямой – 5′-ttgagtgaag- ctctgcctgg-3′; обратный – 5′-cgaccaagtggagggtagtc-3′.
ПЦР в реальном времени. ПЦР с геноспецифичными праймерами проводили с помощью набора реактивов AmpliSence (Хеликон, Россия) согласно инструкции производителя на приборе DNA Engine Thermal Cycler Chromo 4 (Bio-Rad, США), используя в качестве красителя SYBR Green (Диаэм, Россия). Параметры амплификации: предварительная денатурация: 95°С – 5 мин; затем 35 циклов: 95°С – 20 с, 58°С – 30 с, 72°С – 40 с (детекция); финальная элонгация: 72°С – 10 мин [21]. Количество кДНК контролировали с использованием параллельной амплификации гена Eef1a1 (Gene ID: 171361), кодирующего в геноме крысы фактор элонгации EF-1α, и разработанных нами геноспецифичных праймеров. Отрицательным контролем служила суммарная РНК, не подвергшаяся обратной транскрипции (рис. 6). Относительный уровень экспрессии исследуемых генов определяли при помощи метода 2–ΔΔCt [22] и программного обеспечения Opticon MonitorTM Software (Bio-Rad, США).
Рис. 6. Электрофореграмма ПЦР-продуктов после ПЦР в реальном времени. М – маркеры длин ДНК 250–1000 п.н. (Диаэм, Россия), 1 и 5 – отрицательный контроль, 2 и 6 – продукты гена Mdh1, 3 и 7 – продукты гена Mdh2, 4 и 8 – продукты гена Eef1a1. Норма – группа контрольных крыс, Диабет – животные с аллоксановым диабетом.
Для проверки достоверности полученных нами данных все опыты и измерения проводили в четырехкратных биологических и пятикратных аналитических повторностях. Расчеты проводили в программе Microsoft Office Exсel 2007, а их дальнейший анализ – в программе StatTech v. 1.2.0 (ООО “Статтех”, Россия). Проверку нормальности распределения осуществляли с помощью критерия Шапиро–Уилка. Количественные показатели, имеющие нормальное распределение, описывали с помощью средних арифметических величин (M) и стандартных отклонений (SD), границ 95%-ного доверительного интервала (95% ДИ). В случае ненормального распределения изучаемых количественных признаков использовали непараметрический критерий Манна–Уитни, данные представляли в виде медианы и интерквартильного размаха Me (Q1–Q3). Для выявления взаимосвязей между показателями использовали корреляционный метод с применением коэффициента корреляции Пирсона. Все данные, представленные в данной работе, статистически достоверны (р < 0.05).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе была изучена роль транскрипционного фактора CREB1 в регуляции экспрессии гена Mdh2, кодирующего митохондриальную малатдегидрогеназу, в печени крыс при экспериментальном аллоксановом диабете. Выявлено увеличение активности и появление дополнительной пероксисомальной формы малатдегидрогеназы, что, вероятно, связано с увеличением скорости транскрипции кодирующих ее генов. Кроме того, полученные данные позволяют сделать предположение о том, что регуляция скорости работы гена Mdh2 в печени крыс при аллоксановом диабете осуществляется через транскрипционный фактор CREB1, который положительно регулирует экспрессию исследуемого гена, взаимодействуя со специфическим CRE-участком в составе промотора гена Mdh2.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Все манипуляции с крысами проводили в соответствии с Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях (Страсбург, 18 марта 1986 г.). Процедуры эксперимента соответствовали требованиям международных правил гуманного отношения к животным, отраженных в санитарных правилах по отбору и содержанию экспериментально-биологических клиник (вивариев).
Протокол исследования одобрен Этическим комитетом по экспертизе биомедицинских исследований в ФГБОУ ВО “Воронежский государственный университет” (протокол № 42-04 от 05.09.2022).
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
About the authors
A. T. Eprintsev
Voronezh State University
Author for correspondence.
Email: bc366@bio.vsu.ru
Russian Federation, Universitetskaya pl. 1, Voronezh, 394018
K. R. Romanenko
Voronezh State University
Email: bc366@bio.vsu.ru
Russian Federation, Universitetskaya pl. 1, Voronezh, 394018
N. V. Selivanova
Voronezh State University
Email: bc366@bio.vsu.ru
Russian Federation, Universitetskaya pl. 1, Voronezh, 394018
References
- Cho N.H., Shaw J.E., Karuranga S., Huang Y., da Rocha Fernandes J.D., Ohlrogge A.W., Malanda B. // Diabetes Res. Clin. Pract. 2018. V. 138. P. 271–281. https://doi.org/10.1016/j.diabres.2018.02.023
- Jiang G., Zhang B.B. // Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 2003. V. 284. P. E671–Е678. https://doi.org/10.1152/ajpendo.00492.2002
- Priestley J.R.C., Pace L.M., Sen K., Aggarwal A., Alves C.A.P.F., Campbell I.M., Cuddapah S.R., Engelhardt N.M., Eskandar M., García P.C.J., Gropman A., Helbig I., Hong X., Gowda V.K., Lusk L., Trapane P., Srinivasan V.M., Suwannarat P., Ganetzky R.D. // Mol. Genet. Metab. Rep. 2022. V. 33. P. 100931. https://doi.org/10.1016/j.ymgmr.2022.100931
- Zhang L., Ma B., Wang Ch., Chen X., Ruan Y.-L., Yuan Y., Ma F., Li M. // Plant Physiol. 2022. V. 188. P. 2059–2072. https://doi.org/10.1093/plphys/kiac023
- Анастасина М.С., Самбук Е.В. // Вестник Санкт-Петербургского ун-та. 2009. Сер. 3. Вып. 2. С. 39–52.
- Shi Q., Gibson G.E. // J. Neurochem. 2011. V. 118. P. 440–448. https://doi.org/10.1111/j.1471-4159.2011.07333.x
- Кулебякин К.Ю., Акопян Ж.А., Кочегура Т.Н., Пеньков Д.Н. // Сахарный диабет. 2016. Т. 19. С. 190–198. https://doi.org/10.14341/DM2003436-40
- Schmoll D., Wasner C., Hinds C.J., Allan B.B., Walther R., Burchel A. // Biochem. J. 1999. V. 338. P. 457–463.
- Gonzalez G.A., Yamamoto K.K., Fischer W.H., Karr D., Menzel P., Biggs W., Vale W.W., Montminy M.R. // Nature. 1989. V. 337. P. 749–752. https://doi.org/10.1038/337749a0
- Herzig S., Long F., Jhala U.S., Hedrick S., Quinn R., Bauer A., Rudolph D., Schutz G., Yoon C., Puigserver P., Spiegelman B., Montminy M. // Nature. 2001. V. 413. P. 179–183. https://doi.org/10.1038/35093131
- Erion D.M., Ignatova I.D., Yonemitsu S., Nagai Y., Chatterjee P., Weismann D., Hsiao J.J., Zhang D., Iwasaki T., Stark R., Flannery C., Kahn M., Carmean Ch.M., Yu X.X., Murray S.F., Bhanot S., Monia B.P., Cline G.W., Samuel V.T., Shulman G.I. // Cell Metab. 2009. V. 10. P. 499–506. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2009.10.007
- Yoon Y.-S., Liu W., de Velde S.V., Matsumura Sh., Wiater E., Huang L., Montminy M. // Commun. Biol. 2021. V. 4. P. 1214. https://doi.org/10.1038/s42003-021-02735-5
- Lenzen S. // Diabetologia. 2008. V. 51. P. 216–226. https://doi.org/10.1007/s00125-007-0886-7
- Епринцев А.Т., Федорин Д.Н., Бакарев М.Ю. // Биомед. химия. 2022. Т. 68. С. 272–278. https://doi.org/10.18097/PBMC20226804272
- Qi L., Saberi M., Zmuda E., Wang Y., Altarejos J., Zhang X., Dentin R., Hedrick S., Bandyopadhyay G., Hai T., Olefsky J., Montminy M. // Cell Metab. 2009. V. 9. P. 277–286. https://doi.org/10.1016/j.cmet.2009.01.006
- Smale S.T., Kadonaga J.T. // Annu. Rev. Biochem. 2003. V. 72. P. 449–479. https://doi.org/10.1146/annurev.biochem.72.121801. 161520
- Ighodaro O.M., Adeosun A.M., Akinloye O.A. // Medicina (Kaunas). 2017. V. 53. P. 365–374. https://doi.org/10.1016/j.medici.2018.02.001
- Jelski W., Laniewska-Dunaj M., Orywal K., Kochanowicz J., Rutkowski R., Szmitkowski M. // Neurochem. Res. 2014. V. 39. P. 2313–2318. https://doi.org/10.1007/s11064-014-1402-3
- Nadeem M.S., Khan J.А., Murtaza B.N., Muhammad Kh., Rauf А. // South Asian J. Life Sci. 2015. V. 3. P. 51–55. https://doi.org/10.14737/journal.sajls/2015/3.2.51.55
- Vennapusa A.R., Somayanda I.M., Doherty C.J., Jagadish S.V.K. // Sci. Rep. 2020. V. 10. P. 16887. https://doi.org/10.1038/s41598-020-73958-5
- Navarro E., Serrano-Heras G., Castaño M.J., Solera J. // Clin. Chim. Acta. 2015. V. 439. P. 231–250. https://doi.org/10.1016/j.cca.2014.10.017
- Dhanasekaran S., Doherty T.M., Kenneth J. // J. Immunol. Methods. 2010. V. 354. P. 34–39. https://doi.org/10.1016/j.jim.2010.01.004
Supplementary files