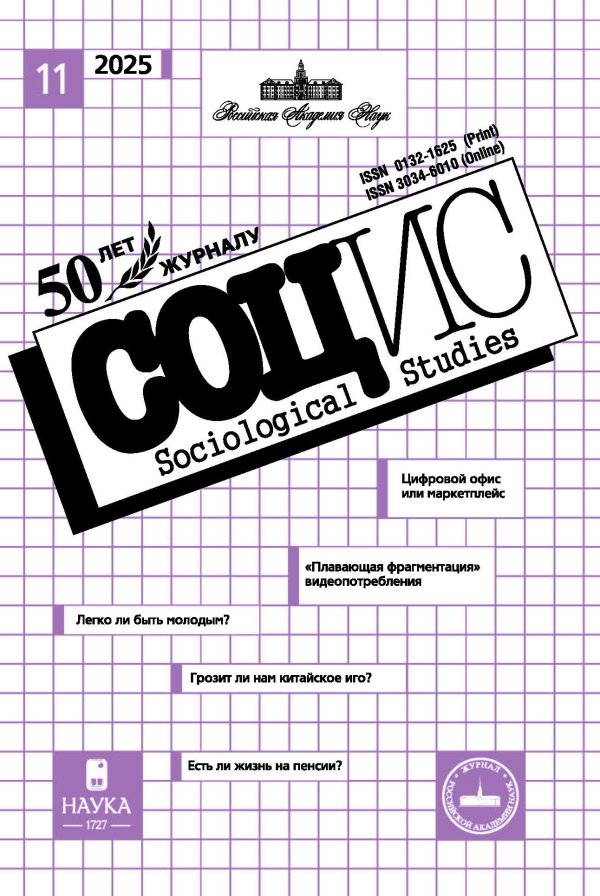Феномен ресентимента: историческая аллюзия или суровая реальность?
- Авторы: Рой О.М.1
-
Учреждения:
- Институт философии и права Уральского отделения РАН
- Выпуск: № 8 (2024)
- Страницы: 168-174
- Раздел: РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД НОВОЙ КНИГОЙ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0132-1625/article/view/271246
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132162524080189
- ID: 271246
Полный текст
Аннотация
Новая книга Л. Фишмана посвящена феномену современного мира, удивительным образом сочетающему установку на обеспечение политического равенства между людьми и неравенство, возникающее на периферии этого «обеспечения». В статье рассматриваются эволюция и содержание феномена ресентимента. Согласно Ф. Ницше, ресентиментом является чувство, испытываемое человеком к своему врагу или к тому, кого он считает виновным в своих неудачах, что вызывает его агрессию по отношению к другому. Л. Фишман прослеживает различные исторические формы, обращая внимание на то, что главным субъектом ресентиментных действий зачастую выступает не плебей, а носитель ценностей господствующего класса. В этих условиях ресентимент становится важнейшим инструментом политической борьбы, предметом апелляции одной социальной силы относительно другой. Таким образом, автор подходит к рассмотрению феномена ресентимента с иной стороны, чем родоначальники этой концепции Ф. Ницше и М. Шелер, рассматривая его как разновидность ложного сознания, а концепцию ресентимента в ее изначальном виде – как его критику справа. В современном мире феномен ресентимента воплощается в самых разнообразных формах – от прекариата до противостояния между государствами. И пока в мире существуют разделение общества на сильных и слабых, социальное неравенство, двойные стандарты, ресентимент будет находить для себя благоприятную почву.
Ключевые слова
Полный текст
Феномен ресентимента был описан в одном из произведений Фр. Ницше, и определялся как мораль рабов, противостоящая морали господ. Чувство враждебности к тем, кто является причиной гонений и неудач, лежит в основе этого феномена, формируя бессильное стремление его носителей улучшить свое положение в обществе. Находящиеся в угнетенном и зависимом положении субъекты формируют собственные ценности, сублимируя чувство характерной для себя неполноценности в особую систему морали. При этом ресентимент рассматривается как самообман, выдача нужды за добродетель, что выступает источником напряженности в обществе. Подобно «призраку коммунизма», воплотившемуся во вполне осязаемые формы, «призрак ресентимента» не имеет четкого очертания и используется в качестве инструмента политического влияния.1
Исторические предпосылки ресентимента. Ницше связывал формирование ресентимента с появлением христианства, призывавшего к уравниванию угнетенных слоев населения и высших классов. И поэтому для него христианство консервирует психологию угнетенности, парализует волю человека. Ресентимент формирует формальное равенство при реальном неравенстве. И возникают вопросы: насколько фатальным для общества и присущим его природе является феномен ресентимента? Насколько значимым является влияние демократических тенденций в политической сфере современного общества на судьбы ресентимента? Является ли ресентимент простой аллюзией, мемом или имеет глубокие основания в современном обществе?
Ключевой научной проблемой монографии, на наш взгляд, является реконструкция феномена ресентимента в исторической перспективе, его влияние на общественные отношения. Автор последовательно рассматривает эволюцию ресентимента, выявляя характерные свойства этого феномена, его ключевые характеристики.
Развивая теорию в политическом дискурсе, немецкий философ М. Шелер объяснял феномен ресентимента политической неустойчивостью общества и необходимостью высших классов идти на компромиссы с низшими классами. Вслед за Ницше Шелер усматривал ресентимент в противопоставлении аристократов и плебеев, но, в отличие от своего старшего соотечественника, не рассматривал этот феномен как отличительную черту христианской религии. Учрежденный аристократами социальный порядок выступает основой консервации сложившихся в обществе отношений, разделяя составляющие его социальные группы по признаку происхождения и принадлежности роду. Всякий социальный порядок предусматривает внутри себя иерархическую систему привилегий и норм, служащих препятствием для проникновения в высший круг случайных элементов. Однако ресентимент не означает простой неудовлетворенности низших классов сложившимся социальным порядком и осознания его несправедливости – он проявляется «в эпоху подъема силы низших классов», т. е. когда низшие классы осознают себя равными высшему классу, которому они готовы противостоять, отстаивая свои права. Такое равенство может быть достигнуто посредством уравнивания политических прав граждан независимо от их происхождения и принадлежности к сословию. Получение права не влечет автоматического повышения социального статуса и улучшения материального благосостояния, что вызывает зависть и негодование ущемленного. Однако рассматривая проблему генезиса ресентимента, Л. Фишман задается вопросом: способен ли завистливый и лишенный возможностей плебей изменить сложившийся порядок, подвергнуть его рефлексии и возможному, пусть и теоретическому, переустройству? Скорее это может сделать только сам носитель ценностей господствующего класса, признающий несправедливость установленного порядка и готовый участвовать в его изменении. Не секрет, что значительная часть восстаний и государственных переворотов в мире поддерживалась и возглавлялась представителями господствующих сословий.
По мнению Л. Фишмана, генезис ресентимента следует искать в высших классах или близких к ним социальных группах (с. 29). Но в дальнейшем свойственный ресентименту комплекс моральных чувств и поведенческих стратегий может быть перенят другими классами. Большой интерес в монографии вызывает авторский анализ действовавшей в Западной Европе системы майората, подвергшей дискриминации младших наследников, вынужденных заниматься деятельностью, несвойственной высшим классам. Другой категорией дискриминируемых были незаконорожденные наследники, бастарды, роль которых в истории человечества оказалась подчас отличной от ожидаемой. Многие незаконнорожденные дети оказались весьма удачливыми в своей карьере, сублимируя душевную травму своего происхождения достижением значительных высот в творчестве (А. Герцен, А. Фет, О. Кипренский и многие другие).
В то же время, считает автор монографии, родоначальники концепции ресентимента отрицали наличие у аристократии какой-либо зависти к другим сословиям, усматривая ресентимент исключительно в «морали рабов» – людей не только неблагородных, но и подлых. На примере сюжетов из классической литературы и ряда исторических источников автор показывает, что в действительности это далеко не так. Он последовательно раскрывает особенности аристократической формы ресентимента, когда положение дискриминируемого лица сочетается с чувством невозможности изменить свое положение. Похожее отношение иллюстрирует соотношение аристократии завоевателей и аристократии покоренных народов.
Различия, возникающие между высшими и низшими классами, подчас приводили к переоценке ценностей и формированию новых элит посредством морального, религиозного утверждения превосходства низших классов над высшими. Значительная роль в этом продвижении отводится образованию, оказывающему решающее воздействие на «формирование ресентиментных настроений в классово и сословно разделенных обществах» (с. 50). Л. Фишман подходит к рассмотрению феномена ресентимента с гораздо более широких позиций, нежели родоначальники этой концепции, рассматривая его как разновидность ложного сознания, а концепцию ресентимента в ее изначальном виде – как его критику справа. Классический дискурс ресентимента описывается как критика неуспешных людей и их реакций на свое положение с точки зрения успешных и процветающих – или по крайней мере тех, кто хочет воспринимать себя таковыми (курсив автора) (с. 102).
Наиболее древние истоки исследуемого феномена рассматриваются автором в главе «Архаические формы ресентимента и их значение». Примечательным выглядит образ Ивана-дурака в русских народных сказках как олицетворение не раскрывшего свой реальный потенциал героя, сталкивающегося с определенными трудностями на своем пути, вызванными его ущемленным положением. Социальное унижение героя после определенных испытаний преодолевается получением нового социального статуса. В восточных обществах ресентимент воплощается в положении жрецов, обретающих господствующее положение за счет своих знаний и тайных обрядов. Таким образом они обретают высокий социальный статус благодаря своим личным качествам и заслугам. В своем роде жрецы становятся промежуточным звеном между классом господ и классом рабов, формируя коммуникационное поле между этими классами. Воспроизводя базовый архаический сюжет ресентимента, автор заключает, что «он восходит к отношениям неравенства, распространяющимся скорее на естественную иерархию внутри рода, семьи, между сильными и слабыми, здоровыми и больными, молодыми и стариками и пр.» (с. 71). Однако в дальнейшем на смену аналогии с родственными связями приходит актуализация социальных, классовых отношений, апофеозом которых становится лозунг буржуазных революций – лозунг братства, призванный скрыть неприкрытые противоречия между соперничающими и недоверяющими друг другу сословиями, когда одно из них считает оскорбительным провозглашение его братания с другим.
Феномен ресентимента и его исторические формы. Центральное место в монографии Фишмана занимает глава «Ресентимент: концепция и феномен», где рассматривается современная трактовка исследуемого объекта с позиции его исторических предпосылок. И одной из ключевых его загадок является вопрос о том, почему заимствованный из французского языка термин стал одним из ключевых символов немецкой философии? История Франции играет ключевую роль в развитии концепции ресентимента. В ней произошла Великая революция, способствующая кардинальному перемещению сословий, разрушению социальных и культурных перегородок между различными классами общества. Именно во Франции буржуазия за короткое время превращается в одно из привилегированных сословий, воплощая свою мечту в воссоединении материального достатка и благородства происхождения. В то же время формирование ресентимента происходило здесь уже при Старом порядке в процессе обострения противоречий между ведущими сословиями. Как пишет автор, аристократы и буржуа в рамках этого противостояния взаимно переплетаются своими ресентиментами. Основным фигурантом генезиса ресентимента становится старая аристократия, чья социальная мобильность обретает нисходящий вектор. В этот же период, на рубеже XVI–XVIII вв., наряду с предпосылками ресентимента создаются и предпосылки его преодоления, позволяющие размывать социальные перегородки между ведущими сословиями. К революции «французское общество подходит с рядом нерешенных, обострившихся проблем. Тем не менее оно успевает выработать внутри себя этические и политические дискурсы универсалистско-гуманистического толка, которые далеко выходят за рамки тупикового, варящегося в сословных предрассудках ресентиментного мирооощущения» (с. 86). Восходящий класс вырабатывает просвещенческое мировоззрение, в котором ресентимент присутствует в виде почти не имеющих значения следов, растворяясь в потоке истории. В монографии приводится любопытное свидетельство точки зрения Э. Берка, утверждавшего, что «объективных причин у Французской революции не было, поскольку прежний строй обладал достаточной жизнеспособностью» (с. 98). Поэтому весь смысл французской революции заключался в мятеже против христианской религии со стороны «клики профессиональных литераторов» и их стремления к неограниченной власти. В этом смысле ресентимент не является причиной революций, но выступает важнейшей их предпосылкой, будучи вплетенным в многообразие общественных отношений и оказывающим на них значительное влияние. Несмотря на оспариваемую автором точку зрения Э. Берка, такой взгляд на природу Великой французской революции представляется распространенным, отражая внутренний потенциал ресентиментного мировоззрения.
В Германии и других европейских странах этот процесс будет протекать более эволюционно, а «специфическая принадлежность части нисходящего аристократического и восходящего третьего сословия формируется значительно позже» (с. 86). Однако именно в Германии происходило накопление «завистливой вражды», вызванной последствиями войн, что способствовало формированию особого образа ресентимента с явно выраженным чувством реванша. Ресентимент становится самостоятельным явлением в морали, распространяясь на значительный массив исторических фактов и явлений. Люди, подверженные морали ресентимента, противопоставляются Ницше образу свехчеловека (Übermensch), способного преодолеть ресентимент. Сверхчеловек призван остановить вырождение нравственно-этических и моральных принципов в обществе, подавить в себе животные инстинкты путем обретения неограниченных прав и возможностей.
Дополняет представленную автором картину неравенства между сословиями, на наш взгляд, британский кейс, выраженный американо-сербским экономистом, профессором Университета Нью-Йорка Бранко Милановичем в книге «Видение неравенства: От Французской революции до конца Холодной войны». Миланович считал, что говоря о «законах рынка», А. Смит утверждал, что на достатке простолюдинов строится по-настоящему мощное государство. Полемизируя с А. Янгом, который считал, что низшие классы нужно держать в бедности, иначе они никогда не станут трудолюбивыми, шотландский философ отмечал, что передовое общество не может быть обществом, где рабочим плохо платят. Смит подтверждал свою точку зрения ссылкой на сравнение Испании и Португалии, с одной стороны, и Нидерландами – с другой, где высокий уровень оплаты труда и низкая процентная ставка делали жизнь более привлекательной и способствовали интенсивному развитию этой страны. Такая точка зрения в то время рассматривалась нетривиальной и была реальным вызовом установившемуся в большинстве европейских стран порядку [Milanovic, 2023].
Таким образом, уже к концу XVIII в. складывается несколько точек зрения на исход неравенства между сословиями ряда государств, источниках социальных потрясений и вражды. Все чаще начинает проявляться точка зрения о недопустимости значительных диспропорций в уровне жизни населения, их влияния на благосостояние общества. Важно, что речь идет не просто о равенстве политических прав, а о необходимости формирования условий экономического равенства, для которого в то время отсутствовали объективные основания. Форсирование промышленной революции требовало вовлечения в производственный процесс массовой дешевой рабочей силы, что в конечном счете и проявлялось в невозможности уравнивания политических прав. Развитие промышленной революции, приведшее к расширению масштабов материального производства и повышения политического статуса буржуазии, способствовало также ослаблению роли женщин и оттеснению их в «сферу домашних дел» (с. 149). В этом, по-видимому, и проявлялся кризис демократии в эпоху Модерна, незаинтересованности в ее развитии со стороны ведущих участников политического процесса. Результатом этого становится политика «двойных стандартов», о которой автор пишет в одном из параграфов своей книги. Поэтому, по мнению автора, «неравенство не просто не искореняется, но постоянно находятся новые причины для его обнаружения в очень близких, по существу, социальных группах» (с. 163).
Интересным выглядит анализ феномена прекаризации как питательной среды для ресентимента. Ресентимент является одной из особенностей массового сознания прекариата – класса социально неустроенных людей, не имеющих полной гарантированной занятости. «Прекаризация порождает комплекс чувств, оценки и самооценки, характерных именно для ресентимента» (с. 165). Проводимые в стране исследования прекарита свидетельствуют о широком распространении этого явления в современной России. В составе этого протокласса находится около половины экономически активного населения в России [Голенкова, 2015; Тощенко, 2021]. В России значительная часть трудоспособного населения находится на временной работе, не имея социальных гарантий и оплачиваемого отпуска, многие вынуждены иметь множество подработок, отправляться на сезонные, вахтовые работы. Значительную часть прекариата составляют мигранты, доля которых, по разным оценкам, составляет от 6 до 10 млн человек. Большая часть мигрантов не имеет постоянной работы, вынуждены выполнять свои трудовые функции за сравнительно небольшую заработную плату.
Прекариат не уверен в своем будущем, лишен гарантий социального обеспечения, демонстрируя зависть к удачливым людям, осознавая собственное бессилие. Дополняет озлобленность прекариев осознание, что стоящие на их пути ограничения к обретению устойчивости и благополучия являются искусственными. Принадлежность к прекариату не всегда является признаком невостребованности: люди могут попадать в эту группу просто потому, что их реальные навыки не соответствуют заданным в конкретном обществе стандартам либо связаны с миграционным статусом соискателя.
В то же время заслуживает внимание современная тенденция, связанная с тем, что все большее количество занятых стремится уйти из формального сектора, расширяется доля самозанятых и фрилансеров, составляющих обширную базу прекарита и бросающих вызов традиционному салариату. В современном обществе возникают категории занятых, которые осуществляют свою деятельность вне традиционных форм организации трудовой деятельности. Расширение форм деятельности, связанной с повышением роли информационных услуг, способствует появлению разнообразных форм занятости, не предусматривающих долгосрочных контрактов, не предполагающих выстраивания перспективной карьеры внутри организации-работодателя, не привязанных к конкретному региону. Наряду с классами, сформированными на предыдущих стадиях развития, формируются классы, соответствующие эпохе информационного общества, к коим следует отнести классы владельцев информационного продукта и сетей коммуникации, а также потребителей информационного продукта. В качестве одного из таких классов, к примеру, выступает когнитариат, интеллектуальный творческий труд которого возможен «вне рабочего времени, офиса и с использованием средств производства, компьютеров и иной техники, находящихся в личной собственности создателя информационного продукта. В данных условиях продукт труда становится личной собственностью создателя, но его распространение ограничено сетями коммуникации создателя и его сообщества» [Бреслер, 2023: 71]. Дополняют эту группу лица свободных профессий, для которых возможность извлечения дохода здесь и сейчас расценивается выше, нежели гарантии долгосрочной занятости и стабильность трудоустройства.
Современные тенденции свидетельствуют, что можно говорить об отсутствии фатальности ущемленного положения прекариата, его возможности сформировать свою субъектность, стать классом «для себя». Информационное общество способно к созданию предпосылок, позволяющих осознающим себя неперспективными субъектам сохранять шансы на улучшение своего положения.
Судьбы ресентимента в современном мире. В то же время сложившиеся социально-экономические условия делают менее адекватными противопоставления традиционных политических сил (левых-правых, капитализм-социализм), перенося их в сферу политических ярлыков с заданным для них набором штампов и клише. Однако, поскольку в современном обществе нет зон, свободных от ресентимента, то и понимание нормы становится предметом толкования и столкновения между различными политическими силами.
В меньшей степени внимание автора, на наш взгляд, уделено трансформации феномена ресентимента в современном мире, где тенденция якобы расширения демократических институтов приходит в противоречие с тенденциями нарастающего экономического неравенства. Уклонение собственника от обязательств перед своими работниками, рост безработицы и отмена ряда жизненно значимых социальных гарантий сопровождаются утверждениями правительственных чиновников о приверженности ценностям демократии, сокращении дистанции в уровне благосостояния между социальными стратами. Тем не менее примечательной тенденцией последнего столетия, в соответствии с точкой зрения французского исследователя Т. Пикетти, выступает резкий рост имущественного неравенства, сопровождающий замедление темпов экономического роста. Эта ситуация приводит к существенной концентрации общественного богатства в руках ограниченного круга лиц, наделенных дополнительными возможностями серьезного политического влияния [Пикетти, 2015]. Это неравенство нарастает в условиях зрелой демократии и информационной открытости, вызывая неоднозначную реакцию со стороны одних общностей относительно других. Кроме того, популярными в этих условиях становятся глобалистские лозунги, исходящие из приоритета международных проблем над национальными. Социальную базу ресентимента формируют целые страны и континенты, представители которых выражают недовольство сложившейся системой распределения имущественных благ и политического влияния. К примеру, многие развивающиеся страны считают себя обделенными при принятии международными организациями решений по климату, продовольственной безопасности и пр. Помимо проблем глобального экономического неравенства, огромную популярность обретают сегодня идеи экологической безопасности, ограниченности благоприятных условий жизнедеятельности, неравного доступа к удовлетворению своих экологических потребностей со стороны различных категорий граждан и регионов.
Перспективным представляется рассмотрение тенденций в развитии современного российского общества, где проблемы экономического неравенства соседствуют с не менее серьезными проблемами неравенства между регионами. Рост различий в уровне жизни между регионами формирует своеобразную форму регионального ресентимента, способствующего росту регионального сепаратизма и утрате консолидирующих общество ценностей национального единства. Даже в мировом спорте стала формироваться ярко выраженная тенденция на оттеснение из соревновательного поля сильных конкурентов по поводам, не соответствующим спортивным критериям.
Безусловным украшением монографии Л. Фишмана является ее заключительный пассаж о феномене смердяковщины в развитии российского общества, его ресентиментном значении в истории России. Положение героя Достоевского Смердякова как бастарда, высказывающего в разговоре с Марьей Кондратьевной явно непатриотические высказывания, выступает весьма симптоматичным для сложившейся в настоящее время ситуации, когда значительное количество граждан страны допускает похожие высказывания. В то же время образ Смердякова можно трактовать и с позиции бунта против своего положения, против существующего порядка. Таким образом, явление смердяковщины во многом является продуктом неправедности общества, наличия в нем двусмысленности и лживости.
Заключение. Монография Л. Фишмана является своевременным и актуальным обобщением сложившихся к настоящему периоду тенденций в сфере непрекращающейся с давних пор борьбы между волей сильных (господ) и волей слабых (рабов, «толпы») слоев населения, венцом которой становится система моральных ценностей, порождающих чувство протеста и недоверия одних к другим. Возникший как феномен зависти и мести со стороны людей, стоящих на определенных ступенях социальной и духовной лестницы, ресентимент проявляет себя как комплекс чувств ущемленных в чем-то категорий населения, который может быть рассмотрен в качестве инструмента политического давления одной социальной группы на другие. В процессе своей эволюции ресентимент воплощается в разнообразные формы политического и социального противостояния социальных групп, возникающего по поводу неравного доступа к ресурсам, информации или принятию решений. По меткому выражению Д. Оруэлла, среди равных всегда находятся самые равные, способные обратить в свою пользу достигнутые результаты общественного производства. И это обстоятельство всегда будет питать психологию ресентимента, закладывать ее в основу различные формы противодействия сложившемуся социальному порядку. В монографии Л. Фишмана ресентимент представлен как исторически развивающийся феномен, раскрывающий все новые и новые грани своего содержания на различных этапах развития современного общества. И в этом заключается ее важное эвристическое значение, способствующее расширению дальнейших исследований.
Исследование выполнено за счет гранта Минобрнауки России в форме субсидий из федерального бюджета на проведение крупных научных проектов по приоритетным направлениям научно-технологического развития (соглашение от 12 июля 2024 г. № 075-15-2024-639).
1 Фишман Л. Неравенство равных: концепция и феномен ресентимента. М.: Изд. Дом ВШЭ, 2024. 270 с.
Об авторах
Олег Михайлович Рой
Институт философии и права Уральского отделения РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: roi_omsk@mail.ru
доктор социологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник
Россия, ЕкатеринбургСписок литературы
- Бреслер М. Г. Когнитариат. Специфика формирования и перспективы развития в России // Дискурс-Пи. 2023. Т. 20. № 4. С. 65–81. doi: 10.17506/18179568_2023_20_4_65.
- Голенкова З. Т., Голиусова Ю. В. Прекариат как новая группа наемных работников // Уровень жизни населения регионов России. 2015. № 1(195). С. 47–57. EDN TQALIF.
- Пикетти Т. Капитал в XXI веке / Пер. с англ. М.: Ad Marginem, 2015.
- Тощенко Ж. Т. Публичный и приватный жизненный мир прекариата: основные черты и ориентиры // Социологические исследования. 2021. № 11. С. 24–36. doi: 10.31857/S013216250016200-3.
- Milanovic B. Visions of inequality From the French Revolution to the End of the Cold War. Harvard University Press, 2023. ISBN: 9780674264144.
- References
- Bresler M. G. (2023) Cognitariat. Specifics of formation and development prospects in Russia. Diskurs-Pi [Discourse-Pi]. T. 20. No. 4: 65–81. (In Russ.)
- Golenkova Z. T. Goliusova Yu.V. (2015) Precariat as a new group of hired workers. Uroven’ zhizni naseleniya regionov Rossii [Living standards of the population of Russian regions]. No. 1(195): 47–57. (In Russ.)
- Piketty T. (2015) Capital in the XXI century. Moskow: Ad Marginem. (In Russ.)
- Toshchenko Zh. T. (2021) Public and private life world of the precariat: main features and guidelines. Sotsiologicheskiye issledovaniya. [Sociological studies]. No. 11: 24–36. (In Russ.)
- Milanovic B. (2023) Visions of inequality From the French Revolution to the End of the Cold War. Harvard University Press.