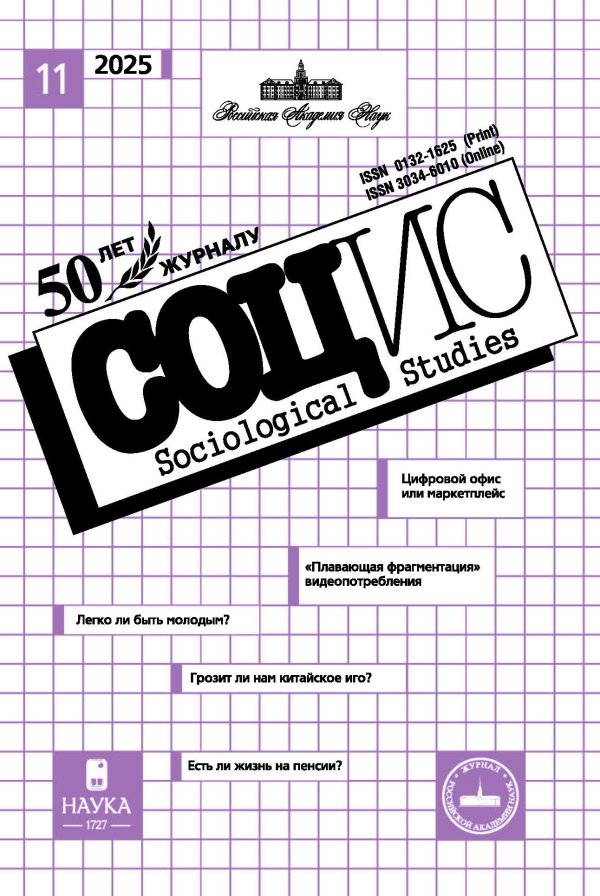Цифровые навыки в регионах России
- Авторы: Попов Е.В.1
-
Учреждения:
- НИУ «Высшая школа экономики»
- Выпуск: № 6 (2024)
- Страницы: 65-75
- Раздел: СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
- URL: https://bakhtiniada.ru/0132-1625/article/view/263306
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132162524060065
- ID: 263306
Полный текст
Аннотация
В статье представлен анализ уровня цифровых навыков в региональном разрезе. На основе данных Росстата демонстрируется дифференциация субъектов РФ по ключевым компонентам уровня цифровой грамотности населения: информационным и коммуникационным навыкам, способностям решать ежедневные задачи и умению работать с программным обеспечением. Выстроенная в процессе анализа кластерная модель позволила определить три отличающихся по данным компонентам группы регионов: лидеры (21 регион); середняки (43 региона) и отстающие (21 регион). Среди лидирующих регионов выделяются Омская, Мурманская области и город Москва, среди отстающих – республика Северная Осетия, Магаданская и Еврейская автономная области. Выявлено, что на общий уровень цифровой грамотности в регионах влияют экономические показатели: средний индекс физического объема ВРП и валовой добавленной стоимости, средний размер заработной платы, а также ценностная компонента – в частности, положительная оценка влияния цифровых технологий на жизнь.
Ключевые слова
Полный текст
Проблематика исследования. Большинство исследований региональной специфики цифровой грамотности фокусируется на федеральных округах [Федосеева и др., 2022] или конкретных регионах [Гладкова и др., 2019]. Отсутствие возможности анализа цифровых навыков на уровне всех субъектов России давно обсуждается исследователями [Груздева, 2020]. Эта лакуна имеет системный характер: довольно сложно и накладно сконструировать репрезентативную для России региональную выборку. Единственное исследование, которое реализуется на репрезентативной по половозрастной и региональной структуре России выборочной совокупности, проводится Росстатом1. Но публикуемые им данные в контексте цифровой грамотности не включают в себя индекс и субиндексы уровня цифровых навыков, которые, к примеру, по умолчанию рассчитываются Евростатом. Такое положение дел ведет к сложностям аналитического толка: бо́льшая часть отечественных исследований цифровой грамотности в субъектах России при попытке преодолеть недоступность индексных показателей уровня навыков опирается на создание прокси-переменных, заменяющих индексные значения (см., напр., [Земцов и др., 2022; Варламова, 2022]). В частности, используются показатели, описывающие практики обращения к порталу «Госуслуги», покупки товаров в сети и т. п. Насколько адекватна подобная аппроксимация – сложно судить, но видится, что после пандемии коронавируса практика онлайн-шопинга, например, стала если не нормой, то довольно распространенной, и репрезентирование через нее уровня цифровых навыков может приводить к системным завышениям значений.
Настоящее исследование направлено на минимизацию возможных негативных эффектов описанного аппроксимирующего подхода. Анализ осуществлен на регионально репрезентативных данных Росстата посредством применения к ним методологии определения уровня цифровых навыков Евростата (2015) (более подробное описание методологии см. в [Индикаторы цифровой экономики, 2022: 319]). Ключевым методом выступает кластерный анализ, который позволяет очертить границы цифрового разрыва между регионами и определить ориентиры по базовым показателям уровня цифровых компетенций населения.
Методологическое введение: контуры исследовательского поля. Вопросы развития и измерения цифровых навыков 2 начинают появляться в международной повестке с середины 1990-х гг. (рис. 1). В 1996 г. Европейская комиссия выпускает экспертный отчет по внедрению цифровых технологий в общество3, в котором эскизно описываются первые этапы цифровизации и ее влияние на социальные аспекты. В 1998 г. Центром исследований и статистики науки (Россия) проводится один из первых опросов об отношении населения к ИКТ, практиках и навыках их использования. Однако на тот момент компьютеры и Интернет были в стране редкостью: доля респондентов, имевших опыт использования компьютера, составляла 17%, а Интернета – 4% [Гасликова, Гохберг, 2001]. Аудитория регулярных пользователей была еще меньше – на 1999 г. всего лишь 2,3%4. В этот же год исследовательский центр Ромир запустил проект «Мониторинг Интернета». В 2000 г. ФОМ инициировал запуск проекта «Интернет в России / Россия в Интернете» [Гохберг, Бох-Нильсен, 2007]. Все эти исследования не были объединены общей методологической рамкой, а цифровые навыки рассматривали поверхностно. В конце 1990-х исследовательские центры стремились не столько оценить практики, сколько получить срез пользователей в количественном распределении.
Рис. 1. Эволюция методологии и основные вехи оценки цифровых навыков
Первые методологические руководства по измерению использования населением ИКТ публикуются в нулевых годах5. Но это не сразу инициировало массовые исследования цифровых практик на институциональном уровне. В этот период формируется академическая традиция исследования цифровизации общества6. Появляются значимые для поля концептуальные работы, посвященные «цифровым аборигенам» – лицам, родившимся и социализировавшимся во время активного распространения цифровых технологий, и «цифровым мигрантам» – тем, кто вынужден приспосабливаться к цифровому миру [Prensky, 2005]. Публикуются эмпирические работы, описывающие связь между объемом времени, проведенного в сети, и репертуаром практик пользователя, а также их качеством [Gil-Garcia et al., 2006; Hargittai, Hinnant, 2008]. Институциональное изучение цифровых практик и навыков населения до 2007 г. вообще не входило в повестку – в то время для исследовательских институций было важнее оценивать масштабы цифровизации вообще, а не применение конкретных ресурсов цифровой инфраструктуры. Регулярное исследование цифровых навыков населения в Европе запускается в 2007 г., когда Евростат начинает опрашивать домохозяйства по тематике использования ИКТ [Гохберг, Бох-Нильсен, 2007]. Но такие исследования давали общие представления о том, какая часть населения реализует те или иные цифровые практики.
Комплексный подход к аналитике цифровых практик и уровня навыков на институциональном уровне стал применяться с 2013–2015 гг., когда ОЭСР инициировала обследование навыков взрослого населения (PIAAC), Росстат запустил ежегодный опрос населения об использовании ИКТ, а Евростатом была разработана теоретическая рамка DigComp, включающая в себя области компетенций и дающая возможность измерить интегральный уровень цифровых навыков населения по нескольким направлениям7. В 2021 г. эта рамка под влиянием пандемии COVID-19 была уточнена: теперь в ней особое внимание уделяется навыкам цифровой безопасности 8 (рис. 1).
Последним большим проектом по исследованию цифровых компетенций населения в России является Мониторинг цифровой трансформации экономики и общества, проведенный коллективом ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 2022 и 2024 гг. [Кузина и др., 2023; Попов, 2023] с использованием обновленной методологии Евростата DigComp 2.2.
Концептуальное введение: контуры академического поля. Попробуем эскизно описать состояние конвенционального академического поля цифровых исследований – в том числе цифровых навыков. Базовой концептуальной рамкой рассматриваемого поля является трехуровневый подход к аналитике цифрового неравенства, которое понимается как диспропорция в распределении доступа, навыков и эффектов [Aissaoui, 2022]: 1-й уровень: различия в уровне доступа к технологиям цифровой инфраструктуры; 2-й уровень: отличия в навыках использования ресурсов цифровой инфраструктуры; 3-й уровень: разница в последствиях использования цифровой инфраструктуры, в её воздействии на пользователей.
В настоящее время повышенное внимание ученых сосредоточено на третьем разрыве. Но попытки его операционализации пока проходят процесс конвенционализации: реализованные операциональные определения не могут считаться исчерпывающими по той причине, что рассматривают положительные аспекты использования Интернета [Кузина, Попов, 2023], не уделяя внимания рискам и негативным аспектам цифровизации – интернет-зависимости, тревожным расстройствам, кибербуллингу и т. п. Помимо этого, компоненты третьего уровня цифрового неравенства пока не включены ни в одну институциональную исследовательскую методологию (ни Росстата, ни Евростата) и остаются академической исследовательской прерогативой. Поэтому адекватных инструментов исследования и баз данных по третьему уровню неравенства – в которых сочетались бы высокая концептуальная точность и методическое соответствие – в России нет.
Аналитика регионального неравенства в уровне доступа к технологиям цифровой инфраструктуры (первый уровень) в отечественных исследованиях представлена обширно (см., напр.: [Садыртдинов, 2020]). Главными его причинами в субъектах России являются экономические – стоимость подключения к сети и доходы населения [Земцов и др., 2022]. Исследования, которые фокусируются на втором уровне регионального неравенства (в данном случае за скобками оставлены аппроксимирующие исследовательские тактики, о которых писалось в начале статьи), чаще всего оперируют в терминах практик, то есть рассматривают распространение и неравное распределение конкретных действий в сети (см., напр.: [Груздева, 2020]).
Нижеследующая часть статьи посвящена анализу второго уровня регионального неравенства в более проработанном с методологической точки зрения направлении. В исследование введена апробированная методология Евростата по оценке уровня цифровых навыков. То есть акценты переносятся с конкретных практик на их группы и количество. Также предпринимается попытка объяснения причин регионального разрыва в навыках использования ресурсов цифровой инфраструктуры через анализ базовых социально-экономических характеристик. Рассчитываются показатели-ориентиры, которые могут служить базовыми индикаторами оценки цифрового разрыва второго уровня в регионах в будущем.
Методология исследования и данные. Эмпирической базой исследования послужили данные Росстата по форме статистического наблюдения 1-ИТ «Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей» (N = около 154 000 человек в возрасте от 15 лет и старше). В основе построения выборочной совокупности – результаты Всероссийской переписи населения 2010 г. Выборка – многофазная. Главное преимущество исследования Росстата – широкий географический охват респондентов – в выборочную совокупность попадают жители всех субъектов РФ (за исключением присоединенных к РФ по результатам референдумов 2022 г.), что позволяет более детально работать с региональными сюжетами.
Уровень цифровых навыков оценивается по методике DigComp Евростата (2015), в рамках которой производится оценка компетенций работы с информацией, коммуникации, работы с ПО и выполнением рутинных практик, а также вычисление на основе этой оценки интегрального индекса уровня цифровых навыков [Индикаторы цифровой экономики, 2022: 319]. Ключевой исследовательский метод статьи – кластерный анализ.
Региональное цифровое неравенство второго уровня. Проведенные ранее исследования показывают, что в России выделяются лидирующие с точки зрения формальных показателей цифровизации общества регионы, – те, в которых высока доля домохозяйств, подключенных к сети, доля пользователей, выходящих в интернет ежедневно, а также минимальна доля жителей, которые обладают цифровыми навыками на низком уровне. Это, в частности, Москва, Мурманская область, Санкт-Петербург [Попов, Стрельцова, 2022]. Выделяются и регионы, в которых дела обстоят не так благополучно. Проблема ли это для таких субъектов? Ответ на этот вопрос зависит от того, как понимается цифровизация. В исследовательской повестке она, как и любой социологический феномен, рассматривается двояко: цифровизация несет как очевидные выгоды – развитие демократических методов взаимодействия, снижение негативной нагрузки на окружающую среду за счет разработки интеллектуальных промышленных систем, распространение информации (в том числе академических текстов) в цифровом формате [Федорова и др., 2020], – так и явные негативные последствия: рост безработицы и прекаризацию, дегуманизацию общественной жизни, цифровую сегрегацию (неравенство) [Кузнецов, 2020]. В рамках статьи цифровизация рассматривается как полноценный социальный факт. Цифровизация стала не просто правительственным проектом, но полноценным образом жизни и мышления. Если человек хочет пойти на футбольный матч высшего дивизиона России – он должен скачать себе на телефон приложение с цифровым fan-ID. Цифровизация перестала быть опцией, которую можно выбрать или от которой можно отказаться, приняв роль цифрового диссидента или неолуддита [Jones, 2013]. Она превратилась в безальтернативную реальность, в которой наиболее комфортно себя чувствуют те, кто занимает верхние позиции по шкалам неравенств трех уровней, которые рассмотрены ранее.
Кластерный анализ данных по субъектам России, сосредоточенный на втором цифровом разрыве, проведенный на данных Росстата за 2022 г.9, показывает, что российские регионы можно разделить на три группы в зависимости от степени развития цифровых навыков населения (табл. 1, рис. 2).
Таблица 1. Средние значения основных параметров построения кластерной модели, инфраструктурных и социально-экономических показателей
Параметры | 1-й кластер – Лидеры | 2-й кластер – Середняки | 3-й кластер – Отстающие | Входит в кластерную модель | Значимые различия доли пользователей с высоким уровнем навыков по показателю (по всем регионам)1 |
Базовый и выше общий уровень цифровой грамотности (в % от популяции кластера) | 48 | 37 | 25 | + | – |
Навыки работы с информацией (в % от популяции кластера) | 75 | 67 | 58 | + | нет |
Коммуникативные навыки (в % от популяции кластера) | 85 | 78 | 74 | + | нет |
Навыки решения повседневных задач (в % от популяции кластера) | 76 | 66 | 57 | + | нет |
Навыки работы с программным обеспечением (в % от популяции кластера) | 54 | 44 | 35 | + | да |
Положительная оценка влияния технологий на жизнь (в % от популяции кластера) | 80 | 74 | 71 | – | да |
Выход в сеть каждый или почти каждый день (в % от популяции кластера) | 84 | 78 | 78 | – | нет |
Использование ПК каждый или почти каждый день (в % от популяции кластера) | 84 | 75 | 73 | – | нет |
Среднемесячная заработная плата в регионах кластера (в рублях) | 77 598 | 59 239 | 58 582 | – | да |
Индекс физического объема валового регионального продукта и валовой добавленной стоимости (в процентах к предыдущему году) | 101, 97 | 100, 52 | 98, 82 | – | да |
Примечание. На основе результатов однофакторного дисперсионного анализа, где доля лиц с базовым и выше уровнем навыков – зависимая переменная, а факторы – остальные показатели, указанные в табл. 1.
Рис. 2. Кластеры регионов по цифровым навыкам
Примечание. Данные по регионам, вошедшим в состав РФ в результате референдумов 2022 г., пока не собираются Росстатом
В первую группу (лидеры) вошли регионы с высоким уровнем развития цифровых навыков; далее следует кластер регионов (середняки), в которых население демонстрирует средние показатели развития цифровых компетенций; третий кластер (отстающие) составили регионы, которые отстают от первого и второго по основным показателям цифровой грамотности населения.
1-й кластер включает в себя 21 регион, где у жителей в равной мере хорошо развиты все группы навыков:
- навыками работы с информацией обладает в среднем 75% населения;
- коммуникативными навыками – в среднем 85% населения;
- навыками решения повседневных задач – в среднем 76% населения;
- навыками работы с программным обеспечением – в среднем 54% населения.
Доля обладающих общим базовым и выше уровнем цифровой грамотности в среднем составляет 48%. Подавляющее большинство населения регионов данного кластера пользуется компьютером какого-либо типа хотя бы раз в месяц – 84% (против 72% во 2-м и 3-м кластерах), интернетом – каждый или почти каждый день (84%).
В среднем в регионах кластера 80% населения отмечает сильное положительное влияние ИКТ на жизнь: во 2-м и 3-м кластере таковых 74% и 71% соответственно. Средний размер заработной платы здесь составляет 77 598 рублей в месяц, а средний индекс физического объема валового регионального продукта и валовой добавленной стоимости – 101,97.
Лидером кластера является Омская область, в которой 70% населения обладает цифровыми навыками на базовом уровне или выше. Регион демонстрирует одно из самых сильных увеличений данного показателя – с 2019 по 2022 г. на 26 п. п. Сопоставимый с этим показатель в кластере демонстрирует только Республика Калмыкия (+27 п. п.).
2-й кластер – самый многочисленный и объединяет 43 региона, показатели цифровой грамотности населения которых ниже, чем в субъектах первого кластера:
- навыками работы с информацией обладает в среднем 67% населения;
- коммуникативными навыками – в среднем 78% населения;
- навыками решения повседневных задач – в среднем 66% населения;
- гнаыками работы с программным обеспечением – в среднем 44% населения.
В регионах кластера в среднем 37% населения обладает цифровой грамотностью на базовом уровне или выше – на 11 п. п. меньше, чем в Кластере 1. Меньше в кластере и тех, кто ежедневно или почти ежедневно выходит в сеть – 78%. Средний размер заработной платы в регионах кластера составляет 59 239 рублей в месяц, а средний индекс физического объема валового регионального продукта и валовой добавленной стоимости – 100,52.
Лидер кластера – Томская область, в которой на 2022 г. 46% населения обладают цифровыми навыками на базовом уровне или выше, и этот показатель в регионе стабилен: с 2019 по 2022 г. его значение увеличилось на 3.п.п. Наибольшее увеличение доли таких пользователей отмечено в Ульяновской (+16 п. п.); Псковской (+13 п. п.) и Калининградской (+11 п. п.) областях, в республике Удмуртия (+12 п. п.).
3-й кластер объединяет 21 регион, где цифровые навыки у жителей развиты слабее всего:
- навыками работы с информацией обладает в среднем 58% населения;
- коммуникативными навыками – в среднем 74% населения;
- навыками решения повседневных задач – в среднем 57% населения;
- навыками работы с программным обеспечением – в среднем 35% населения.
Доля тех, у кого цифровая грамотность развита до базового уровня или выше, в регионах кластера в среднем равняется 25% – на 12 п. п. ниже по сравнению со вторым и на 23 п. п. ниже по сравнению с первым кластером. В регионах кластера в среднем 78% населения каждый или почти каждый день выходит в сеть. В то же время 4% населения использует смартфон реже одного раза в три месяца, а 17% никогда не пользовались компьютером (для сравнения – в 1-м кластере только 10% населения регионов никогда не пользовались ПК).
Лидером кластера является Костромская область, в которой 32% жителей обладают цифровыми навыками на базовом уровне или выше. По этому показателю регион демонстрирует стабильность – с 2019 по 2022 г. он вырос на 3.п.п. Наибольший рост в рамках кластера характерен для Чеченской республики (+14 п. п.), а наибольшее падение – для Республики Северная Осетия (–18 п. п.). Средний размер заработной платы в регионах составляет 58 582 рубля, а средний индекс физического объема валового регионального продукта и валовой добавленной стоимости – 98,82.
Методологическая рефлексия. Компиляция основных итогов проведенного анализа (табл. 1) позволяет сформулировать совокупные результаты исследования цифрового разрыва второго уровня (в навыках) на региональном уровне в России.
Обнаружено влияние экономических факторов на уровень цифровой грамотности в регионах: люди обладают более высоким уровнем цифровых навыков в тех субъектах, где выше средний индекс физического объема ВРП и валовой добавленной стоимости, а также выше средний размер заработной платы. Подобные выводы отечественные исследователи делают и в контексте изучения первого уровня регионального цифрового неравенства [Земцов и др., 2022].
Зафиксировано влияние ценностной компоненты на цифровую грамотность: уровень цифровых навыков выше у жителей регионов, где население более положительно оценивает влияние цифровых технологий на их жизнь.
На региональном уровне общая степень развития цифровых навыков населения сильнее всего зависит от того, насколько развиты его навыки работы с программным обеспечением.
Выявлены аналитические границы, которые позволяют очертить список субъектов, где население сильнее включено в процесс цифровизации, и тех, где слабее. Это помогает количественно оценить основные параметры регионального цифрового неравенства второго типа. Ориентирами в контексте цифровой грамотности на уровне регионов предлагается считать средние показатели второго кластера (табл. 1).
Необходимо отметить и основные ограничения исследования. Так в кластерную модель были включены только переменные, характеризующие второй уровень цифрового неравенства, – в навыках использования цифровой инфраструктуры. Обнаруженные связи между дополнительными переменными (экономическими и инфраструктурными) показывают, что для будущих исследований было бы вполне плодотворной тактикой включение в статистические модели этих показателей.
Важно уточнить специфику методологии сбора анализируемых данных: Росстат использует самооценку респондентами их уровня навыков. При сопоставлении этих данных с данными, собиравшимися по методологиям, применяющим внешние оценочные методики, может обнаруживаться существенное расхождение. Кроме того, при динамическом рассмотрении данных Росстата может обнаруживаться их неустойчивость – значения показателей могут заметно различаться в связи с изменением формулировок вопросов в разные годы проведения опроса, что, в свою очередь, приводит к различию моделей, выстраиваемых по базам данных разных годов.
Заключение. Описанное исследование является первым шагом на пути к построению систематического подхода к анализу цифрового неравенства в регионах России – подхода, основанного на апробированных методологических инструментах, а не аппроксимации, позволяющего очертить границы неравенства второго типа, определить лидеров и отстающих среди регионов России. В дальнейшем этот подход может использоваться исследовательским сообществом и органами государственного или муниципального управления (например, применение ориентиров, которые были предложены в статье, для оценки уровня цифровых компетенций в региональной политике). Следующим шагом в данном направлении видится подключение к анализу иных уровней цифрового неравенства – первого (различия в доступе к ресурсам цифровой инфраструктуры) и третьего (различия в конвертации цифровых навыков и доступа к цифровой инфраструктуре в офлайн-выгоды).
1 Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/business/it/ikt22/index.html (дата обращения: 13.07.2023).
2 Под цифровыми навыками в современном дискурсе понимаются компетенции людей в области применения персональных компьютеров, Интернета и других видов ИКТ.
3 European Commission (1996) Building the European Information Society for Us All.
4 Циркон (2001) Российская интернет–аудитория: оценки, тенденции, прогнозы. Аналитический обзор по данным различных исследований. URL: https://www.zircon.ru/upload/iblock/a30/Rossijskaja_Internet–auditorija_Obzor_razlichnyh_issledovanij.pdf (дата обращения: 10.07.2024).
5 OECD (2003) measuring ICT usage and electronic commerce in households/by individuals. A model questionnaire; Eurostat (2006). Methodological Manual Information Society. Surveys v2.1; Synthesis Report of the European e–Skills Forum (2004) E–Skills for Europe: Towards 2010 and Beyond.
6 В 2010-х гг. в общую исследовательскую повестку включаются и отечественные академические исследователи. Наиболее ярким примером является проект по изучению цифровых навыков российских пользователей под руководством Г. Солдатовой [Солдатова и др., 2013], в рамках которого авторами предлагается оригинальная методология расчета цифровых навыков.
7 European Commission (2013) DIGCOMP: A Framework for developing and Understanding Digital Competences in Europe. URL: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC83167 (дата обращения: 13.07.2023).
8 European Commission (2022) Measuring Digital Skills across the EU: Digital Skills Indicator 2.0. URL: https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/inspiration/resources/digital-skills-indicator-20-measuring-digital-skills-across-eu (дата обращения: 13.07.2023).
9 Для анализа использовалась процедура двухэтапного кластерного анализа по переменным, характеризующим долю населения, обладающего базовым или выше уровнем цифровых навыков по группам навыков и совокупно. Модель, состоящая из трех кластеров, принята путем проверки моделей с различным количеством кластеров методом Краскела – Уоллеса, так как обладает наименьшей суммарной ошибкой.
Об авторах
Евгений Владимирович Попов
НИУ «Высшая школа экономики»
Автор, ответственный за переписку.
Email: epopov@hse.ru
кандидат социологических наук, преподаватель департамента социологии, младший научный сотрудник Института статистических исследований и экономики знаний
Россия, МоскваСписок литературы
- Варламова Ю. А. Межпоколенческий цифровой разрыв в России // Мир России. Социология. Этнология. № 2. С. 51–74.
- Гасликова И. Р., Гохберг Л. М. Информационные технологии в России. М.: ЦИСН, 2001.
- Гладкова А. А., Гарифуллин В. З., Рагнедда М. Модель трех уровней цифрового неравенства: современные возможности и ограничения (на примере исследования Республики Татарстан) // Вестник Московского ун-та. Сер. 10. Журналистика. 2019. № 4. С. 41–72.
- Груздева М. А. Цифровые навыки и бонусы использования цифровых услуг: признаки территориальной асимметрии // Human Progress. 2020. Т. 6. № 4. С 1–12.
- Дмитриев Я. В., Алябин И.А и др. Развитие цифровых навыков у студентов вузов: де-юре vs де-факто // Университетское управление: практика и анализ. 2021. Т. 25. № 2. С. 59–79.
- Земцов С. П., Демидова К. В., Кичаев Д. Ю. Распространение Интернета и межрегиональное цифровое неравенство в России: тенденции, факторы и влияние пандемии // Балтийский регион. 2022. Т. 14. № 4. С. 57–78.
- Индикаторы цифровой экономики: 2022: статистический сборник. М.: НИУ ВШЭ. 2022.
- Кузина Л. С., Попов Е. В. Реальные преимущества виртуального мира // Экспресс информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 2023. URL: https://issek.hse.ru/news/839773040.html (дата обращения: 01.06.2023).
- Кузина Л. С., Попов Е. В., Щербаков Р. А. Почти все домохозяйства в России выходят в сеть на высоких скоростях // Экспресс информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 2023. URL: https://issek.hse.ru/news/828416272.html (дата обращения: 01.06.2023).
- Кузнецов Н. В. Всеобщая цифровизация и социальные риски // Общество: политика, экономика, право. 2020. № 10 (87). С. 42–47.
- Попов Е. В. Как пандемия повлияла на уровень цифровых навыков россиян // Экспресс информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 2022. URL: https://issek.hse.ru/news/704025190.html (дата обращения: 01.06.2023).
- Попов Е. В. Особенности измерения цифровой грамотности в России // Социологические исследования. 2023. № 11. С. 51–61.
- Попов Е. В., Стрельцова Е. А. Цифровые навыки населения в регионах // Экспресс-информация ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. 2022. URL: https://issek.hse.ru/news/767681612.html (дата обращения: 29.08.2023).
- Прохоров П. Э. Статистическая оценка развития цифровых навыков занятого населения в Российской Федерации //Статистика и экономика. 2022. Т. 19. № 3. С. 25–38.
- Садыртдинов Р. Р. Уровень цифровизации регионов России // Вестник Челябинского госун-та. 2020. № 10(444). С. 230–235.
- Статистика информационного общества в России: гармонизация с международными стандартами / Под ред. Л. М. Гохберга, П. Бох-Нильсена. М.: ГУ-ВШЭ, 2007.
- Федорова Н. В., Минченкова О. Ю., Макеева В. Г. Возможности и риски цифровизации экономики и общества //Наука и искусство управления. 2020. № 3/4. С. 25–37.
- Федосеева С. С., Глезман Л. В., Елькин С. А. Цифровая грамотность населения как основа развития цифровой экономики в России и регионах // Управленческий учет. 2022. № 11–3. С. 948–955.
- Цифровая компетентность подростков и родителей. Результаты всероссийского исследования. М.: ФРИ, 2013.
- Aissaoui N. The digital divide: a literature review and some directions for future research in light of COVID-19 // Global Knowledge, Memory and Communication. No. 8/9. P. 686–708.
- Gil-Garcia J.R., Helbig N. C., Ferro E. Is it only about internet access? An empirical test of a multidimensional digital divide // Electronic Government, Proceedings. 2006. Р. 139–149.
- Hargittai E., Hinnant A. Digital inequality: Differences in young adults’ use of the internet // Communication Research. 2008. No. 5. P. 602–621.
- Jones S. E. Against technology: From the Luddites to neo-Luddism. N. Y.: Routledge. 2013.
- Prensky M. “Digital Natives, Digital Immigrants Part 1” // On the Horizon. 2001. Vol. 9 No. 5. P. 1–6. doi: 10.1108/10748120110424816.