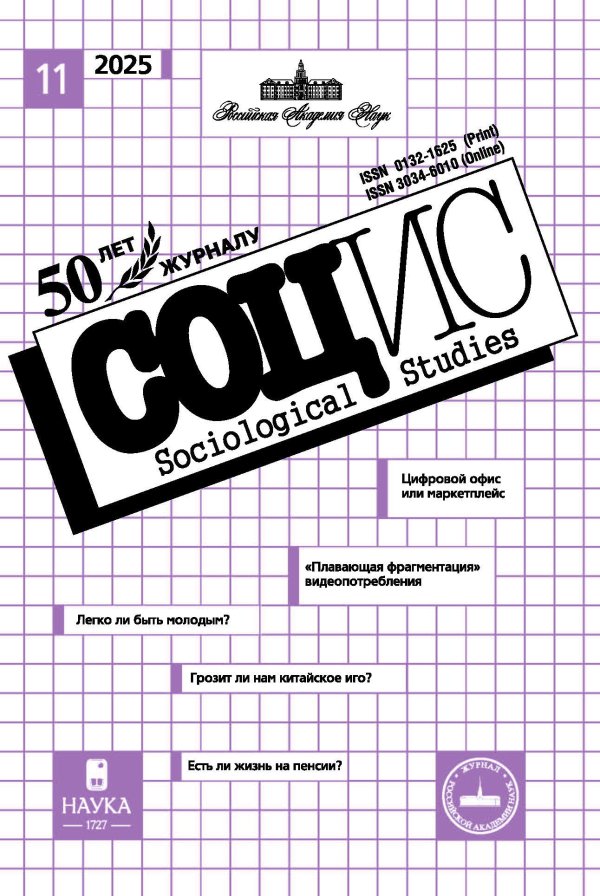Social well-being and ethnicity in the context of urbanization processes among the Yakuts
- Authors: Vasileva O.V.1
-
Affiliations:
- Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North of SB RAS
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 63-72
- Section: ЭТНОСОЦИОЛОГИЯ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0132-1625/article/view/257044
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132162524010069
- ID: 257044
Full Text
Abstract
This article considers the problem of social well-being of an ethnic group in the context of urbanization processes. One of the ethnic groups of Russia, the Yakuts (Sakha), was chosen for analysis. The data of a sociological study on the project “The Republic of Sakha (Yakutia) and big challenges: social well-being, mobility and adaptation strategies” are presented. The main reflection of social well-being in this article is the emotional state of the respondents and their subjective assessment of their own socio-economic situation. The answers of 765 respondents who noted their belonging to the Yakuts are analyzed. In a comparative vein, an analysis of social well-being in urban and rural areas was carried out. It was revealed that, despite the fact that, in general, the financial situation of Sakha citizens is better than that of the villagers, the estimates of the emotional state look more positive in rural areas. The respondents who assessed their socio-economic situation as unfavorable assess their emotional state most negatively. The dependence of assessments of the emotional state on the significance of ethnic identity has been revealed. Possible factors contributing to the formation of this situation are proposed. It has been suggested that the loss of close communication and social ties within the Sakha-speaking and mono-ethnic environment when moving to the city is more problematized for the most disadvantaged segments of the population, which causes a feeling of depression, apathy, and indifference.
Keywords
Full Text
В России как уникальном многонациональном государстве при реализации национальной политики на федеральном и региональном уровнях следует учитывать этносоциальные процессы, одним из них является урбанизация. Участие в урбанизации различных этнических групп и общностей России неравновесное, что имеет свои последствия во многих сферах жизни общества – от демографии и экономики до этноязыкового разнообразия и культуры. В силу данных обстоятельств урбанизация изучается в контексте решения множества вопросов: от формирования социальной политики до поддержания баланса заселенности тех или иных территорий в рамках национальной безопасности страны. Представляет интерес и исследование социального самочувствия населения в городской и сельской среде как один из индикаторов оценки этносоциальных процессов.
Якуты (саха) к настоящему времени еще не прошли стадию так называемого урбанизационного перехода, когда более половины общей численности этнической группы проживает в городской местности. Напротив, значительная доля якутов являются жителями сельских территорий. В данной статье рассмотрим социальное самочувствие этой этнической группы, сравнив горожан и селян. Проведенное исследование позволит нам не только проследить тенденции урбанизационных процессов у якутов, но и выяснить возможные причины сохранения такой структуры расселения в регионе, при которой значительная часть населения саха проживает в сельской местности. Данное обстоятельство обычно связывают с поздним вовлечением этнических групп в индустриализацию и сохранением традиционного хозяйства, что во многом верно. Однако представляется, что сохранение сельского образа жизни в Якутии может быть обусловлено и другими факторами.
Теоретические основы. При анализе этносоциальных процессов мы ориентируемся на исследовательскую традицию отечественных ученых [Арутюнян, Дробижева, 2000: 12; Попков, Тюгашев, 2009: 93], работы которых раскрывают взаимосвязь социальных и этнических процессов. Этносоциальные процессы – это социальные события, процессы, связи, явления, происходящие в этнически маркированном социальном пространстве [Дробижева, 2006: 92]. Ю. В. Попков определяет этносоциальные процессы как устойчиво-динамическую систему развивающегося взаимодействия этносоциальных субъектов и изменения этих субъектов в данном процессе, характеризуя их как единство устойчивости и изменчивости, регулируемости и стихийности, объективности и субъективности [Попков, 2023: 19]. Этносоциальные процессы, таким образом, являются продуктом взаимообусловленного и взаимозависимого развития этнических групп, общностей и отдельных носителей этнической идентичности. Урбанизацию как отражение развития этнических субъектов можно рассматривать как часть этносоциальных процессов.
А. А. Черкасов отмечает, что большинство этнических групп в России уже прошли стадию урбанизационного перехода, но есть народы, у которых он еще не состоялся, такие как марийцы, чеченцы, удмурты, башкиры, коренные народы Севера и др., к ним же относятся и якуты [Черкасов, 2018: 110]. По его мнению, процессы урбанизации этносов приводят к изменению социокультурного, конфессионального ландшафта, хозяйственной специализации многих населенных пунктов, что должно быть учтено государственными органами власти в части политики гармонизации межэтнических отношений [Черкасов, 2016: 240]. Однако проблемы социального самочувствия в условиях процессов урбанизации им не затрагиваются.
Р. А. Гресь приходит к выводу, что в городской среде этническое поле разрушается. При его отсутствии происходит дезадаптация этнических субъектов, что дестабилизирует всю систему идентичностей человека и может приводить к отрицательным последствиям. В частности, этот процесс выводит на передний план другие, зачастую искусственные, идентичности, а также химерные конструкции, наподобие тех, которые культивировались в Германии в 1930-х гг. [Гресь, 2017: 57]. Таким образом, отмечается, что снижение роли этнической идентичности в городской среде приводит к увеличению возможностей внедрения в сознание чуждых ценностей и идей.
Различия в развитии этничности и межэтнических отношений в городской и сельской местности фиксируются региональными исследованиями. Так, социологическое исследование, проведенное в Хакасии, показало, что урбанизация не только оказывает влияние на национальную хакасскую культуру и традиции, но также формирует новые социальные стратегии поведения хакасов [Тиникова, 2020: 539]. М. Н. Чистанов отмечает, что потеря этнической идентификации в городской среде для современного человека зачастую обозначает ценностную дезориентацию и потенциальную опасность распада личности [Чистанов, 2021: 2102].
В Республике Саха (Якутия) процессы этнической урбанизации были зафиксированы исследованиями А. И. Аргунова [Социальное развитие..., 1984], В. Б. Игнатьевой [1984] и Д. Г. Брагиной [2021]. Ими были проанализированы демографические сдвиги, раскрыты особенности трансформации образа жизни сельских и городских саха-якутов. Интерес представляют работы А. Г. Томаска, которая в своих текстах анализирует территориальную и социальную мобильность якутов и других коренных народов Республики Саха (Якутия) [Томаска, 2017].
Таким образом, исследования показывают, что процессы урбанизации сказываются на образе жизни, социальных паттернах, самовосприятии представителей этнических групп. Можно предположить, что изменения, которые происходят в городской среде с этническими культурами, могут отражаться на социальном самочувствии представителей этнических групп. Однако современные исследования, которые бы касались проблемы социального самочувствия населения в контексте усиливающихся процессов урбанизации в Якутии, отсутствуют.
Этнодемографический облик современной Якутии в XX в. формировался под влиянием нескольких факторов – индустриализации и следующей за ней миграции и урбанизации, в то же время коренные народы Якутии в разной мере были подвержены влиянию этих процессов. Расселение якутов в рамках страны нельзя назвать дисперсным, в этом отношении стабильно сохраняется ситуация, при которой в границах Республики Саха (Якутия) проживают 98,9% всех россиян, указавших свою принадлежность народу саха (якутам)1. Современный этап развития характеризуется активными этномиграционными процессами в основном у иных народов, проживающих в Якутии, что приводит к формированию «новой» этнической картины региона.
Согласно результатам переписи 2020 г. за последний межпереписной период количество людей, которые не указали свою национальную принадлежность, увеличилось с 2,5 до 14,8% (146 918 чел. в 2020 г.). При этом в городе доля лиц, не указавших национальность, существенно выше, чем в сельской местности, – 21,7 против 0,6%2. Данное обстоятельство не позволяет в полной мере оценить, каким образом меняется этническая картина в городах. Резкий рост числа лиц, не указавших свою национальную принадлежность, может быть связан с изменением методики проведения переписи (появление возможности заполнения переписных листов онлайн), однако в то же время указывает на то, что значение национальной принадлежности для немалой части горожан не очень велико.
Также следует отметить процессы снижения доли русских среди населения Якутии – с 36,8% в 2010 г. до 27,8% в 2020 г. Доля якутов (саха) незначительно сократилась с 48,6% до 47,1%; доля других народов составила 10,3%, из них лиц, указавших национальности бывших республик СССР, – 4,1%3.
К особенностям этносоциальной ситуации относится проявленность этнических границ в социальном пространстве Республики Саха (Якутия). Самым зримым из них является исторически сложившееся расселение этнических групп республики. Жителями сельской местности, как правило, являются представители коренного населения – якуты (саха) и малочисленные народы Севера. Русские и представители иных национальностей проживают в основном в городах и рабочих поселках. Так, в городской среде доля якутов в 2010 г. составляла 30%, в то время как в сельской местности – 81,9%. По результатам переписи 2020 г. в сельской местности доля якутов достигла 83,6%, еще 8,8% составляют коренные малочисленные народы Севера (эвенки, эвены, юкагиры, долганы, чукчи), 5,8% – русские. В городской среде доля русских – 38,7%, доля якутов – 29%, 21,7% не указали национальную принадлежность, 10,6% – другие народы.
Распределение этнических групп в пространстве имеет непосредственную связь с этническим разделением труда в республике, а также с сохранением традиционных хозяйственных практик. В советский период Якутская АССР (образованная в 1922 г.) вступила с крайне низким уровнем социально-экономического развития, ее производственная специализация среди других регионов страны преимущественно была связана с развитием животноводческого хозяйства [Бурнашева, Игнатьева, 2020: 64]. Данное обстоятельство предопределило этнические границы разделения труда в регионе, поскольку направленность на развитие животноводства в сельской местности сохранялась длительное время. В настоящий момент Республика Саха (Якутия) также развивает животноводческое хозяйство и даже занимает лидирующие позиции среди регионов ДФО по количеству скота, хотя социально-профессиональная структура якутов претерпела в XX в. колоссальные изменения. Уже в советское время для якутов была характерна сравнительно высокая доля работников, занятых в сферах управления, просвещения, здравоохранения, науки, культуры и искусства. Русское население Якутии отличалось более высоким удельным весом квалифицированных рабочих, прежде всего, в промышленности. Это предопределило то, что в 1990-е гг. после развала Советского Союза имевшиеся в сфере приложения труда этнические границы отчетливо проявились через миграционный отток русского населения вследствие спада промышленного производства и потери рабочих мест.
Этнические особенности имеет и репродуктивное поведение населения Якутии. По общему коэффициенту рождаемости республика находится в первой десятке субъектов Российской Федерации во многом за счет репродуктивного контингента якутов (саха) [Мостахова, 2017: 785]. При этом в городской и сельской местности репродуктивное поведение якутов отличается [Игнатьева и др., 2020]. По данным демографов, в сельской местности сохраняется расширенное воспроизводство населения, в городской – уже нет. Исследования определили, что репродуктивные ориентации людей той или иной национальности зависят от того, компактно ли они проживают в данном регионе или, наоборот, «растворены» в населении другой(их) национальности(ей), так как это может влиять на степень приверженности национальной культуре [Архангельский, 2006: 120].
Как уже отмечалось, до недавнего времени якуты являлись одной из наименее урбанизированных этнических групп России. По данным В. Игнатьевой, в 1959 г. лишь 16,9% якутов были горожанами, в 1970 г. доля якутов-горожан составляла 22,9%; в 1979 г. – 24,3%; в 1989 г. – 25,1% [Игнатьева, 1994: 89]. При этом доля горожан среди якутов не возросла значительно на фоне общего увеличения их численности. Такая картина складывается под влиянием традиций репродуктивного поведения якутов, стремления к формированию больших семей, многодетности.
В постсоветское время процессы урбанизации ускорились. В 2010 г. доля горожан среди якутов достигла 37,4%, а к настоящему времени, по данным переписи, составляет минимум 41,6% населения (значительная часть горожан не указали своей национальной принадлежности в ходе переписи)4. Процессы урбанизации не только не прекращаются, но и имеют тенденцию к ускорению ввиду упадка социальной инфраструктуры села. Региональные органы власти не способны повсеместно обеспечить обновление и расширение социальной инфраструктуры при дисперсном расселении на громадной территории Якутии. Это вызывает центростремительные миграционные процессы, причем большая часть якутов предпочитает переезжать в Якутск, что способствует миграционному приросту в столице [Бреславский, 2020] и приводит к изменению её этносоциальной структуры. В 1989 г. якуты составляли 25,1% населения Якутска, русские – 62,4%, другие – 12,5%. В 2002 г. якуты составляли 42%, русские – 46,1%, другие – 12%. В 2010 г. якуты составляют уже 47%, русские – 38,4%, другие – 14,6%5. Последняя перепись, к сожалению, не дает полного представления о национальном составе столицы, поскольку лишь у 66,8% населения в переписных листах указана национальная принадлежность. Среди этой части столичных жителей якуты составляют 59,2%, русские – 26,3%, другие – 14,5%.
Выталкивающими факторами в сельской местности являются сокращение социальной инфраструктуры [Игнатьева и др., 2020: 190], отсутствие рабочих мест, низкая заработная плата. По данным статистики, в Якутии проживание в селе существенно повышает вероятность попадания в социальную категорию бедного населения, что связано, с одной стороны, с меньшим количеством рабочих мест, с другой – с большим количеством детей в семье.
Об исследовании. В период с ноября 2021 г. по февраль 2022 г. был проведен анкетный опрос в рамках проекта «Республика Саха (Якутия) и большие вызовы: социальное самочувствие, мобильность и стратегии адаптации». Для опроса была использована квотная по полу, возрасту выборка репрезентативная для Республики Саха (Якутия). По этническому составу присутствие квот отдельных этнических групп было укрупнено. Сам опрос в связи с пандемийными ограничениями проводился в смешанном формате. Часть массива данных (959 ответов) была набрана с помощью онлайн-опроса и впоследствии скорректирована (144 ответа были исключены). Другая (550 ответов) была собрана при помощи формализованного опроса face-to-face. В итоге общий объем массива в данном исследовании составил 1365 опрошенных (доверительный интервал 95%, погрешность 3,5%).
В целях реализации задач данной статьи из общего числа опрошенных была выделена группа респондентов якутской национальности. Их количество в общем массиве составило 765 респондентов, из них 743 (97,1%) указали тип поселения, в котором они проживают. В выборке: 48,3% – мужчины, 58,7% – женщины; в сельской местности проживают 49%, в городе – 51%. Далее в статье будут рассматриваться эти данные.
Настроения и установки этнической группы якутов (саха) стали объектом исследования в данной статье. Социальное самочувствие представляет собой устойчивое отражение в сознании людей основных параметров объективных и субъективных условий качества жизни, но, главным образом, фиксирует эмоциональное, субъективное переживание. В статье мы сфокусируемся на таком индикаторе социального самочувствия, как эмоциональное состояние. Оно измерялось через оценку респондентом своего эмоционально-психологического состояния посредством выбора одного из предложенных вариантов ответа: эмоциональный подъем; спокойствие и уравновешенность; безразличие, апатия, подавленность; тревога, страх; раздраженность, озлобленность, агрессия. Субъективная оценка социально-экономического благополучия измерялась с помощью традиционного закрытого вопроса о доходах с шестью позициями. Полученные данные были ранжированы с перекодировкой крайних позиций («1»+«2»; «5»+«6») и сведены к четырем группам: бедные, малообеспеченные, среднеобеспеченные и обеспеченные.
Социальное самочувствие сельских и городских саха (якутов). Сопоставим оценку социально-экономического благосостояния и эмоционального благополучия якутов в городской и сельской местности. По данным исследования, социально-экономическое положение в сельской и городской местности в субъективных оценках различается (табл. 1). В городе фиксируется более оптимистичная картина, по-видимому, связанная с тем, что здесь больше возможностей для трудоустройства, учебы, повышения качества жизни; в сельской местности больше бедных респондентов.
Таблица 1
Социально-экономические группы якутов в разрезе типа поселения, в %
Социальные группы | Город | Село | Всего |
Бедные | 17,8 | 22,8 | 20,2 |
Малообеспеченные | 35,6 | 41,3 | 38,4 |
Среднеобеспеченные | 37,8 | 23,9 | 31,1 |
Обеспеченные | 8,8 | 12 | 10,3 |
Респондентам было также предложено оценить личное эмоционально-психологическое состояние (табл. 2). Так, безразличие, апатию, подавленность намного чаще отмечают у себя горожане (20,1 против 12,8%), а спокойствие, уравновешенность и эмоциональный подъем в большей степени отмечают селяне (62,2 против 58,6% и 8,8 против 4,2% соответственно). Можно предположить, что на эмоциональное состояние людей оказала влияние пандемия, на время которой пришелся опрос, ведь ограничения в передвижении в городе были более жесткими.
Таблица 2
Эмоциональное состояние якутов в разрезе типа поселения, в %
Эмоциональное состояние | Город | Село | Всего |
Эмоциональный подъем | 4,2 | 8,8 | 6,4 |
Спокойствие, уравновешенность | 58,6 | 62,2 | 60,3 |
Безразличие, апатия, подавленность | 20,1 | 12,8 | 16,6 |
Тревога, страх | 11,1 | 10,2 | 10,7 |
Раздраженность, озлобленность, агрессия | 6,1 | 6 | 6 |
____________
Примечание. Ответы на вопрос «Оцените ваше личное эмоционально-психологическое состояние». Выбрать можно было один вариант ответа.
Интересно, что в сравнении с общероссийскими данными картина по Якутии относительно эмоционально-психологического состояния выглядит более позитивной. Наиболее заметные различия наблюдаются в том, что в 2021 г. на всероссийской выборке более отчетливо проявились чувства тревоги и страха 28%, в меньшей степени чувства спокойствия и уравновешенности 43% [Российское общество..., 2022: 52].
Очевидно, что среди якутов как в городской, так и в сельской местности чаще всего испытывают подавленность, безразличие и апатию люди с наиболее неблагополучным социально-экономическим положением. Причем в городской среде эта тенденция выражена намного сильнее. Так, среди бедных, проживающих в городах, 31,3% указали, что испытывают безразличие и апатию, в то время как на селе таковых всего 19,5% (среди малообеспеченных – 21,6 и 13,7% соответственно; среднеобеспеченных – 16,9 и 8,4%). Таким образом, бедные и малообеспеченные слои населения в сельской местности в меньшей степени подвержены негативному эмоциональному состоянию, нежели жители города. Выявлено также, что у горожан безразличие, апатия и подавленность характерны как для мужчин, так и для женщин, в то время как на селе основную долю респондентов, ответивших подобным образом, составляют мужчины.
Возникает вопрос: с чем связано негативное эмоциональное состояние горожан? Вероятно, один из факторов – это разочарование мигрантов в возможностях социальной мобильности при смене места жительства. Согласно данным исследования, пиковые значения по числу лиц, испытывающих апатию и безразличие, наблюдаются у мигрантов из села, проживающих в городе около 10 лет (28,1%). Чаще подавленность испытывают люди, получившие неполное высшее и среднее специальное образование. В то время как на селе подавленность чаще характерна для лиц с полным средним образованием, но не имеющих никакого профессионального образования.
Следует учитывать, что социально-экономическое положение и уровень образования являются статистически взаимозависимыми категориями. На выборке в целом можно видеть четкую корреляцию между субъективной оценкой социально-экономического положения и уровнем образования. В городе среди людей со средним специальным и неполным высшим образованием доля лиц, указавших на материальное неблагополучие, выше, чем среди тех, кто получил высшее образование. В сельской же местности пиковая частота количества лиц (37,5% среди лиц со средним общим образованием), отнесших себя к бедным, наблюдается среди людей, не имеющих никакого профессионального образования. Также надо учитывать включение значительной части сельских переселенцев в низкодоходные группы населения Якутска, создающее ситуацию конкуренции с мигрантами из других регионов страны и ближнего зарубежья. Последние в основном претендуют на занятость в тех же сегментах региональной экономики, на которые ориентированы внутренние трудовые ресурсы с низкой квалификацией.
Ранее мы выявили, что наиболее негативное отношение к трудовым мигрантам испытывают наименее обеспеченные люди с низким уровнем образования и отсутствием властного ресурса. Борьба за рабочие места с невысокой квалификацией становится источником роста «антимигрантских» настроений в принимающем обществе, а также, по-видимому, оказывает влияние на эмоциональное состояние мигрантов из сельской местности [Васильева, 2020].
Еще одним фактором, оказывающим влияние на сложившуюся ситуацию, является потеря близких социальных контактов. Как указывал И. А. Аргунов, миграция из села в город в XX в. являлась для якутского населения не только пространственным перемещением, но и глубокой социальной перестройкой и была сопряжена с дополнительными трудностями [Социальное развитие..., 1984]. Исследователь отмечал, что при сельском типе расселения, характерном для якутов, доминирует внутринациональное родственное и соседское общение [там же], в городе такое общение выстроить сложнее.
Как показывают результаты опроса, городские жители в меньшей степени рассчитывают на свое окружение, чем селяне (табл. 3). Сельская местность характеризуется более плотными сетями общения и взаимовыручки, нежели городская, которая несколько атомизирует людей. Переезжая в города, люди стараются сохранить родственные, земляческие связи, но уже не могут рассчитывать на поддержку в том объеме, в котором она возможна при проживании в одном населенном пункте.
Таблица 3
Распределение ответов на вопрос: «На кого в своей жизни вы можете рассчитывать?» по типу поселения, в %
Варианты ответа | Город | Село | Всего |
На себя | 65,9 | 56 | 61,1 |
На поддержку семьи, родственников, друзей | 28,6 | 37,1 | 32,7 |
На поддержку земляков, национальной общины | 1,9 | 0,8 | 1,3 |
На поддержку со стороны государства | 3,7 | 6 | 4,9 |
Влияние урбанизации на манифестацию этнической идентичности амбивалентно. Анализ данных опроса показал, что для якутов (саха), проживающих в городах, этническая консолидация имеет меньшую значимость, по сравнению с живущими на селе. Предлагалось выбрать одно из двух суждений. С первым «современному человеку не обязательно чувствовать себя частью национальности» согласились 41,4% якутов-горожан и только 25,1% из сельской местности. Со вторым утверждением «современному человеку необходимо ощущать себя частью этнической группы» в большей степени согласны селяне (74,9 против 58,3%). Надо отметить, что оба утверждения сформулированы абстрактно: речь идет не столько о личном выборе респондента, сколько о его представлениях о людях и обществе.
В то же время проблемы реализации этнической культуры более остро стоят именно в городской местности. К примеру, на вопрос «Удовлетворены ли вы состоянием вашего родного языка в населенном пункте проживания и в целом в республике?» городские саха (якуты) чаще выбирали ответ «скорее и полностью не удовлетворен» (20,4 и 6,1% соответственно против 13,4 и 1,4%). Однако в целом уровень удовлетворенности высокий – скорее удовлетворены 52,4% в городе и 55% в селе, а полностью удовлетворенных в селе больше (24,9 против и 16,1% соответственно).
По результатам исследований якутских социолингвистов, тенденция к снижению уровня владения якутским языком была перекрыта влиянием продолжающейся миграции сельского сахаязычного населения [Иванова, 2022: 190]. Однако это может быть временным явлением, поскольку в условиях полиэтничного города общение зачастую происходит на русском языке, который служит языком межэтнического общения. Кроме того, обучение на якутском языке с 1 по 11 класс в условиях Якутска невозможно, хотя является желательным для сахаязычных жителей города [Иванова, 2018: 161]. Малообеспеченные и бедные горожане из числа саха действительно чаще заявляют о своей неудовлетворенности свободно выражать свою этническую принадлежность через поддержание культуры, традиций, праздников. Представляется, что культурные мероприятия менее доступны для наиболее неблагополучных слоев населения из числа саха (якутов).
Снижение значимости этнической консолидации напрямую сказывается на доле респондентов-якутов, испытывающих апатию и подавленность. Так, среди тех, кто согласился с утверждением, что современному человеку необходимо ощущать себя частью этнической группы, «безразличие, апатию и подавленность» испытывают лишь 13,3%, в то время как среди тех, кто считает, что современному человеку не обязательно чувствовать себя частью этнической группы, – 23,3% (если говорить о городском срезе, то тут разрыв еще больше – 13 и 29% соответственно). Таким образом, этническая идентичность, ориентированность на интересы этнической группы, для якутов является одним из факторов, оказывающих влияние на эмоциональное состояние.
Заключение. Более низкие темпы урбанизации якутов в сравнении с другими этническими группами России имеют глубокие связи как с экономикой, так и со стратегиями взаимодействия внутри этносоциальной сети, этнокультурными особенностями. Проведенное исследование позволило выявить зависимость эмоционального состояния от типа населенного пункта проживания якутов (саха). Наиболее часто апатия, подавленность обнаруживаются у наиболее бедной части населения как в сельской, так и в городской местности. Однако у сельчан данное эмоциональное состояние возникает реже, чем у горожан, что, по всей видимости, связано с более плотными сетями социального взаимодействия в сельской местности, а также с возможностью рассчитывать на поддержку окружающих. Одним из факторов, воздействующих на эмоциональное состояние, является ориентированность на собственную этническую идентичность. Респонденты, для которых этническая консолидация не является значимой, чаще указывали, что испытывают негативное эмоциональное состояние.
1 Итоги Всероссийской переписи населения – 2020. Т. 5. Национальный состав и владение языками. Табл. 1: Национальный состав населения Российской Федерации.
2 Итоги Всероссийской переписи населения – 2020. Т. 5. Национальный состав и владение языками. Табл. 1: Национальный состав населения Республики Саха (Якутия).
3 Там же.
4 Итоги Всероссийской переписи населения – 2020. Т. 5. Национальный состав и владение языками. Табл. 1: Национальный состав населения Республики Саха (Якутия).
5 Итоги Всероссийской переписи населения – 2002. Т. 5. Национальный состав, владение языками, гражданство населения Республики Саха (Якутия); Итоги Всероссийской переписи населения – 2010. Т. 4. Национальный состав и владение языками, гражданство населения Республики Саха (Якутия); Итоги Всероссийской переписи населения – 2020. Т. 5. Национальный состав и владение языками.
About the authors
Olga V. Vasileva
Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North of SB RAS
Author for correspondence.
Email: ovasileva.igi@mail.ru
Cand. Sci. (Polit.), Senior Researcher
Russian Federation, YakutskReferences
- Arkhangelsky V. N. (2006) Fertility factors. Мoscow: ТЕIS. (In Russ.)
- Arutiunian YU.V., Drobizheva L. M. (2000) Ethnosociology: past and new horizons. Sotsiologicheskie Issledovaniya [Sociological Studies]. No. 3: 11–21 (In Russ.)
- Bragina D. G. (2021) Ethnic features of the settlement of the Yakuts in the late XX and early XXI centuries. Interaktivnaya nauka [Interactive science]. No. 4 (59): 13–16. (In Russ.)
- Breslavsky A. S. (2020) Urbanization processes in the Sakha Republic (Yakutia): the dynamics of key parameters (1989–2018). Urbanistika [URBAN STUDIES]. No. 1: 68–81. (In Russ.)
- Burnasheva N. I., Ignatieva V. B. (2020) M. K. Ammosov: a prominent national leader of the early soviet period. Vestnik RUDN. Ser.: Istoriya Rossii [RUDN Journal of Russian History]. Vol. 19. No. 1: 63–77. (In Russ.)
- Cherkasov A. A. (2016) Ethnic aspects of urbanization in Russia. Stavropol. (In Russ.)
- Cherkasov A. A. (2018) Features of involvement in urbanization processes of ethnic groups in Russia. Nauka. Innivacii. Tehnologii [Science. Innovation. Technologies]. No. 4: 105–116. (In Russ.)
- Chistanov M. N. (2021) Visual turn in the structure of ethnic identification and self-identification of urban residents. Innovatsii. Nauka. Obrazovanie [Innovations. Science. Education]. No. 46: 2102–2107. (In Russ.)
- Drobizheva L. M. (2006) Methodological problems of ethnosociological research. Sociologicheskij zhurnal [Russian Sociological Journal]. No. 3/4: 89–101. (In Russ.)
- Ethnosocial processes in Yakutia: a modern perspective and development prospects. (2020) Yakutsk: IGIiPMNS SO RAN. (In Russ.)
- Gres R. A. (2017) On the issue of the impact of the urbanization process on the intensity of ethnic and quasi-ethnic identities. Simvol nauki: mezhdunarodnj nauchnyj zhurnal. [Symbol of Science: International Scientific Journal]. No. 9: 51–57. (In Russ.)
- Ignatieva V. B. (1994) National composition of the population of Yakutia. Ethno-statistical study. Yakutsk. (In Russ.)
- Ivanova N. I. (2018) Lingual disposition of Sakha in education in context of modern extralinguistic realities (based on polls in Yakutsk). Novyje issledovanija Tuvy [The New Research of Tuva]. No. 1: 163–167. (In Russ.)
- Ivanova N. I. (2022) Language situation in the Republic of Sakha (Yakutia): the Yakut language at the beginning of the 21st century, ethnosociopsycholinguistic aspect. Novosibirsk. (In Russ.)
- Mostakhova T. S. (2017) Regional specifics of the reproduction of the population of the northern region and the priorities of demographic policy. Regional`naya ekonomika: teoriya i praktika [Regional Economics: Theory and Practice]. Vol. 15. No. 4: 785. (In Russ.)
- Poghosyan G. (1994) The fate of the Armenian in Armenia. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 10: 150–154. (In Russ.)
- Popkov Yu.V. (2023) Ethnosocial processes in the concept sphere of the Novosibirsk scientific ethnosociological school. Gumanitarnyje nauki v Sibiri [Humanitarian Sciences in Siberia]. Vol. 30. No. 2: 14–23. (In Russ.)
- Popkov Yu.V., Tyugashev E. A. (2009) The subject of ethnosociology: a re-conceptualization. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 3(299): 93–100. (In Russ.)
- Russian society and the challenges of the time. Book 6. (2022). Ed. by M. K. Gorshkov, N. E. Tikhonova. Moscow: Ves’ Mir. (In Russ.)
- Social Development of the Rural Population of the Yakut ASSR: a coll. of scientif. papers. (1984). Ed. by V. I. Boyko. Yakutsk: Yakutskoe kn. Izd-vo. (In Russ.)
- Tinikova E. E. (2020) Features of ethnicity and interethnic relations in the urban and rural environment of Khakasia. Monitoring obshestvennogo mneniya: ekonomicheskie i social`nyje peremeny [Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes]. No. 4(158): 533–548. (In Russ.)
- Tomaska A. G. (2017) Internal migration movement in the Republic of Sakha (Yakutia). Obshestvo: sociologiya, psixologiya, pedagogika [Society: Sociology, Psychology, Pedagogy]. No. 12: 45–49. (In Russ.)
- Vasilyeva O. V. (2019) The Impact of Socio-economic Status on Attitudes towards Migrants in the North-East of Russia. Mir Rossii. Sociologiya. Etnologiya [Universe of Russia. Sociology. Ethnology]. Vol. 28. No. 4: 152–171. (In Russ.)