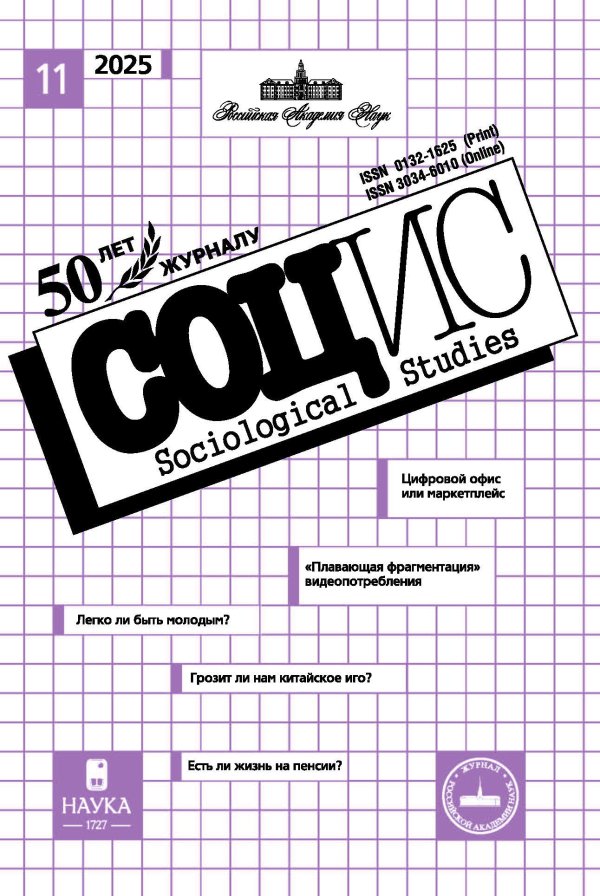Diagnosing the synergically complex risks through the content of the cultural genotype
- Authors: Kravchenko S.A.1
-
Affiliations:
- Institute of Sociology of FCTAS RAS
- Issue: No 8 (2024)
- Pages: 125-136
- Section: ANNYVERSARY
- URL: https://bakhtiniada.ru/0132-1625/article/view/271228
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132162524080102
- ID: 271228
Full Text
Abstract
The article examines the process of the development and complication of risks, starting with the transition from the traditional society to the “risk society” and the “world risk society” and further to the modern society, the essential features of which, according to the anthroposociocultural approach of N. I. Lapin, are “synergistic complexities”. They represent realities as the result of a nonlinear process of their formation in the context of the past, present and future. Their immanent essence is manifested in the self-development, self-organization and hybridization of nature, society, technology, which is expressed in the emergent effects of instability, inequality, and dynamic chaos that cover all the spheres of human life. As a result, risks become qualitatively more complex – they ultimately acquire the synergistically complex nature. However, at all stages of their development, the content of risks is determined not only by global trends of the transformation of the universe, but also by local national factors and the genotype of country’s culture. Seven types of synergistic complexities established in the new Russia and the synergistically complex risks that correspond to them are considered and analyzed. To diagnose these types of risks, the author’s nonlinear humanistic sociological imagination is proposed.
Full Text
Постановка проблемы. Объективное содержание риска и субъективные представления о нем в сознании людей, как правило, различны, т. к. зависят от множества историко-временных, социальных и культурных факторов. В доиндустриальный период доминировала сакрализация рисков; переход от традиционного к индустриальному обществу, воспроизводящему модернизационные инновации и неопределенности, неумолимо выводил риски из сферы сакральных представлений. Проблема научного изучения риска возникла в начале ХХ века – в период индустриального модерна, когда в экономике и повседневной жизни создаются условия, принуждающие людей сознательно выбирать из ряда альтернатив, т. е. рисковать. Одним из «отцов» рискологии считается Ф. Найт, выдвинувший в начале прошлого столетия формально-логический подход к интерпретации феномена риска [Найт, 1994]. Почти сразу его подвергли критике за эмпирическую несостоятельность, расхождение с практикой. Лауреат Нобелевской премии по экономике М. Алле в 1953 г. предложил субъектно-психологический подход: экономические акторы не максимизируют ожидаемую полезность, а стремятся к максимальной надежности [Алле, 1994]. Несмотря на очевидные различия в теоретико-методологическом инструментарии, их объединяет то, что они основывались на «универсализации» принципов формальной рациональности и прагматизма. Лишь в семидесятые годы прошлого века социологи обратились к проблематике рисков: М. Дуглас обосновала культурологический подход. Его квинтэссенция: грань между объективным значением риска и его субъективным восприятием крайне подвижна в различных культурах. Соответственно, социальные группы по-разному воспринимают риски, исходя из специфики приобретенного в конкретных жизненных мирах риск-опыта [Дуглас, 1994; Douglas, 1986] и «культурных предрассудков» [Douglas, 1992].
Становление рефлексивного модерна породило в социологии рискологический бум. Мировая социология ценит его выдающихся представителей Э. Гидденса, Н. Лумана, У. Бека за то, что ими исследованы риски в контексте обусловленности ускоряющимся и усложняющимся развитием природы, социума и технологий. Вместе с тем, как представляется, они абсолютизировали детерминанты рисков, характерные для западного общества, «универсализировав» их специфику. Российские социологи акцент делают на анализе рисков, принимая во внимание особенности реалий национальной культуры, – заметим, в русле идей М. Дуглас. О. Н. Яницкий разработал теорию «России как общества риска» [Яницкий, 2004: 5–15], обосновал положение о культурной детерминации уровня риска: «Для всякого социального субъекта есть социально приемлемый уровень риска, детерминируемый культурой, его собственным опытом и конкретной ситуацией» [Яницкий, 2008: 362]. Ю. А. Зубок сосредоточилась на проблематике управления рисками в социализации молодежи [Зубок, 2007].
Главным фактором воспроизводства усложняющихся рисков «является неравновесность. Неравновесность есть то, что порождает “порядок из хаоса”» [Пригожин, Стенгерс, 2022: 252]. Результатом становится контингентность: «необходимость отбора означает контингентность, а контингентность означает риск» [Луман, 2007: 53]. Рыночные и демократические институты в силу нацеленности на «отбор отбора», по существу, способствуют институционализации рисков. Люди обретают иную природу. Из субъектов они превращаются в рефлексивных акторов, предрасположенных, считает З. Бауман, к рис-ку – выбору предметов, услуг, сфер деятельности и даже идентичностей. В течение жизни неоднократно происходит их смена под воздействием индивидуальных и институциональных рефлексивных акторов [Бауман, 2002]. Дополнительную рискогенность, по его мнению, привносит кризис приватности «текучей современности», обусловленный ослаблением межчеловеческих связей [Bauman, 2011]. Цифровизация социума способствует производству сложных рисков центробежных тенденций, радикально меняющих жизнь людей, особенно молодежи [Кравченко, 2019: 48–57].
В качестве гипотезы выскажем положение: усложнение природы рисков вплоть до становления синергийно сложных рисков детерминировано трендами ускоряющегося, усложняющегося развития всего мироздания, и локально-национальными культурными реалиями. Синергийная сложность не есть космополитически аморфная реальность – ее стержень генотип культуры страны, заложенный в «корневой системе нравственных ценностей и жизненных смыслов, вкусов и норм, критериев оценки человеком себя и окружающего мира» [Горшков и др., 2022: 10]. Россияне и представители других культур рискуют своеобразно: при принятии решений о выборе альтернатив сказываются особенности гео-природных реалий и технико-экономического развития страны, ее места в системе международных отношений, специфика социализации в «домашнем мире», традиции, историческая память, менталитет.
У. Бек, говоря об этапах усложнения рисков, полагает, что риски прошли три качественных этапа развития. Первый: в традиционном и раннем индустриальном обществе зарождаются два типа относительно простых рисков. 1) на макроуровне – риски непредсказуемых природных опасностей, бедствий, на которые нужно как-то реагировать, выбирая альтернативные варианты действий; 2) на микроуровне – личностные риски. Условия жизни были таковы, что рискогенные действия были нетипичны, только отдельные индивиды, проявляя мужество и отвагу (Колумб), осуществляли действия наудачу. Второй этап: на макроуровне – риски, адекватные индустриальному модерну, развитию промышленности с «недостаточной обеспеченностью гигиеническими технологиями»; на микроуровне – риски добровольного принятия опасных практик индустриализации, которые связаны с возможностью утраты здоровья и даже жизни. Третий: 1) на макроуровне – новая генерация сложных рисков «развитого индустриального» (рефлексивного) модерна, которые «в общем и целом продукт передовых промышленных технологий и с их дальнейшем совершенствованием будут постоянно усиливаться»; 2) на микроуровне – риски институциональной индивидуализации: «возникает тенденция к индивидуализированным формам и ситуациям существования, которые вынуждают людей ради собственного материального выживания ставить себя в центр планирования и осуществления собственной жизни… Спираль индивидуализации проникает и внутрь семьи» [Бек 2000: 24, 66, 106, 108].
У. Бек вместе с супругой Э. Бек-Герншейм исследует институциональные риски любви и семьи в книге «Нормальный хаос любви». Ими анализируются риски: в условиях, когда традиции утрачивают функциональность, у мужчин и женщин появляются практически неограниченные возможности создания союзов и выхода из них, что приводит как к свободе, так и новым барьерам на пути реализации жизненных шансов; риски любви и семьи накладываются на карьерные риски, увеличивается число альтернатив организации личной жизни: рождается тип «договорной семьи на время»; меньше людей вступают в брак или делают это значительно позже; разводы и число неполных семей растут, возникает запрос на лечение бесплодия. Квинтэссенция «нормального хаоса любви» – «любовный голод», вера и надежда найти истинную любовь [Beck, Beck-Gernsheim, 1995].
По мнению У. Бека, качественно новый этап в усложнении рисков связан с переходом человечества от «общества риска» к «мировому обществу риска»: «Категория мирового общества риска контрастирует с той, которая обозначает общество риска», что выражается в доминировании инсценированных рисков и «сводится к следующей формуле: глобальный риск есть инсценирование реальности глобального риска… стираются различия между риском и культурным восприятием риска». На этой почве формируется воистину парадоксальная реальность: «Не имеет значения, живем ли мы в мире, который “объективно” более безопасен, чем тот, который был ранее – инсценирование ожидания бедствий и катастроф обязывает нас принять превентивное действие». Социолог конкретизирует суть новых сложных рисков: на макроуровне они приобретают три характерные черты: 1) «делокализованы» (не ограничены одним географическим пространством); 2) «неисчисляемы» (включают «гипотетические» риски, основанные на «нормативном инакомыслии»); 3) «не поддаются компенсациям» (деньгами не восполнить «необратимое климатическое изменение»). На микроуровне: прежние риски институциональной индивидуализации вытесняются рисками радикальной индивидуализации: «Ни наука, ни господствующая политика, ни масс-медиа, ни бизнес, ни правовая система, ни даже военная сила не в состоянии определить и контролировать риски рациональным образом. Индивид вынужден не доверять обещаниям рациональности этих институтов. В силу этого люди отброшены на самих себя: высвобождение без укорененности – есть иронично-трагическая формула для определения размеров индивидуализации в мировом обществе риска» [Beck, 2010: 10, 11, 52, 54].
Из исследований усложнения рисков У. Бек делает ряд выводов, которые вошли в сокровищницу мировой социологической мысли. Их квинтэссенция: идут процессы как усложнения рисков в конкретных сферах, так и образования их «парадоксальных гибридов». Таковы риски «парадоксального гибрида неправовой легитимной войны»: война в Косово «легитимна», хотя велась с нарушением международного права за пределами собственных границ. Аналогичное касается рисков иракской войны, «имеющей бренд неправовой (не)легитимности». Ценны предлагаемые социологом рефлексии гибридных рисков: необходима космополитическая этика, основанная на «истинном прощении», – «прощении непрощаемого». Причем «не только Бог должен прощать, но люди должны прощать людям». Утвердилась космополитическая ответственность: «растет осведомленность, что мы живем в глобальной сети ответственности, из которой никто из нас не может выйти… мир и безопасность Запада более не совместимы с существованием кризисно-бедствующих регионов в других частях мира» [Beck, 2007: 120, 129, 46, 73]. Однако относительно трех положений необходимо дискутировать: 1) «Центр сознания риска лежит не в настоящем, а в будущем. В обществе риска прошлое теряет способность определять настоящее. На его место выдвигается будущее как нечто несуществующее, как конструкт» [Бек, 2000: 39]; 2) «Важным современным фактом является то, что условия человеческого существования стали космополитизированы», «становление космополитической реальности есть также и главным образом функция вынужденных выборов или побочный эффект неосознанных решений», возник «космополитический риск», что востребовало движение «к космополитической социальной науке, или новой грамматике социального и политического» (заметим, сказанное относится к 2007 г. – Прим. С.К.) [Beck, 2007: 2, 19, 33]. На наш взгляд, в этих суждениях имеет место умаление национально-локальной, культурной специфики рисков, значимость которой подчеркивали М. Дуглас, О. Н. Яницкий, Ю. А. Зубок; 3) постулат о «глобальной сети ответственности» не выдержал испытание временем в контексте современных стремлений коллективного Запада сохранить монополию на мировое лидерство, инициируя провокации и кризисы, нелегитимные санкции без какой-либо ответственности за последствия.
Синергийные сложности и адекватные им синергийно сложные риски. Н. И. Лапин обосновал, что в России и мире возникли «синергийные сложности», представляющие собой результат нелинейного процесса их становления в контексте, подчеркнем, прошлого, настоящего и будущего. Происходит диалектическое возвращение к естественно-историческим основаниям с обретением цивилизационного качества собирания и надежной защиты культурного своеобразия и равноценности различных этносов и религий. Как считает ученый, властные элиты не знали сложности общества, которое «построили». Имели место факторы недооценки востребованности инновационных подходов к становящимся синергийным сложностям, функционирование которых обусловлено сложной причинностью – внешними и внутренними факторами саморазвития и самоорганизации: возникли условия, предполагавшие выбор из резко увеличивавшихся альтернатив развития общества. Однако принимались стратегии коренных преобразований страны, для которых «неприемлемы простые решения», что стало «едва ли не решающими предпосылками прекращения уникальных процессов перестройки». В результате возникли риски «массовизации травм», уходящие корнями в прошлое, но обусловливающие усложняющиеся риски для настоящего и будущего устойчивого развития страны. Важнейшие из них: 1) риски целостности страны, вывоз ресурсов и финансовых результатов их использования;
2) недостаток механизмов общественного саморазвития при стремительном увеличении рисков мирового масштаба (пандемия Covid-19 и санкции в отношении РФ);
3) риски неравенств населения, плоской шкалы налогов на доходы;
4) риски социальной противоречивости гражданско-общественной культуры и деградации общей культуры населения вследствие недостатка инвестиций в инновационное развитие государства и избыточное финансирование СМИ, ориентированные на апелляции к «темным сторонам души» человека;
5) риски отчуждения граждан от участия в доходах от природных ресурсов их регионов;
6) риски антропосоциокультурной травмы социализации.
Ответом на эти риски, по мнению ученого, могли бы стать поворот к задачам внутреннего развития страны и ее регионов, переход к всегражданскому самопросвещению посредством исторически сложившихся каналов социализации. «Естественный путь и способ реализации этой возможности состоит в наполнении существующих процессов социализации личности компонентами гражданско-общественной культуры, соответствующей запросам данного общества, цивилизации» (курсив наш. – Прим. С.К.) [Лапин, 2021: 12, 25, 30, 38–43, 53, 74, 187–260, 268, 272, 273]. Сказанное не ставит под вопрос факторы космополитизации и «космополитических рисков», но, по Лапину, особо актуален синергийный антропосоциокультурный анализ рисков, учитывающий их историю, социальную, культурную и цивилизационную специфику. Заметим, спустя десять лет У. Бек, приняв во внимание последствия «цифровой революции» и «цифровой метаморфозы», отметил, что эти процессы распространяются на сферы и паттерны, «которые ранее считались отдельными: сотрудничество и конкуренция; экономика и окружающая среда; равенство и неравенство; солидарность и корысть; локализм и космополитизм [выделено нами. – Прим. С.К.]. Ни одна из этих бинарностей уже не работает» [Beck, 2016: 180].
Отметим семь типов синергийных сложностей и производимые ими синергийно сложные риски, диагностика и управление которыми значимы для устойчивого развития страны.
Первый – гибридная социо-техно/цифро-природная реальность. Как считает Ж. Бодрийяр, наступил «конец социального» [Бодрийяр, 2000], а Э. Гидденс – «конец природы»: «невозможно, я утверждаю, принять какой-либо подход, который пытается в каком-то смысле “вернуться к природе”» [Giddens, 2009: 6]. Дж. Урри утверждал, что гибридизация «социальных и физических/материальных миров» привела их к «полному переплетению» [Urry, 2011: 8]. Из этих суждений следует, что «чистый» социум и аутентичная природа практически больше не существуют. Произошло становление BANI-мира (акроним, обозначающий его имманентные черты): Brittle (хрупкость), Anxious (тревожность), Nonlinear (нелинейность), Incomprehensible (непостижимость) [Cascio, 2020]. Все его сущностные характеристики перманентно воспроизводят синергийные контингенции. К синергийно сложным рискам, обусловленным социо-техно/цифро-природными реалиями, отнесем четыре типа эмерджентных рисков: 1) риски уязвимостей в виде «нормальных аварий; под ними Ч. Перроу понимает несчастные случаи и катастрофы, вызванные не грубыми просчетами человека, а его естественным взаимодействием со сложными технологическими системами, дающими «нормальные» сбои: «серьезные инциденты неизбежны даже при наилучшем менеджменте и полном внимании к безопасности» [Perrow, 1999]; 2) риски «эффекта бабочки»: «Небольшие изменения в прошлом, – пишет Дж. Урри, – способны потенциально произвести огромные последствия в настоящем или будущем… отношения между переменными могут быть нелинейными с внезапным включением происходящего, так что одна и та же причина может в специфических обстоятельствах производить разные виды последствия»; 3) риски «“глобальных гибридов”, находящихся на “грани хаоса”»; к ним Дж. Урри относит информационные системы, глобальные масс-медиа, мировые деньги, Интернет, изменение климата, океаны, опасности здоровью, социальные протесты, распространенные по всему миру [Urry, 2003: 23, 14]; 4) риски становящейся «бестелесности власти» в виде синергийно сложной власти цифрового дискурса [Кравченко, 2024: 65–79].
Второй – синергийно сложные мобильности. Дж. Урри исходит из того, что ныне «все социальные образования от отдельно взятого домашнего хозяйства до огромных корпораций предрасположены к многим и различным формам фактического и потенциального движения», включая «процессы потоков», «движущиеся места», ибо места «подобно кораблям движутся туда-сюда и не фиксированы внутри одного расположения. Места путешествуют внутри человеческих или нечеловеческих сетей». Если раньше социальные мобильности предполагали иерархизацию социума, которому соответствовали рельефно выраженные тенденции горизонтальной и вертикальной мобильности (П. Сорокин), теперь возникли сетевые мобильности, воспроизводящие синергийные контингенции. Выделим четыре их типа: 1) риски неструктурированных мобильностей в виде потоков людей, знаний, денег, которые практически не контролируются государствами; 2) риски саморазвития и самоэкспансии ряда мобильностей, в частности, автомобильной системы – часть из них имеют национально-локальное содержание, часть проявляет себя вне национальных обществ в виде космополитических рисков; 3) риски «постнационального гражданства»: гражданства обретают новое качество – они «не национально-центрированы». Последствия этих рисков, считает Дж. Урри, могут приносить людям и благо, и зло в виде нефункциональностей и дисфункциональностей [Urry, 2008: 6, 18, 42, 189–190]; 4) прежние риски институциональной индивидуализации, считает У. Бек, вытесняются гораздо более сложными рисками радикальной индивидуализации. В соавторстве с Э. Бек-Герншейм им осуществлено исследование их специфики в сфере любви и семьи. По их мнению, главной детерминантой этих рисков является космополитическая культура, воспроизводящая рискогенные реалии в виде «новых гибридных типов мировой семьи», среди которых супружеские пары, продолжающие отношения, но живущие в разных странах; пары, проживающие в одной стране, но супруги родились и социализировались в разных культурах. Для ряда индивидов средством достижения «истинной» любви и решения других важнейших жизненных проблем становится мобильность, миграции; получают развитие мобильности ради суррогатного материнства. Увеличиваются риски конфликтов, обусловленные культурными различиями пар (не забываются ценности, приобретенные в разных жизненных мирах); риски глобальных неравенств имманентно присущи мировым семьям, что проявляется в привилегиях и унижениях, с которым они сталкиваются («жизнь в тени» – на полу- или нелегальном положении одного из супругов); многие риски мировым семьям обусловлены противоречиями правовых систем разных стран, которые проявляются при заключении брака или разводе. Возникают риски смыслу «семьи»: мировые семьи сталкиваются с несовместимыми взглядами на сам союз (выбор: равноправие или мужское доминирование, традиционная социализация детей или воспитание в контексте трансгендерных трендов; у детей в таких семьях практически нет возможности получить информацию о биологических родителях и т. д.). Авторы ратуют за то, чтобы риски радикальной индивидуализации и глобализации любви вошли в предмет современной социологии [Beck, Beck-Gernsheim 2013]. Мы считаем данное предложение актуальным, однако при изучении данной проблематики следует принять по внимание вариант рисков любви по-русски [Иванов, 2010].
Третий – возникает новая синергийная сложность, по Дж. Урри, в виде гибридной «природной, климатической, продовольственной, водной и энергетической системы». Она предрасположена к рискам нового катастрофизма. Среди них: 1) при дисфункциональности в одной из систем изменение в синергийно сложной системе «может не быть постепенным, а случается драматически, одномоментно, в виде стремительного напора»; 2) риски, обусловленные «силой второго закона термодинамики: согласно ему физические и социальные системы движутся к энтропии… Системы характеризуются отсутствием пропорциональности или “нелинейностью” между явными “причинами” и “эффектами”»; увеличивается значимость рисков «продовольственной и водной безопасности»; 3) риски потенциального сокращения нефтяных запасов, экстремальных природных катаклизмов, распространения пустынь, возникновения «высокомобильных заболеваний» и т. д., что в итоге приводит к порождению «инвайронментальных беженцев» [Urry, 2011: 41–42, 36, 44, 45]. Со своей стороны, мы проанализировали интерферентные риски синергийно сложного типа, рассматривая их как цивилизационные вызовы устойчивому развитию России, ответом на которые является защита и воспроизводство социальных практик, основанных на генотипе нашей культуры [Кравченко, 2023: 30–40].
Четвертый – синергийные сложности пространства. Зарубежные исследователи анализируют качественно новые пространственные реалии главным образом через призму теорий глобализации. Общая суть их доминирующих подходов в том, что постулируется американо- (европоцентристский) порядок, основанный на якобы «универсальных» принципах формальной рациональности и прагматизма, при этом элиминируется роль незападных культур. Вместе с тем появились исследования, в которых утверждается, что новый «порядок из хаоса» отрицает возможность «универсальных» путей развития. Эту нетипичную позицию С. Хантингтон выразил так: «Запад – странное, хрупкое, ни на что не похожее образование, которому ни в коем случае нельзя придавать статус общечеловеческого… Западный путь развития никогда не был и не будет общим путем для 95% населения Земли…Запад уникален, а вовсе не универсален» [Huntington, 1996].
Российские ученые комплексно подходят к диагностике синергийно сложного пространства, учитывая его культурное своеобразие в мире и в нашей стране. Зарождение Руси и историческое формирование России обусловлено соседством с пространством двух диаметрально противоположных типов культур – западной и восточной [Пархоменко, 2021]. Как отмечает В. С. Степин, если в генотипе западной культуры вектор общественного развития «направлен вовне, на преобразование мира», то с точки зрения восточной культуры вектор общественного развития и жизнедеятельности общества направлен «не столько вовне, сколько вовнутрь, на самовоспитание, самоограничение, включение в традицию» [Степин, 2011: 12]. Территориальное превосходство России и, как следствие, наибольшее количество соседствующих государств вкупе с их специфичностью на протяжении ряда столетий обуславливали уникальность нашей цивилизации. Однако политики, проводившие перестройку и либеральные реформы, основанные, по существу, на внедрении «универсалий» Запада, не приняли во внимание фактор поликультурной и полирелигиозной специфики российского пространства, что обернулось рисками рассогласования функциональности институтов. Переход страны к открытости как «общечеловеческой» ценности был востребован командой М. Горбачева при разработке «нового мышления». Возникли синергийно сложные риски, обусловленные тем, что границы страны перестали быть охранительными рубежами в отношении западных культурных ценностей. Дело не только в увеличении культурных артефактов, приходивших в страну по каналам глобализации. На практике утверждались неуправляемая открытость и ненормативная свобода, неадекватные генотипу нашей культуры со всеми вытекающими рисками. Сегодня оптимальным ответом на эти риски стало возрождение самобытности российского пространства в контексте новых реалий постсоветской России [Горшков, 2020], создание «мостов» между столицами и регионами, большими и малыми городами, функционирующих с учетом их культурного своеобразия [Столицы и регионы в современной России, 2018], многовариантное развитие народов Севера [Российская Арктика, 2016]. Происходит сбалансированное единение пространственных координат с культурно детерминированными стратификационными изменениями [Тихонова, 2014].
Пятый – синергийные сложности времени. Согласно И. Пригожину, ныне происходит «переоткрытие» времени, связанное с выявлением его культурной, социальной, нравственной и этической составляющих: время – это некоторая конструкция и оно несет некую «этическую ответственность» [Пригожин, 1989: 3–19]. Обосновывается «нелинейность времени» [Князева, Курдюмов, 2007]. Значимой разновидностью синергийно сложного времени, по М. Кастельсу, является «вневременное время», создающее возможности для людей «избавления от контекстов своего существования» [Castells, 2010: xl-xlii]. Из реалий синергийно сложного времени вытекают, соответственно, синергийно сложные риски: народы России живут в разных «темпомирах». Для многих россиян становление вневременного времени стало своего рода социальным капиталом, дающим новые шансы на восходящую социальную мобильность. А отсутствие адекватного доступа к нему стало своеобразным культурным механизмом воспроизводства «национальных особенностей режима исключения», что нашло отражения в теориях андеркласса [Семенова и др., 2019: 358]. Сложность времени, скорость общественных изменений приводит к еще одному типу сложных рисков: россиянам приходится выбирать из альтернатив, учитывая, что увеличивается доля короткоживущего социума и уменьшается доля долгоживущего. Это затрагивает функционирование жизненных референтов: нельзя всецело руководствоваться пришедшим из западной культуры принципом «время – деньги». Вместе с тем полагаем, важно задействовать возрастную этику, характерную для восточных культур, в которых «время – хозяин», распространяя ее на россиян всех возрастов. В индийской культуре сорокалетний человек считается «молодым», в китайской старость наступает после 90 лет.
Шестой – синергийная сложность сознания россиян. Важным его компонентом является историческое прошлое. «Образы истории – это всегда одновременно и прообразы современности». Исследование, проведенное учеными Института социологии РАН, выявило, что особый интерес россиян к отечественной истории «связан во многом с высокой ролью исторического прошлого в консолидации населения как на локальном, так и на страновом уровнях». Выявлены риски самобытности сознания россиян, а также фальсификаций отечественной истории. Произошло «снижение исторических компетенций, в особенности среди молодежи»; «каждый третий россиянин сегодня не может сказать, кем могла бы гордиться страна». Причина тому комплексная – потоки неструктурированной информации о перипетиях отечественной истории, которую россияне получают из кинофильмов, телевидения, художественной литературы и особенно интернета. В синергийную сложность сознания также входят национально-государственные символы. «Наиболее глубокий “водораздел” в восприятии национальных символов обнаруживается между людьми, по-разному видящими желаемое будущее России… Сторонники сближения с Западом, вхождения России в “общеевропейский дом” чаще игнорируют исторические (а с ними и политические) аспекты национальных символов, фокусируясь на политически и исторически нейтральных ассоциациях… в подобных установках прозападно настроенных россиян проявляется желание стать национально и граждански “нейтральными” и дистанцироваться от “российскости”». Этническая и гражданская составляющие формируют скрепы идентичности россиян: «Национальность россияне определяют преимущественно через культуру, а не через “кровь”, биологическое родство… понимание этнической общности через сопричастность общей культуре делает ее границы не “жесткими”, а открытыми для новых членов, и этническую идентичность – изменяющейся под влиянием времени». Вместе с тем возникли новые риски устойчивому и консодализированному развитию страны, среди которых следующие: «националистические идеи чаще других поддерживают россияне без профессионального образования»; «национальный вопрос не только обладает колоссальным центробежным ресурсом, но и способен порождать многопоколенные острые конфликты»; представители определенной социальной группы, обозначенные как «катастрофисты», «чаще других высказываются в поддержку лозунга “Россия для русских”». События на Украине «переносят фокус “русского вопроса” из внутренней политики, где дискурс защиты прав русских циркулировал с середины 2000-х гг., в международное пространство». Особо отметим риски идеологического противостояния. В годы перестройки и либеральных реформ в общественное сознание россиян активно внедрялся миф о «деидеологизации истории», который, по существу, камуфлировал «множественные атаки на историю, попытки ее переосмыслить, заменить ее прочтение как героических страниц на прочтение как страниц идеологического и гуманитарного поражения». Идеологическая борьба существенно усложнилась, распространяясь на наше прошлое, исконные ценности, победы в Великой Отечественной войне, освоение космоса, на современную политику суверенного развития: «идеологическое противостояние фокусируется сегодня и на “актуальной повестке дня”, и на том, что происходило в прошлом» [Горшков, 2022: 17, 20, 21, 25, 27, 78, 39, 40, 50, 244, 59–60, 135, 136,138–140, 247].
Седьмой – национальный человеческий капитал синергийно сложного типа. Опираясь на методологию П. Сорокина, под синергийно сложным человеческим капиталом нами понимается интегральное единство в нем количества и качества человеческих ресурсов, наделяющих россиян способностью быть рациональными мыслителями, сверхсознательными творцами Истины в больших системах науки, техники, экономики, политики, права; Красоты, предполагающей создание шедевров культуры и искусства; Добра, понимаемого как «аккумуляция неэгоистической любви к человеку и человечеству». По мнению Ж. Т. Тощенко, в производстве национального человеческого капитала особо значимую роль играют четыре составляющие – образование, воспитание, наука и здравоохранение. Ныне при его формировании возникли сложные риски, обусловленные травмами человеческого капитала посредством постулатов, заимствованных из западной культуры, о том, что «образование – это услуга», что первостепенное значение играет умение зарабатывать деньги. В результате «университеты ввергнуты в пучины квази-рыночных отношений». В противоположность прагматическим рискогенным подходам автор ратует за то, чтобы образование стало «сферой достижения и удовлетворения блага общества, обеспечения творчества, свободы поиска, раскрытие интеллектуального потенциала». Для формирования национального человеческого капитала также крайне важно системное воспитание, которое ныне разрушено: «Пока нет определенной, четко скоординированной работы по воспитанию у молодежи чувства гражданина, патриота, будущего интеллигента, ответственного работника производства». Риском для человеческого капитала России стало пренебрежение к науке, в частности, к научным кадрам, «которые на эту ситуацию прореагировали по-разному – уходом в другие отрасли, в бизнес, отъездом за границу». Наконец, риски здоровью – без улучшения физического и умственного потенциала россиян невозможно приращение человеческого капитала. Однако предпринятая «оптимизация» здравоохранения «оборачивается для населения РФ ограничением доступности и качества медицинской помощи, что неизбежно повлечет за собой ухудшение здоровья граждан и их качества жизни. Эта проблема наиболее актуальна для жителей малых, средних городов и сельской местности» [Тощенко, 2020: 209, 211–212, 228, 239, 256]. Из сказанного следует, что ныне исчезает так называемое главное звено в производстве национального человеческого капитала. В синергийной сложности любое слабое звено, его несамодостаточность может вести к дисфункциональности всей системы производства национального человеческого капитала.
Формированием синергийно сложного национального человеческого капитала можно и нужно управлять, исходя из четырех основополагающих культурных факторов. 1. Управление, обусловленное характером генотипа нашей культуры, должно выступать как рациональный и гуманистический способ взаимодействия людей с их участием. «Управление, – отмечает А. В. Тихонов, – которое не выполняет в обществе гуманистическую функцию, превращается в манипулирование людьми, в технологию достижения любой, в том числе аморальной и асоциальной цели» [Тихонов, 2007: 128]. 2. Управление должно учитывать сложные причинно-следственные связи. Следует, в частности, отказаться от презумпции внешней причины как главного источника воздействия на содержание человеческого капитала, приняв во внимание значимость внутренних факторов, прежде всего особенности социализации и воспитания в жизненных мирах российской культуры. 3. Необходим баланс между управлением и самоорганизацией национального человеческого капитала как сложной системой, имманентным качеством которой являются самоорганизация и самоструктурирование. 4. Суверенизация образования: в условиях становления синергийных сложностей оно должно создавать интеллектуальные условия преодоления рисков хаотизации и дезорганизации жизни. Через развитие системы непрерывного образования [Горшков, Ключарев, 2023] возможно управление процессами «утечки национального человеческого капитала за границы страны. В условиях конфронтационных вызовов Запада важно создание благоприятных жизненных шансов для учебы, работы, отдыха в России, чему российские социологи посвящают специальные исследования [Тихонова, 2018: 53–65]. Возрастающие требования к качественным характеристикам национального человеческого капитала побуждают к тому, чтобы при его формировании ставились и решались не только и не столько задачи прагматические (они, конечно, необходимы), сколько стратегические, опирающиеся на национальную идеологию, традиции и культуру [Подберезкин, Гебеков, 2012]. К стратегическим целям устойчивого развития страны отнесем наращивание гуманистического потенциала в синергийнои сложном национальном человеческом капитале, а также его сбережения, где бы он ни находился.
Заключение. Для диагностики описанных выше рисков востребовано нелинейно-гуманистическое социологическое воображение [Кравченко, 2009: 14–24], включающее в себя следующие три методологических принципа: 1) интерпретация самобытных реалий российского общества в контексте нелинейной эйнштейновской картины мира и генотипа российской культуры, что предполагает учет факторов ускоряющейся и усложняющейся динамики, относительность пространственно-временных границ изучаемых реалий, подвергающихся естественным разрывам и травмам, но сохраняющих преемственности в культурном развитии страны; 2) принятие во внимание воздействия сложных рисков на гуманистическую составляющую и культурный генотип общества; 3) учет долговременно функционирующих культурных реалий, среди которых «дом», являющийся «базовой реальностью» жизненного мира человека. Современный дом россиян, несомненно, меняется. Однако его функциональность и устойчивое развитие страны в целом зависят от актуализации гуманистических ценностей ригидного толка [Кравченко, 2021: 12–22]. Сегодня главным препятствием на этом пути являются синергийно сложные риски генотипа российской культуры.
About the authors
Sergei A. Kravchenko
Institute of Sociology of FCTAS RAS
Author for correspondence.
Email: sociol7@yandex.ru
Dr. Sci. (Philos.), Professor, Head of Sociological Department of the MGIMO University, Chief Researcher
Russian Federation, MoscowReferences
- Alle M. (1994) Behavior of a rational person under conditions of risk: criticism of the postulates and axioms of the American school. THESIS. No. 5: 217–241. (In Russ.)
- Baudrillard J. (2000) Towards a critique of the political economy of the sign. Moscow: Biblion-Russkaya kniga. (In Russ.)
- Bauman Z. (2002) Individualized society. Moscow: Logos. (In Russ.)
- Bauman Z. (2011) Collateral Damage. Social Inequalities in a Global Age. Cambridge: Polity Press.
- Beck U, Beck-Gernsheim E. (1995) The Normal Chaos of Love. Cambridge: Polity Press.
- Beck U, Beck-Gernsheim E. (2013) Distant Love. Cambridge: Polity Press.
- Beck U. (2000) Risk Society. On the way to another modernity. Moscow: Progress-Tradiciya. (In Russ.)
- Beck U. (2007) Cosmopolitan Version. Cambridge: Polity Press.
- Beck U. (2010) World at Risk. Cambridge: Polity Press.
- Beck U. (2016) The Metamorphosis of the World. Cambridge: Polity Press.
- Cascio J. (2020) Facing the Age of Chaos. Apr 29. URL: https://medium.com/@cascio/facing-the-age-of-chaos-b00687b1f51d (accessed 27.03.24).
- Castells M. (2010) The Rise of the Network Society. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Douglas М. (1986) Risk Acceptability According to the Social Sciences. London: Routledge and Kegan Paul.
- Douglas М. (1992) Risk and Blame: Essays in Cultural Theory. London: Routledge.
- Douglas M., Vildavski A., Dejk K. (1994) Risk. THESIS. No. 5: 242–276. (In Russ.)
- Giddens A. (2009) The Politics of Climate Change. Cambridge: Polity Press.
- Historical consciousness of Russians: assessments of the past, memory, symbols (experience of sociological measurement). (2022) Ed. by M. K. Gorshkov. Moscow: Ves’ mir. (In Russ.)
- Gorshkov M. K., Klyucharev G. A. (2023) Continuing education in the modern context. Moscow: Yurajt. (In Russ.)
- Gorshkov M. M. (2020) “There is such a profession – to study society.” Selected articles, interviews, biographical revelations. Moscow: Ves’ mir. (In Russ.)
- Gorshkov M. M., Komissarov S. N., Karpuhin O. I. (2022) At the turn of the century: sociodynamics of Russian culture. Moscow: FNISC RAN. (In Russ.)
- Huntington S. (1996) West is unique, and not so universal. Foreign Affairs. Apr. 8.
- Ivanov V. N. (2010) Love and humor. Moscow: Neft’ i gaz. (In Russ.)
- Knight F. (1994) Concepts of risk and uncertainty. THESIS. No. 5: 12–28. (In Russ.)
- Knyazeva E. N., Kurdyumov S. P. (2007) Synergetics: Nonlinearity of time and landscapes of coevolution. Moscow: KomKniga. (In Russ.)
- Kravchenko S. A. (2009) Dynamics of sociological thinking and imagination. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 8: 14–24. (In Russ.)
- Kravchenko S. A. (2019) Digital Risks, Metamorphoses and Centrifugal Trends among the Young People. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 10: 48–57. doi: 10.31857/S013216250006186-7. (In Russ.)
- Kravchenko S. A. (2021) The Demand of the “Rigidity Turn” for The Sustainable Development: Contours of the Concept. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 10: 12–22. doi: 10.31857/S013216250015998-0. (In Russ.)
- Kravchenko S. A. (2023) Civilizational Challenges to Russia’s Sustainable Development. Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya [World Eсonomy and International Relations]. Vol. 67. No. 2: 30–40. doi: 10.20542/0131-2227-2023-67-2-30-40. (In Russ.)
- Kravchenko S. A. (2024) The emergence of the synergistically complex power in digital era: challenges to human capital. Polis. Politicheskie issledovaniya [Polis. Political Studies]. No. 2: 65–79. doi: 10.17976/jpps/2024.02.06. (In Russ.)
- Lapin N. I. (2021) The complexity of the formation of a new Russia. Anthroposociocultural approach. Moscow: Ves‘ Mir. (In Russ.)
- Luman N. (2007) Social systems. St. Petersburg: Nauka. (In Russ.)
- Parkhomenko T. A. (2021) Russian civilization: between West and East. Moscow: In-t naslediya. (In Russ.)
- Perrow Ch. (1999) Normal Accidents: Living with High Risk Technologies. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
- Podberezkin A. I., Gebekov M. P. (2012) National human capital is at a crossroads. Moscow: MGIMO-Un-t. (In Russ.)
- Prigozhin I. (1989) Rediscovery of time. Voprosy filosofii [Questions of Philosophy]. No. 8: 3–19. (In Russ.)
- Prigozhin I., Stengers I. (2022) Order out of chaos: A new dialogue between man and nature. Moscow: URSS. (In Russ.)
- Russian Arctic: indigenous peoples and industrial development. (2016) Ed. by V. A. Tishkov. Moscow–St. Petersburg: Nestor-Istoriya. (In Russ.)
- Social mobility in an increasingly complex society: objective and subjective aspects. (2019) Ed. by V. V. Semenova, M. F. Chernysh, P. E. Sushko. Moscow: FNISC RAN. (In Russ.)
- Stepin V. S. (2011) Globalization and dialogue of cultures: the problem of values. Vek globalizacii [Century of Globalization]. No. 2: 8–17 (In Russ.)
- Capitals and regions in modern Russia: myths and reality fifteen years later. (2018) Moscow: Ves’ mir. (In Russ.)
- Tikhonov A. V. (2007) Sociology of management. Moscow: «Kanon+» ROOI «Reabilitaciya». (In Russ.)
- Tikhonova N. E. (2018) Stratification by life chances of mass strata in modern Russian society. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 6: 53–65. doi: 10.7868/S0132162518060053. (In Russ.)
- Tikhonova N. E. (2014) Social structure of Russia: theories and reality. Moscow: Novyj hronograf, IS RAN. (In Russ.)
- Toshchenko Zh.T. (2020) Society of trauma: between evolution and revolution (experience of theoretical and empirical analysis). Moscow: Ves’ Mir. (In Russ.)
- Urry J. (2003) Global Complexity. Cambridge: Polity Press.
- Urry J. (2011) Climate Change & Society. Cambridge: Polity Press.
- UrryJ. (2008) Mobilities. Cambridge: Polity Press.
- Yanitsky O. N. (2004) Russia as a risk society: Methodology of analysis and contours of the concept. Obshchestvennye nauki i sovremennost [Social sciences and modernity]. No. 2: 5–15. (In Russ)
- Yanitsky O. N. (2008) «Critical case”: social order in the “risk society”. In: Sociological theory: history, modernity, prospects. St. Petersburg: V. Dal‘. (In Russ.)
- Zubok Yu.A. (2007) The phenomenon of risk in sociology. Experience in youth research. Moscow: Mysl’. (In Russ.)