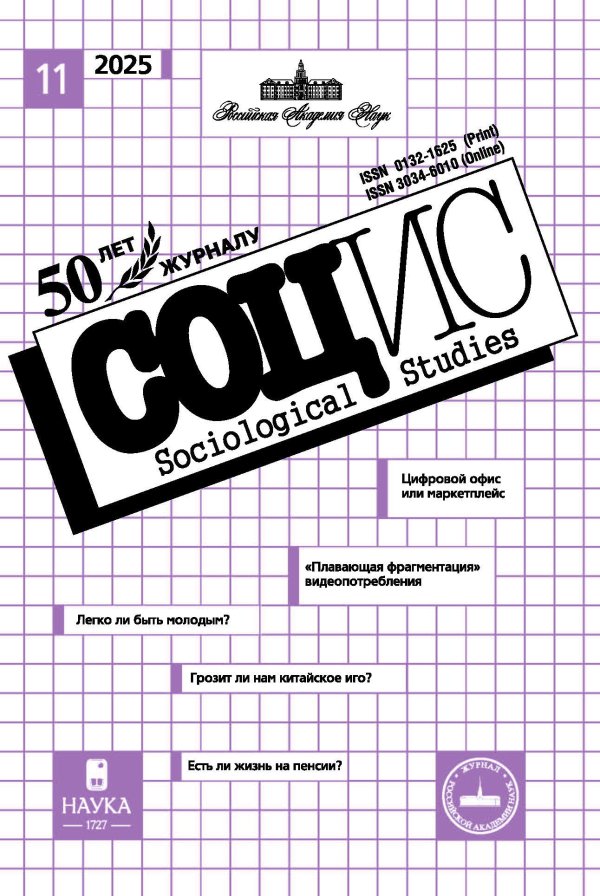Patriotism as a pragmatic and/or affective choice (on the materials of the Republic of Sakha (Yakutia))
- Authors: Vasileva O.V.1
-
Affiliations:
- Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North of SB RAS
- Issue: No 8 (2024)
- Pages: 94-104
- Section: POLITICAL SOCIOLOGY
- URL: https://bakhtiniada.ru/0132-1625/article/view/271220
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132162524080072
- ID: 271220
Full Text
Abstract
The article is devoted to the problem of patriotism in the context of the relationship of this phenomenon with the globalization processes and a crisis of the capitalist system. Theoretical approaches to the analysis of patriotism as a phenomenon of modern society associated with the importance of the nation-state in the life of society are discussed. The diminishing role of the state in the course of globalization was interpreted as a way to abandon national thinking and a sense of belonging to nation-states. The article attempts to determine the influence of such socio-demographic factors as age, education and socio-economic status on the declaration of a position on patriotism, and also reveals the influence of the value of cosmopolitan and national vision. The article presents the results of a questionnaire survey of the population conducted in the Republic of Sakha (Yakutia) in the spring of 2024. The relationship between the respondent’s declared position on patriotism and socio-demographic characteristics is established: the respondents’ answers depend on age, socio-economic status, level of education. It is found that the group of patriots is not homogeneous in terms of value orientations. Two types of patriots were identified: those oriented to the choice of cosmopolitan or national vision attitudes. The statistically confirmed difference between the answers of patriots with different value orientations with regard to the level of trust in the President of the Russian Federation and assessment of the historical past has been revealed.
Keywords
Full Text
Теоретизирование патриотизма. Дискуссия, что собой представляет патриотизм и чем обосновано его существование, ведется давно. В работах современных зарубежных и отечественных социологов сталкиваются разные точки зрения. Одни трактуют патриотизм как «реликт» уходящей эпохи, другие – как актуальный феномен мира модерна.
Патриотизм в контексте проблем общества модерна рассматривается, прежде всего, в связке с процессом индивидуализации. Критическое отношение к патриотизму связывают с тезисом З. Баумана, что в современном мире рациональное поведение требует, чтобы возможностей выбора было как можно больше и чтобы они всегда были открыты. Обретение четкой самоидентичности (в том числе национальной), раз и навсегда придающей всем и каждому «целостность» и «преемственность», закрывает ряд жизненных возможностей либо заранее лишает прав на их использование [Бауман, 2005: 118]. Патриотизм при таком подходе оказывается нерациональным чувством причастности к нации и государству, закрывающим индивиду определенные позитивные возможности (например, миграции в страну с лучшими условиями).
Несколько в ином контексте эту тенденцию трактует У. Бек, который тоже пишет о необходимости отказа от национального мышления. Согласно национальному мировоззрению, полагает У. Бек, современные общества могут быть организованы только в национально территориальные формы. В этом случае у каждого человека есть единственная родина, которую не выбирают. Однако данная позиция, как кажется этому исследователю, плохо сочетаются с реалиями транснационального мира, предполагающего множественные привязанности, совершенно не связанные с границами стран или национальностью [Бек 2008: 34–37].
На Западе есть и исследователи, которые не считают, что повышение связанности мира и глобализация «отменяет» гражданственность и патриотизм. Они указывают, в частности, что мобильность даже в транснациональном мире – явление, доступное не для всех, она связана с наличием высокого капитала (экономического, но также культурного и социального), а его отсутствие, напротив, приковывает к месту рождения [Бурдье, 2005].
Обозначившиеся в последние десятилетия тенденции деглобализации мира актуализируют изучение «ренессанса» национальных государств и традиционного патриотизма. Они также требуют тщательного анализа феномена патриотизма в контексте специфики стран, в том числе российской действительности с учетом ее регионального многообразия. Западные исследователи при анализе ситуации в России отмечают высокий уровень патриотизма [Blackburn, 2020]. Их критика российских реалий часто основывается на обвинении в пересечении патриотического и этнического дискурсов: «возникновение национализма в России можно понимать с точки зрения этнизации повседневных патриотических практик» [Goode, 2017]. Этнизация патриотизма в российском многонациональном обществе должна была породить ряд проблем, связанных с повышением межэтнической конфликтности. Однако в последние десятилетия в российском обществе такой тенденции в целом не наблюдается (см., например, [Межэтнические отношения… 2018]). В то же время в российском полиэтническом обществе идет дискуссия о потенциальной конфликтности лояльностей в отношении гражданской нации и этнических групп, устойчиво воспринимаемых с советского времени как своего рода «отдельные нации». Важность этого проявилась в последнее десятилетие, когда усилились попытки Запада оказать влияние на население национальных регионов России через распространение дискурса «деколонизации». Речь идет о сугубо негативном представлении сущности этнонациональной политики России на разных исторических этапах, о пропаганде идеи стремления не-русских народов к «освобождению».
Российская социология не избежала влияния западного научного дискурса и также нередко рассматривает проблему патриотизма в контексте глобализации ([Пороховская, 2015; Мохов, 2019] и т. д.). И. А. Халий отмечала, что патриотизм в настоящее время воспринимается во многом как иррациональное чувство [Халий, 2017: 67], противоречащее логике стремления к наибольшему благополучию. Ею сделан также вывод, что одним из факторов развития патриотизма в России является иммобильность: большинство россиян вынуждены обустраивать свою жизнь там, где родились, поскольку у них нет средств куда-то переехать [там же: 82].
В текущих геополитических условиях, когда дискурс «деколонизации» направлен на все «не-русские» этнические группы страны, особый интерес представляют исследования, которые были бы направлены на понимание сферы патриотических чувств, позволяющих многочисленным этническим группам России ощущать себя единым народом-нацией. В этой связи интерес представляет Республика Саха (Якутия) с высоким уровнем значимости этнической принадлежности среди титульной этнической группы, с изменением в последние десятилетия этнической структуры населения республики, в результате чего «государствообразующие» русские перестали быть большинством. Не происходит ли в связи с этими процессами «размывания» российской идентичности современных якутян, жителей республики?
Этносоциальная ситуация в Республике Саха (Якутия). Формирование идентичности предполагает отождествление себя с какой-либо общностью. В случае общероссийской идентичности общностью выступает «государственно-территориальная, политико-правовая общность, сформированная и реализующаяся на основе комплекса политических, историко-культурных и морально-нравственных характеристик» [Тишков, 2009; Тишков, 2023]. Для жителей Республики Саха (Якутия) – самого крупного административно-территориального образования в составе России (в 5–6 раз больше Франции) – такая идентичность не априорна, поскольку регион обладает специфичной этнической структурой.
Исторические корни формирования гражданской идентичности населения современной Республики Саха (Якутия) восходят к XVII в., когда Якутия стала частью территории Российского государства [Башарин, 1987]. Вхождение народов этого региона в состав России (Московского царства) было добровольным и мирным.
На ранних этапах основным фактором инкорпорации региона в состав России стала деятельность духовного сословия. Особенностью распространения православия в Якутии стало введение практики богослужения на языках местного населения. В результате ко второй половине XIX в. у народов Якутии сложились православные традиции и в основном православная религиозная идентичность [Юрганова, 2018: 446]. Десятилетия атеистической пропаганды в советское время, конечно, изменили соотношение верующих и неверующих, однако ценности православия прочно встроились в ментальность народов Якутии, имея влияние и в настоящее время.
В советское время интегрирующим фактором стала коммунистическая идеология. Ее влияние оказалось относительно эффективным: среди старшего поколения населения республики и сейчас много людей, причисляющих себя к советской общности. Это время охарактеризовалось также взрывным ростом численности населения Якутии (в том числе – за счет миграционных процессов) и формированием современной этносоциальной структуры общества с доминированием двух этнических групп – русских и якутов. Именно в этот период установилось и представление о народах, входящих в состав России, как о суверенных нациях, обладающих этнической территорией, совпадающей с административно-территориальным устройством страны. Предполагалось, что со временем этнические отличия нивелируются под влиянием интернационализации образа жизни. Однако новая институционализация этнической принадлежности, вкупе с политикой коренизации, привели, напротив, к росту этнического самосознания и его политизации, что выразилось в «параде суверенитетов» в 1990-е гг.
Постсоветский этап общественного развития в Республике характеризуется сложностью и противоречивостью процессов. С одной стороны, давало о себе знать общее социокультурное поле, сформировавшееся в ходе многовекового совместного существования разных народов. С другой стороны, наблюдалось разрушение выстроенного в советские годы сочетания политического единства и национального многообразия [Игнатьева, 1999]. В результате национальный вопрос стал одним из важных аспектов в жизни трансформирующегося государства. Исследователи указывали на важную роль в Якутии феномена этнического возрождения [Иванов, 1994], когда в символической политике региона стала подчеркиваться значимость этнических традиций прошлого (порой заново сконструированных) как основы сплочения и мобилизации масс. На фоне политического и идеологического кризиса 1990–2000-х гг., согласно опросам, нарождающаяся российская идентичность по масштабам распространенности и интенсивности уступала этнической [Дробижева, 2014].
Важно, что произошли существенные изменения в этнической структуре. За постсоветский период значительно (с 50,3% в 1989 г. до 27,8% в 2020 г.) снизилась доля русских среди населения Саха (Якутии), доля якутов выросла с 33,4% до 47,1%. Следует отметить и рост численности населения, отнесшего себя к национальностям стран ближнего зарубежья – Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Взаимодействие якутов с инокультурными мигрантами нередко вызывало межнациональные конфликты в регионе, в частности, в 2019 и 2024 гг.
На этом фоне взаимоотношения русского и якутского населения Саха (Якутии) можно назвать относительно бесконфликтными. Есть попытки представить ситуацию иначе: снятый местными кинематографистами фильм «Айта», где демонстрировалось наличие у якутов негативных предубеждений в отношении русских, был в 2023 г. заблокирован Роскомнадзором за пропаганду национализма. В определенной мере подобного рода произведения культуры являются ответом на зарубежный запрос, задающий повестку критической интерпретации событий в России, в том числе в контексте «модного» на Западе дискурса «деколонизации».
Вышеперечисленное формирует, казалось бы, непростую картину утверждения и функционирования в Саха (Якутии) общероссийской идентичности. Тем не менее опросы населения демонстрируют, что значимость российской идентичности в республике высока. Это позволяет считать, что постепенно вырабатываемое государством понимание общежития народов России, а также реализуемая политика, в том числе в области межнациональных отношений, являются успешным проявлением стратегии «мягкого» вовлечения этнических групп в общее социокультурное поле страны.
Для проверки этих предположений в марте – апреле 2024 г. был проведен анкетный опрос в рамках проекта «Патриотизм народов Северо-Востока России: большая и малая родина в нарративах жителей Якутии и Чукотки». Инструментарий исследования разработан авторским коллективом этносоциологов Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. В Республике Саха (Якутия) социологический анкетный опрос населения проводился по квотной половозрастной выборке, репрезентативной для генеральной совокупности населения республики1. Погрешность выборки с вероятностью 95% не превышала 3%. Опрос охватывал 1066 человек в девяти населенных пунктах: столица республики – Якутск; города – Мирный, Нерюнгри; поселки городского типа – Хандыга, Батагай; села – Чурапча, Ытык-Кюель, Павловск, Хатыстыр. Для сравнительного анализа использовались материалы синхронного опроса о патриотизме, реализуемого ВЦИОМ2.
Дифференциация российской патриотической идентичности якутян. Какая же доля проживающих в Саха (Якутии) считают себя патриотами России? По данным ВЦИОМ, на вопрос «Как бы Вы сами себя охарактеризовали – как патриота своей страны или нет?» при всероссийском телефонном опросе весной 2024 г. 62% опрошенных дали ответ «да, безусловно», а «скорее да» – 32%. Таким образом, патриотами себя обозначили подавляющее большинство (94%) россиян. Ответы «скорее нет» и «безусловно, нет» давали соответственно 2,4% и 0,5% опрошенных, затруднились ответить еще 3,0%. А в Республике Саха (Якутия) во время опроса в марте – апреле 2024 г. на вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом России?» 75,2% дали позитивный ответ, 5,5% – негативный, 17,6% затруднились ответить, 1,7% отказались от ответа.
Материалы опроса в Саха (Якутии) дают пищу для размышлений. Число затруднившихся дать ответ оказалось значительно выше, чем в опросе ВЦИОМ, что, по всей видимости, связано в некоторой мере с более категоричной формулировкой самого вопроса. Это дает основания внимательнее рассмотреть социально-демографические характеристики группы затруднившихся, а также тех, кто выбрал отрицательный ответ.
Принципиально важно, что этнический срез не продемонстрировал статистически значимых отличий в ответах представителей разных национальностей (этносов): среди якутов считали себя патриотами России 75,4%, среди русских – 75,6%, среди проживающих в Республике Саха (Якутия) представителей коренных малочисленные народы Сибири – 69,5%. Гендерный срез также не показал статистически значимых отличий в ответах мужчин и женщин. Некоторые другие срезы такие отличия выявили (табл. 1).
Таблица 1
Структура ответов якутян на вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом России?», %
Группы | Варианты ответов | |||
да | нет | Затрудняюсь ответить | нет ответа | |
Возрастные группы | ||||
18–22 года | 62,6 | 7,1 | 30,3 | 0 |
23–34 года | 74,9 | 3,9 | 19,7 | 1,5 |
35–44 года | 74,3 | 7,0 | 16,5 | 2,2 |
45–54 года | 78,3 | 5,1 | 14,3 | 2,3 |
55–64 года | 80,6 | 4,1 | 14,1 | 1,2 |
65 лет и старше | 75,6 | 7,6 | 14,5 | 2,3 |
Поселенческие группы | ||||
Якутск (столица республики) | 70,3 | 7,1 | 21,4 | 1,2 |
Городская местность | 79,8 | 4,4 | 13,3 | 2,5 |
Сельская местность | 76,7 | 4,7 | 17,1 | 1,5 |
Группы по субъективной оценке социально-экономического благополучия | ||||
Бедные | 58,8 | 9,2 | 29,4 | 2,5 |
Малообеспеченные | 71,8 | 8,9 | 18,6 | 0,8 |
Среднеобеспеченные | 83,7 | 1,3 | 13,4 | 1,6 |
Обеспеченные | 77,7 | 3,8 | 15,5 | 2,9 |
Образовательные группы | ||||
Неполное среднее | 47,8 | 13,0 | 30,4 | 8,7 |
Среднее общее | 65,2 | 9,8 | 24,2 | 0,8 |
Среднее специальное | 73,3 | 5,7 | 19,3 | 1,7 |
Неполное высшее | 71,4 | 4,4 | 22,0 | 2,2 |
Высшее образование | 80,8 | 4,3 | 13,6 | 1,4 |
Наблюдается статистически подтвержденная значимость разницы ответов представителей разных возрастных групп. Среди наиболее молодых участников опроса оказалось более чем на 10 п. п. меньше, чем среди пожилых, считающих себя патриотами, и на примерно 15 п. п. больше тех, кто затруднился ответить на вопрос. Менее значим фактор типа поселения. Наименее патриотичны жители якутской столицы – 70,3% из них относили себя к патриотам России. В других городах и поселках городского типа таких 79,8%, среди сельских жителей – 76,7%.
Важный результат получен при изучении роли фактора субъективной оценки своего социально-экономического благополучия. Она измерялась с помощью традиционного закрытого вопроса о самооценке благосостояния3. Больше всего людей, открыто не считающих себя патриотами, оказалось среди бедных и малообеспеченных. Напротив, доля патриотов России выше всего (более чем на 25 п. п. больше, чем среди бедных) среди среднеобеспеченных слоев населения. Выявилась также определенная разница между ответами людей с разным уровнем образования. Пиковая доля считающих себя патриотами России наблюдается среди имеющих высшее образование, минимальная – среди не имеющих даже среднего образования (разрыв более чем в 30 п. п.). Согласно синхронным материалам ВЦИОМ, патриотизм тоже в большей мере характерен для людей с более высоким уровнем образования и для тех, кто позитивнее оценивает свое материальное положение.
Итак, и на выборке Республики Саха (Якутия), и на общероссийской выборке наблюдаются схожие тенденции: люди с более высоким уровнем образования и более обеспеченные чаще обозначают себя как патриотов России. Это опровергает мнение, будто наиболее патриотичными являются более бедные слои населения (в силу иммобильности). На самом деле именно низкий уровень жизни провоцирует «неоднозначное» отношение к родине. При этом поселенческий и возрастной факторы тоже имеют значение, но заметно меньше, чем образовательный и доходный.
Влияние патриотизма на ценностный выбор. Рассмотрим теперь, как позиция в отношении общероссийского патриотизма соотносится с ценностным выбором между, условно говоря, национальным и космополитическим мировоззрениями (табл. 2). Речь идет об отношении к миграции: предпочитает ли человек жить в стране, где родился, или в принципе готов жить в любой стране, где ему нравится.
Таблица 2
Выбор космополитического или национального мировоззрения в зависимости от позиции в отношении патриотизма, %
Ответы на вопрос «Считаете ли Вы себя патриотом России?» | Отношение к (э)миграции | |
«Человек должен жить в стране, в которой ему больше нравится» | «Родина у человека одна и нехорошо ее покидать» | |
Да | 46,7 | 53,3 |
Нет | 71,2 | 28,8 |
Затрудняюсь ответить | 73,5 | 26,5 |
Результаты кросс-табуляции демонстрируют значительно больший процент приверженцев ценностей «космополитизма» у тех, кто или не относит себя к патриотам, или затруднялся ответить. В то же время и среди патриотов есть те 53,3%, кто является так называемыми безусловными патриотами, и те 46,7%, чьи патриотические чувства формируются условиями проживания в стране (условно прагматичный патриотизм). Представляется, что позиция второй группы в отношении российского патриотизма может существенно меняться в зависимости от обстоятельств (т. е. от того, насколько этим людям «нравится» жить в России в конкретное время). Их патриотизм, очевидно, будет снижаться в «трудные» времена и повышаться при улучшении ситуации в стране.
Общее снижение уровня российского патриотизма фиксировалось исследователями в нулевые годы. В. К. Левашов связывал его с обвальным падением доверия граждан к государству, к его политике после антисоциальных реформ 1990-х гг.: «На наших глазах в кратчайшие сроки, за несколько лет радикальных реформ протекал процесс “разгосударствления” политического сознания, патриотизма российского населения» [Левашов, 2006: 71]. Можно предположить, что проводимая с 2000–2010-х гг. политика современного российского государства, в том числе по повышению благосостояния граждан, увеличивала долю россиян, считающих себя патриотами «в зависимости от обстоятельств».
Интересно рассмотреть в этой связи различия в доверии к Президенту РФ, концентрирующему образ современной власти и политики государства, у якутян-патриотов с приверженностью ценностям национального и космополитического мировоззрения. Среди патриотов России, кто считал, что родина у человека одна, полностью доверяли президенту 81,6%, еще 16,8% доверяли в некоторой мере, не доверяли 1,7%. В то же время среди тех патриотов, которые считали, что человек должен жить, где ему хорошо, полностью доверяли президенту только 59,1%, не доверяли 2,7%.
Таблица 3
Чувства в отношении событий и процессов разных периодов истории России у якутян-патриотов с разным типом мировоззрения, %
Исторические периоды | Тип мировоззрения | Горжусь, испытываю уважение | Безразлично, не испытываю особых чувств | Стыжусь, испытываю смешанные чувства | Затрудняюсь ответить |
Дореволюционный период | Космополитическое | 29,9 | 33,3 | 3,4 | 33,3 |
Национальное | 37,6 | 32,0 | 4,1 | 26,3 | |
Советский период | Космополитическое | 58,2 | 20,6 | 3,1 | 18,1 |
Национальное | 82,1 | 7,7 | 1,2 | 8,9 | |
Современный период | Космополитическое | 52,4 | 23,1 | 3,1 | 21,4 |
Национальное | 70,2 | 11,2 | 4,5 | 14,1 |
У представителей групп «безусловного» и «прагматичного» патриотизма также обнаруживаются существенно разные эмоциональные реакции в отношении разных периодов истории России (табл. 3). Фиксируется статистически подтвержденная разница ответов по оценкам дореволюционного, советского и современного периодов. Респонденты, приверженные национальному мышлению, во всех случаях чаще отмечали, что испытывают положительные эмоции в отношении истории страны. Напротив, приверженцы космополитического мышления оказывались чаще безразличны либо затруднялись ответить. Особенно ярко это проявляется в отношении советского и современного периодов.
Аналитическая интерпретация. Считается, что любовь к родине, в том числе выраженная в устойчивой национальной идентичности, противоречит прагматическому подходу, постулируемому космополитическим мировоззрением. Однако, как показывает наше исследование, в современном российском обществе самоидентификация человека как патриота может сочетаться и с прагматическим подходом, когда именно благополучие страны определяет патриотические настроения.
Высокая доля жителей Саха (Якутии), причисляющих себя к патриотам России, но придерживающихся ценностей условно космополитического мировоззрения, демонстрирует не только рост потенциальной свободы перемещения, но и переход российского общества, наравне с другими современными обществами, в фазу нарастающей индивидуализации. Процесс индивидуализации наделяет граждан «рефлексивной автономией» – способностью в любой ситуации действовать с наибольшей для себя выгодой [Черныш, 2023: 92], порой вопреки сложившимся коллективным историческим идентичностям, традициям и культурно-ценностным обоснованиям. Именно такая рефлексивная автономия представляется как рациональность общества модерна в его западной версии.
Вместе со свободой и равенством рациональность образует антропологическое ядро либерализма [Чалый, 2011: 29], доминирующей идеологии капиталистической миросистемы. Рационализм, превозносимый этой идеологией, распространяется и на отношение к родине как к сумме условий, которые обусловливают благополучие, комфорт. Здесь уместно вспомнить работы З. Баумана, в которых он отмечал, что на раннем этапе развития модернити в Европе смысл «индивидуализации» состоял в освобождении человека от предписанной (унаследованной и врожденной) предопределенности его социальной роли в рамках средневекового общества, поддерживающего строгие рамки сословной иерархии. В результате человеческая природа, до того считавшаяся прочным и неизменным результатом божественного творения, также стала восприниматься иначе, как не только подверженная изменениям, но требующая изменений под влиянием рационального выбора [Бауман, 2005]. В этих условиях появляется идентичность как потенциально сменяемая принадлежность индивида тем или иным социальным образованиям. Со временем она меняет облик и содержание. Если в период становления национальных государств главной целью было сформировать идентичность, то под влиянием глобализации наиболее рациональной стратегией становится отказ от формирования устойчивой национальной идентичности.
Вместе с тем есть значительная часть населения, которая декларирует безусловный патриотизм. Можно предположить, что именно эта часть населения представляет собой носителей исторически подвижного ценностного ядра российского общества, если рассматривать патриотизм как одну из «базовых конструкций самосознания россиян» [Магарил, 2016: 142]. Однако патриотические настроения – не константа, отношение россиян к России может меняться в ходе социально-политических и экономических трансформаций общества. В настоящее время в общественном дискурсе активно обсуждается проблема самоопределения граждан России в контексте таких тем, как защита родного дома, края, отечества. Схожий тренд умонастроений был зафиксирован, например, на общероссийской выборке исследователями Института социологии ФНИСЦ РАН. По их результатам было определено, что идут активные процессы переосмысления цивилизационной модели, триггером для чего послужила СВО на Украине [Российское общество..., 2022: 151]. Таким образом, современная геополитическая ситуация и обострение международного давления на Россию вызвали волну эмоциональных реакций, в том числе патриотических чувств, хотя ранее они могли быть вовсе не проявлены [Васильева, 2023: 74].
Важно, что этнический срез в проведенном исследовании не показал особых различий в умонастроениях представителей разных этнических групп Республики Саха (Якутия). Это говорит о том, что современная модель сосуществования этнических групп в рамках единого российского государства, опирающаяся на идею многонародности, в целом довольно успешна. В связи с этим надо напомнить, что Президент РФ обозначил патриотизм в качестве главной национальной идеи России.
Представляется, что в современных условиях ситуация 2000-х гг., когда власть поддерживала относительное материальное благополучие масс в обмен на их лояльность, уже не соответствует современным условиям. В регулировании общественных отношений рынок эффективен не абсолютно, а лишь в определенных пределах и при обязательном наличии внешних для него внеэкономических правил и гарантий. Есть мнение, что многие формы человеческой коллективности – от семьи до государства – в долгосрочной перспективе эффективнее регулировать с помощью нерыночных оснований, опирающихся на родство, дружбу, солидарность, авторитет и т. д. [Мартьянов и др., 2022: 27]. Представляется, что перспективы развития этой проблематики связаны с обозначившимися в последнее десятилетие тенденциями формирования многополярной модели мира, а также с будущим значением в ней государственных образований.
Благодарности: Статья подготовлена по проекту «Патриотизм народов Северо-Востока России: большая и малая родина в нарративах жителей Якутии и Чукотки» в рамках реализации Программы научных исследований этнокультурного многообразия российского общества, направленных на укрепление российской идентичности, 2023–2025 гг. (Поручение Президента Российской Федерации № Пр-71 от 16.01.2020 г.), руководитель – академик РАН В. А. Тишков.
Acknowledgments. The article was prepared within the framework of the Program for scientific research on the ethnocultural diversity of Russian society and aimed at strengthening Russian identity, 2023–2025. (Order of the President of the Russian Federation No. Pr-71 dated January 16, 2020).
1 Гендерное соотношение: 47,9% опрошенных составляют мужчины, 52,1% женщины. Возрастные характеристики опрошенного населения: 18–22 года – 9,3%, от 23–34 лет – 24,3%, от 35–44 лет – 21,6%, от 45 до 54 лет – 16,4%, от 55–64 лет – 16%, старше 65 лет – 12,3%. Уровни реализации опроса: 58,1% горожан, 10,1% – население поселков городского типа, 31,9% – население сельской местности.
2 Патриотизм: мониторинг // ВЦИОМ. 29 марта 2024 г. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/patriotizm-monitoring (дата обращения: 14.05.2024).
3 Вопрос «Укажите, к какому социальному слою населения Вы себя относите?» имел шесть вариантов ответа: 1. Доходов не хватает даже на еду. 2. На еду денег хватает, но покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги затруднительно. 3. Денег хватает на еду и одежду, но не можем себе позволить покупать необходимые товары длительного пользования (телевизор, холодильник и т. п.). 4. Можем себе позволить покупать еду, одежду, необходимые товары длительного пользования, но не хватает денег на покупку нового автомобиля. 5. Можем себе позволить покупать еду, одежду, необходимые товары длительного пользования, но не хватает денег на покупку квартиры, дачи. 6. Средств достаточно, чтобы купить все, что считаем нужным. Полученные данные были ранжированы с перекодировкой крайних позиций («1»+«2»; «5»+«6»). В результате шесть вариантов ответов оказались сведены к четырем значениям так, чтобы выделить четыре группы (бедные, малообеспеченные, среднеобеспеченные и обеспеченные).
About the authors
Olga V. Vasileva
Institute for Humanities Research and Indigenous Studies of the North of SB RAS
Author for correspondence.
Email: Ovasileva.igi@mail.ru
Cand. Sci. (Polit.), Senior Researcher
Russian Federation, YakutskReferences
- Basharin G. P. (1987) Historical significance of the voluntary entry of Yakutia in the XVII century into the Russian state. In: Historical ties of the peoples of Yakutia with the Russian people. Ed. by V. N. Ivanov, M. М. Fedorov. Yakutsk: Kn. Izd-vo. (In Russ.)
- Bauman Z. (2005) The Individualized Society. Moscow: Logos. (In Russ.)
- Beck U. (2008) Cosmopolitan Vision. Moscow: CIPIO. (In Russ.)
- Blackburn M. (2020) Mainstream Russian Nationalism and the “State-Civilization”. In: Identity: Perspectives from Below. Nationalities Papers: 1–19.
- Bourdieu P. (2005) Sociology of social space. Moscow: IES: Aletheia. (In Russ.)
- Chaly V. (2011) Rationality in liberal philosophical theories. Kantovskiy Sbornik [Kantian Journal]. No. 4(38): 29–36. (In Russ.)
- Chernysh M. F. (2022) Social institutions as a factor of civilizational change. Rossiya reformiruyushchayasya [Russia reforming]. No. 21: 67–97. (In Russ.)
- Drobizheva L. M. (2014) Russian, ethnic, regional identity: a longitudinal study of 1993–2012. Vestnik RGNF [Bulletin of the RHSF]. No. 2 (75): 71–83. (In Russ.)
- Goode J. (2017) Everyday Patriotism and Ethnicity in Today’s Russia. In: Russia Before and After Crimea: Nationalism and Identity. Ed. by P. Kolstø, H. Blakkisrud. Edinburgh: Edinburgh University Press: 258–281.
- Ignatyeva V. B. (1999) The Republic of Sakha (Yakutia): a retrospective of ethnopolitical history. Novosibirsk: Nauka, Sib. izd. firma RAN. (In Russ.)
- Interethnic relations and the religious situation in the regions of the Center, North-West, Siberia and the Far East of Russia. (2018). Expert report for the first half of 2018. Ed. by V. A. Tishkov, V. V. Stepanov, R. A. Starchenko. Moscow; Omsk: “Izd. c-r KAN”. (In Russ.)
- Ivanov A. M. (1994) Ethnopolitical situation in the Republic of Sakha (Yakutia). Studies on applied and urgent ethnology. Document No. 61. Moscow: UOP IEA RAN. (In Russ.)
- Khaliy I.A (2017) Patriotism in the Russian: typology. Sotsiologicheskie Issledovaniya [Sociological studies]. No. 2(394): 67–74. (In Russ.)
- Levashov V. K. (2006) Patriotism in the context of modern social and political realities. Sotsiologicheskie Issledovaniya [Sociological studies]. No. 8: 67–76. (In Russ.)
- Magaril S. A. (2016) Meanings of patriotism – historical transformation. Sotsiologicheskie Issledovaniya [Sociological studies]. No. 1: 142–151. (In Russ.)
- Martianov V. S., Rudenko V. N. (2022) The magic of the white progressor: from global cargo cult to a new political normality. Politiya: Analiz. Hronika. Prognoz (zhurnal politicheskoj filosofii i sociologii politiki) [The journal of political theory, political philosophy and sociology of politics. Politeia]. No. 1(104): 24–49.
- Mokhov V. P. (2019) Patriotism and Memory Policy in Conditions of Globalization. Technologos. No. 3: 115– 128. (In Russ.)
- Porokhovskaya T. I. (2015) Patriotism in the globalization epoch. Vestnik RUDN. Ser.: filosofiya [RUDN Journal of Philosophy]. No. 2: 46–53. (In Russ.)
- Russian society and the challenges of the time. (2022) Book 6. Ed. by M. K. Gorshkov, N. E. Tikhonova. Moscow: Ves mir. (In Russ.)
- Tishkov V. A. (2009) National identity (on the meaning of the debate). Vestnik Rossiiskoi nacii [Bulletin of the Russian Nation]. No. 1: 107–117. (In Russ.)
- Vasilyeva O. V. (2023) The meanings of patriotism in the views of indigenous peoples of Yakutia and Chukotka. Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya [Theory and practice of social development]. No. 12(188): 70–79. (In Russ.)
- Yurganova I. I. (2018) Russian Orthodox Church in the history of Yakutia: civilizational and identification components. Proceed. of the IV Congr. of Russian researchers of religion “Religion as a factor in the interaction of civilizations”. Blagoveshchensk: AmurGU: 444–450. (In Russ.)