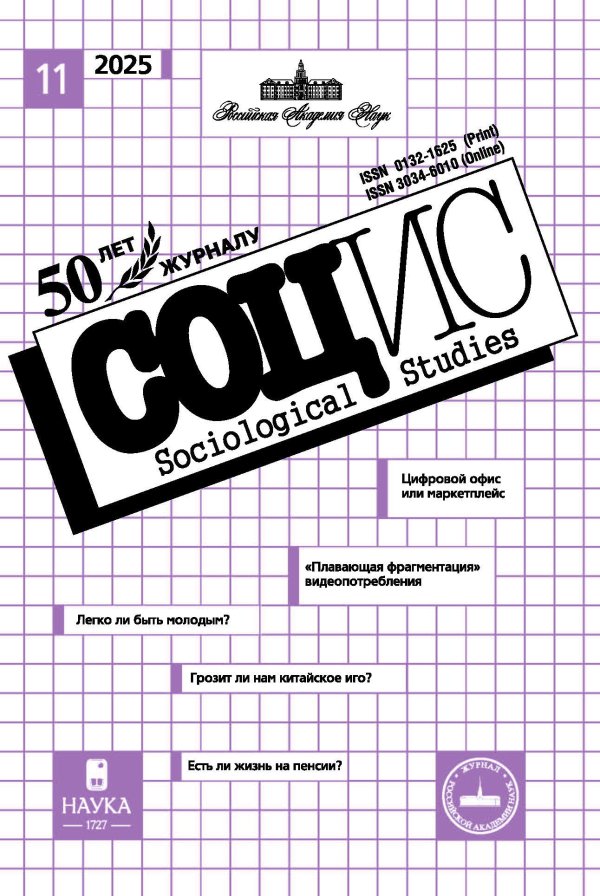Labor biographies of russian workers: from search to survival
- Authors: Andreeva Y.V.1, Lukyanova E.L.1
-
Affiliations:
- Ulyanovsk State University
- Issue: No 8 (2024)
- Pages: 37-48
- Section: ECONOMIC SOCIOLOGY. SOCIOLOGY OF LABOR
- URL: https://bakhtiniada.ru/0132-1625/article/view/271196
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132162524080035
- ID: 271196
Full Text
Abstract
The article aims to study labor biography of industrial workers. It is based on the materials of in-depth interviews conducted in the Ulyanovsk region in 2020–2021. The authors propose a new approach to the study of labor biographies, taking the concept of work capacity. They distinguish three main stages: labor search, labor balance and labor survival. This division is based on the logic of workers building their own professional path, therefore, considering stages do not have certain age or time limits. The authors give main characteristic of the worker’s behavior for each of this stage. The purpose of labor search is to choose such type of employment or working conditions that would suit the physical capabilities, personality and salary expectations of the worker, as well as their ability to learn new professional skills. The stage of labor balance is characterized by achieving a balance between different types of employment that allows workers to cope with high physical exertion and provide the desired standard of living. The stage of labor survival is aimed at preserving the workplace, adapting the labor process to the current state of health and reduced physical capabilities. The authors emphasize that the work capacity (in the form of health, professional experience and knowledge) is not the resources that are valued by both employers and workers. As a consequence, the stages of labor search and balance can quite quickly be replaced by the stage of labor survival.
Keywords
Full Text
Введение. Трудовые биографии рабочих в советское время являлись особой дискурсивной темой, разворачивающейся вокруг героев-первостроителей и передовиков производства. В постсоветское время ученые не раз обращались к их изучению, выстраивая из исторических образов рабочих множественные типологии, перечисляя приемы их репрезентаций в кино, плакатах и художественной литературе. Биографии же рабочих-современников отошли на второй план, уступив место дискуссиям о проблемах рынка труда и сложностях привлечения в соответствующие профессии молодежи. В рабочих виделся тот слой, который сохранил традиционные биографические паттерны, восходящие даже не к советскому периоду, а еще к дореволюционным временам. Например, отходничество, известное сегодня как «вахтовый метод» было широко распространено уже в XIX в. Между тем рабочие не остаются внутренне однородной общностью. Все больший вес приобретает так называемый новый рабочий класс, занятый на высокотехнологичных производствах [Андреева, Лукьянова, 2018]. Отдельно выделяется прекариат, не имеющий гарантированной занятости. За другими альтернативными формами занятости социологи тоже готовы видеть самостоятельные социальные группы. Интерес к таким группам обычно связан с наступлением экономических кризисов. Поэтому часто биографии рабочих анализируются не сами по себе, а в свете адаптации к потере работы, ухудшению материального положения и т. п. Рабочие профессии используются в качестве примера гибкости трудового поведения россиян, их готовности переходить из одной сферы деятельности в другую и соглашаться на разные условия трудоустройства. При этом считается достаточным зафиксировать сам факт перехода без рассказа о том, что за ним последовало в дальнейшем.
Целью настоящей статьи является разработка нового подхода к изучению трудовых биографий в основе которого – понятие трудоспособности. Оно рассматривается через различные составляющие трудового поведения рабочих, например, квалификацию, трудовую мотивацию, профессиональную репутацию и т. д. Предлагаемый подход позволит не просто выделить основные вехи рабочей биографии, но и концептуально детализировать их.
Теоретический контекст исследования. В исследовании трудовых биографий особое внимание уделяется выделению этапов профессионального пути, изучению представлений о них в зависимости от отраслей, типов организаций, структуры коллективов и тому подобных факторов. Этапы подчеркивают как индивидуальные, так и институциональные возможности социальной мобильности. Они фиксируют смену трудового поведения, в том числе практик использования накопленного человеческого капитала с учетом текущей социально-экономической ситуации. Методологическая трудность заключается в том, что к рабочим сложно применить наработки, полученные на примере изучения карьер. В начале 2000-х гг. российские социологи обращались к рассмотрению потребностей карьерного роста среди рабочих [Макарова, 2007], но затем эта тема ушла из актуальной повестки, уступив место обсуждению мотивации труда на производстве. Тогда за основу анализа брались длительность стажа по рабочей профессии и ориентация на ее сохранение. Специальный стаж является важным критерием для характеристики трудовых этапов. Но исключительный фокус на нем приводит к неполному описанию пути рабочих, деля его на два крупных периода: до прихода в соответствующую профессию и саму работу по ней. Современные концепции «гибкого рынка труда» с их новыми практиками занятости и правилами карьерного роста тоже мало помогают в нахождении специфики биографий рабочих, заставляя ограничиваться констатацией того, что их профессиональные истории становятся все более прерывистыми и фрагментарными. Распространенным остается подход, согласно которому карьера, а вслед за ней и вся жизненная история, развивается от своей начальной точки к профессиональному признанию, проходя через этап наибольшей продуктивности [Попова, 2018].
Результаты исследований свидетельствуют, что для рабочих малодоступными оказываются не только вертикальные, но и горизонтальные карьеры. На многих предприятиях перестала использоваться разрядная система. Формально она существует, но каждого повышения разряда нужно ждать годами, если не десятилетиями, до момента, когда освободится необходимая позиция [Лукьянова, 2020]. Утверждается, что наиболее стабильные кадры формируются из рабочих низкой и средней квалификации, не настроенных на профессиональное обучение и продвижение [Константиновский и др., 2013]. Среди респондентов встречается много тех, кто считает рабочую профессию временной, выбранной под давлением неблагоприятных экономических условий. Этнографические проекты, проведенные в российской провинции, рисуют пессимистическую картину [Димке, Корюхина, 2013; Morris, 2015]. Упадок градообразующих заводов лишает рабочих каких-либо долгосрочных целей, заставляя концентрироваться на повседневных делах. В рассказанных ими историях самостоятельными этапами становятся периоды трудового бездействия в виде административных отпусков и простоев. Вместе с тем замечается, что рабочие не слишком проблематизируют свое положение в обществе. Нисходящая мобильность для них не несет травмирующих последствий. А восходящая мобильность кажется оправданной тогда, когда ведет к достижению более комфортной жизни [Тартаковская, 2017]. В таких исследованиях за биографический выбор принимается стремление рабочих выйти за рамки классового воспроизводства, преодоления свойственных им статусных и культурных идентичностей.
Открытым остается вопрос о том, как складываются трудовые биографии в рамках непосредственно рабочих профессий. Под трудовой биографией в статье понимается «цепь… перемещений по рабочим местам, видам занятости или трудовой деятельности, профессиональным сферам, для изучения которых определяющим является исследование мотивационной составляющей» [Игнатова, 2016: 65]. Предлагается попытка взглянуть на профессиональный путь глазами самих рабочих, проследить их логику обозначения трудовых этапов. Одновременно с этим важной задачей является отход от стереотипного взгляда на мотивацию труда рабочих в виде приоритета заработной платы. На самом деле финансовые аспекты по-особому увязываются с прочими трудовыми ценностями на разных этапах профессионального пути. Рост и спад доходов служат важными маркерами привлекательности рабочего места, но не всегда знаменуют переходы от одного этапа к другому. Развитость в России вторичного рынка, позволяющего компенсировать недополученную заработную плату по основному месту работы, заставляет искать иные мотивирующие факторы для выделения трудовых этапов. Статья обращает внимание на такую значимую составляющую жизни рабочих, как их трудоспособность, включающую состояние здоровья, профессиональный опыт и знания. Развернутые с этой точки зрения трудовые биографии дают объяснение многим из обсуждаемых сегодня проблем рынка труда.
Методология исследования. В статье описываются результаты проекта «Стратегии поведения рабочих на рынке труда в сложных эпидемиологических условиях». В его основе – качественное панельное исследование биографий 75 рабочих промышленных предприятий Ульяновской области, проходившее с октября 2020 г. по ноябрь 2021 г. Были проведены три волны глубинных интервью. Выборка строилась на принципах максимальной вариации и охватила 42 рабочих профессии. Информантами стали как квалифицированные, так и неквалифицированные рабочие из разных отраслей: авиационной, автомобильной, горнодобывающей, мебельной, металлургической, печатной промышленности, а также строительства. В группу квалифицированных рабочих, согласно «Общероссийскому классификатору занятий», вошло 30 участников. Еще 30 человек представляли операторов, сборщиков и водителей. 15 информантов занимались неквалифицированными видами труда. Кроме того, критериями отбора служили пол, возраст и местожительство участников. Исследование прошло не только в Ульяновске, но и других городах области. Информанты были заняты как на малых и средних, так и на крупных предприятиях. На малых предприятиях работали 18 человек, на средних – 25 человек и на крупных – 32 человека. 20 информантов были трудоустроены неформально. Образовательный уровень участников также был различный: от тех, кто окончил 9 классов, до тех, кто имеет вузовские дипломы. Для большинства приход в рабочие профессии был обдуманным решением, и лишь для немногих он стал вынужденным шагом, вызванным сложностями с поиском иных видов заработка.
Демография. Миграция
Возраст участников колебался от 18 до 65 лет. Большинство (35 человек) представляли среднее поколение рабочих от 35 до 50 лет; 21 и 19 информантов составили соответственно младшую (до 35 лет) и старшую (старше 50 лет) группы. С самого начала возраст не служил определяющим критерием для анализа трудовых биографий. С одной стороны, многие рабочие профессии, особенно связанные с вредными условиями труда, имеют возрастные ограничения принятия на работу. На предприятиях для таких профессий нередко устанавливают еще более жесткие рамки, чем предусмотрено законом. Для этих профессий трудовая биография получается короткой и доступной только молодежи. С другой стороны, специальный стаж, назначаемый для досрочного выхода на пенсию по ряду рабочих профессий, делает плавающими верхние возрастные границы. Среди информантов были те, кто стали пенсионерами до 50 лет. Сам период работы ради получения специального стажа мог выделяться участниками в качестве самостоятельного трудового периода. Между тем в России постепенно сокращается перечень рабочих профессий, по которым положены пенсионные льготы. В выборке оказались те, кто рассчитывал на досрочную пенсию, устраиваясь на соответствующие производственные позиции. Столкнувшись с отменой специального стажа, они оставались на прежней работе и не относились к ней как какому-то особому этапу. Статья фокусируется преимущественно на мужских трудовых биографиях. В исследовании приняли участие 56 мужчин и 19 женщин. Трудовые биографии женщин имели известную специфику, хотя для некоторых участниц она не была ярко выражена.
Выбранный дизайн исследования позволил подробно узнать о трудовых биографиях информантов, начиная от их подростковых заработков. Первая серия интервью стартовала в Ульяновской области на пике безработицы, вызванной пандемией. Планировалось проследить, как складывалась жизнь участников в зависимости от разных экономических кризисов, взяв их за основу построения трудовых биографий. Но оказалось, что с этой точки зрения можно анализировать лишь девяностые годы. В жизни старшего поколения рабочих было несколько лет, потраченных на адаптацию к новым тогда экономическим условиям. Последующие кризисы были мало замечены информантами. В интервью задавались вопросы, касающиеся предыдущих мест работы и освоенных профессий. Как оказалось, всего четверо участников ни разу не меняли места работы. Хотя рабочие и держатся за предприятия, но не видят в увольнении окончания того или иного трудового этапа. Текучесть в этой группе является скорее нормой. За тот год, пока длилась полевая часть проекта, 29 информантов поменяли место работы. Большинство участников трудились на предприятиях, расположенных в промышленных зонах. По их рассказам выходило, что одно и то же здание могли арендовать одновременно несколько предприятий. Процесс поиска новой работы часто завершался обходом соседних этажей, чтением развешанных там объявлений о найме. Из-за этого у информантов не возникало ощущения, что они действительно ушли на какое-то новое место. К этому надо добавить сезонный характер некоторых производств, на которых были заняты рабочие. Привычной для них стратегией было уходить в начале сезона на тот завод, где, по их сведениям, ожидалось больше заказов, а затем вновь возвращаться на прежнее место работы.
Уже первые интервью показали, что в основу анализа трудовых биографий рабочих не получится взять легко формализуемые признаки, вроде общего или специального стажа. Даже квалификационные разряды, которые должны были отражать профессиональные достижения, были малоинформативными. 31 участник исследования не имел разрядов, несмотря на то, что они занимали позиции квалифицированных рабочих. 16 информантов были обладателями низших разрядов, а 28 человек – средних и высших разрядов. Это привело к необходимости расширить гайд вопросами, касавшимися изменения стратегий занятости, выбора между официальным и неофициальным трудоустройством. Информантов спрашивали о периодах, когда их заработки были максимальны и минимальны, а также об истории подработок и совмещений. В ходе интервью также выяснялись субъективные оценки достигнутого мастерства и профессиональной репутации, их значимости для работодателей, с которыми информанты имели дело. Еще одну тему предложили сами рабочие. Для них актуальной оказалась проблема сохранения трудоспособности, прежде всего, физических сил и здоровья. Они не боялись COVID-19, но подчеркивали риски других заболеваний в качестве основного фактора смены работы.
Таблица
Критерии выделения основных этапов
Трудоспособность | Трудовой поиск | Трудовая устойчивость | Трудовое дожитие |
высокая | средняя | низкая | |
Стратегия | Активный поиск основной занятости | Активный поиск вторичной занятости | Сохранение основной занятости |
Мотивация | Высокая | Низкая | Низкая |
Квалификация | Не важна | Мультипрофессиональные навыки | Важна – для работника, Не важна – для работодателя |
Профессиональная репутация | Низкая | Средняя – основная занятость Средняя – вторичная занятость | Высокая |
Доход | Колеблющийся | Высокий | Колеблющийся |
В основу представленной в таблице типологии трудовых этапов легли одновременно несколько критериев, взаимно дополняющих друг друга. Исходя из них были выделены три трудовых этапа: трудовой поиск, трудовая устойчивость и трудовое дожитие. Целью трудового поиска служит подбор типа занятости и условий труда, подходящих собственным физическим возможностям, складу личности и зарплатным ожиданиям, а также способности к освоению новых профессиональных знаний. Этап трудовой устойчивости характеризуется достижением баланса между разными видами занятости, домашним трудом и родственно-дружескими услугами, позволяющего справляться с высокими физическими нагрузками и обеспечивающего желаемое качество жизни. Этап трудового дожития направлен на сохранение рабочего места, адаптацию трудового процесса под текущее состояние здоровья и физические возможности. Указанные трудовые этапы не имеют четких возрастных границ. У кого-то этап трудового поиска занимал всего один-два года, у кого-то растягивался на пять – семь лет. Аналогично этап трудового дожития мог внезапно начаться до 35 лет или быть отложен до официального выхода на пенсию, например, при наличии специального стажа. Среди информантов на стадии трудового поиска находились 14 человек, трудовой устойчивости – 35 человек и трудового дожития – 26 человек.
Трудовой поиск. Большинство информантов, получив профессиональное образование, слабо представляли собственные возможности в начале трудового пути. Только пятеро из них нашли работу согласно той специальности, на которую учились в профессиональных училищах и техникумах. Остальные, независимо от возраста, в первые годы перепробовали различные профессии. Например, один из участников к 26 годам успел поработать по 11 специальностям: сборщика мебели, дорожного рабочего, водителя легкового автомобиля, водителя погрузчика, тракториста, охранника, строителя, разнорабочего, электрика, монтажника натяжных потолков и штукатура. Неустойчивость профессиональных ориентаций свойственна не только сегодняшним молодым рабочим. Рабочие других возрастных групп тоже стартовали с частой смены занятий. Так, для 34-летного газоэлектросварщика текущая профессия стала по счету восьмой. По ней он работает уже десять лет, но до этого трудился охранником, водителем легкового автомобиля, оператором плазменной резки, оператором установок пескоструйной очистки, стропальщиком, автослесарем и сварщиком ручной сварки. В советское время такой вариант трудового дебюта тоже был распространен. 62-летний слесарь-ремонтник вспоминал, что, прежде чем связать жизнь со сборкой самолетов, он работал пастухом, трактористом, каменщиком, разнорабочим, стропальщиком, токарем, герметизаторщиком. Рабочие придерживались того мнения, что «пока не попробуешь своими руками – не поймешь, что тебе подходит» (59 лет, токарь).
Смыслом этапа трудового поиска является вовсе не выбор профессии, а подбор подходящих условий с точки зрения содержания труда, его интенсивности, комфортности рабочего места, предлагаемого графика и т. п. Опытным путем определяется способность провести рабочий день на свежем воздухе, в холодном/жарком помещении, цеху с повышенным уровнем шума, химически вредным производством, строгим распорядком дня и режимом контроля, не говоря уже о сменных и плавающих графиках, работе в ночное время и по выходным дням. Свою роль играет психологическая готовность заниматься той или иной работой. Один из информантов, перебирая разные виды занятий – грузчика, бетонщика, пильщика, оператора котельной, станочника, – в молодые годы попал на мясокомбинат, где понял, что его нервная система не выдержит «по сто голов в день убивать» (40 лет, слесарь МСР). Сам выбор рабочей профессии на данном этапе чаще всего бывает не целенаправленным шагом, а результатом исключения из многих опробованных вариантов. Торговля не подходит, потому что нет желания обманывать людей. Работа в офисе – «на стуле, целый день пялиться в компьютер» – тоже не кажется привлекательной (34 года, водитель). Предпринимательство не потянуть, потому что, помимо того, чтобы изготовить продукцию, надо «понимать чего, куда и кому продать» (34 года, сварщик). Несколько информантов пытались когда-то реализовать свои бизнес-идеи, но потерпели неудачу. По существу, реальной альтернативой рабочим профессиям для участников исследования выступала работа в охране или в полиции. Некоторые из них успели послужить в правоохранительных органах после армии, но быстро ушли оттуда.
Существенной чертой этапа трудового поиска является сверхмобильность. Рабочие не считают частые переходы в начале трудового пути с предприятия на предприятие, из отрасли в отрасль бесполезным разбрасыванием сил и тратой времени, полагая, что порой нескольких дней достаточно, чтобы понять, пойдет у них работа или нет. Проверке подлежит тип занятости, сравниваются плюсы и минусы как официального, так и неформального трудоустройства, работа на крупном заводе или на малом предприятии, а также вахтовым методом. Серьезной проблемой является снижение значимости профессионального мастерства у нынешних молодых рабочих. Квалификация не рассматривается ими в качестве ценного ресурса. Информанты рассказывали, как «въехали» в профессию за очень короткий срок и не нуждались впоследствии в повышении мастерства. Работодатели тоже предъявляют к новичкам самые невзыскательные требования. По наблюдениям участников, на рабочие позиции сейчас примут любого соискателя, лишь бы он был «непьющий, незагульный, и чтобы у него с руками все было в порядке» (28 лет, слесарь-сантехник). Везением считается, если начинающего рабочего зачислят в ученики и назначат ему наставника.
Многие информанты говорили о том, что они не держались за рабочее место в самом начале трудового пути. Поводом уволиться могло стать не только недовольство заработной платой или условиями труда, но импульсивное желание смены трудовой обстановки: «Меня что-то клинануло, так достало, и я сказал – все, я ухожу» (26 лет, электрик). Новизна трудовых впечатлений является важным мотивом на этапе трудового поиска. Рабочие, даже рассказывая о том, как после окончания учебы или демобилизации из армии, нуждались в деньгах, на первое место все же ставили любопытство. Как правило, тогда у них не возникало ситуаций безальтернативного выбора. Среди всех наличных вариантов они останавливались на тех, которые было «прикольно попробовать». Один из участников, 48-летний слесарь МСР, комментируя множество освоенных сразу после армии профессий, считал их смену признаком молодости: «Романтики, что ли, не хватало. Теплотехником надоело – пошел водителем. Водителем надоело – шлифовщиком на заводе два года поработал». Информанты признавались, что в их жизни рано или поздно наступал момент, когда любая, на первый взгляд, интересная профессия приедалась: «Производство и есть производство, а работа и есть работа» (32 года, сборщик-клейщик). Типичность трудовых ситуаций, в которых оказывались рабочие, а также рутинность сопровождающих эти ситуации производственных отношений – запускает процесс формирования отчуждения от результатов собственного труда. Но на этапе трудового поиска отчуждение выражается не в потере мотивации к работе как таковой, а в отказе от выстраивания индивидуальных трудовых стратегий и поиска профессионального призвания.
Трудовая устойчивость. Для данного этапа принципиальным является соответствие основной занятости всему образу жизни рабочих, насыщенному физическим трудом. Большинство участников, помимо основной занятости, активно прибегали к подработкам из-за нехватки заработной платы по основному месту работы. У некоторых общая продолжительность рабочей недели доходила до 60–65 часов. К этой нагрузке необходимо еще добавить усилия, которые вкладываются в обустройство домашнего хозяйства и приусадебных участков. Бани, гаражи и даже дома возводятся собственными стараниями. «Дом-работа-шабашка-дача» – вот тот график жизни, в зависимость от которого ставятся стратегии занятости рабочих, проживающих рассматриваемый этап. Само собой разумеющейся является помощь родственникам и друзьям в виде взаимных трудовых услуг. Такая помощь настолько включена в повседневную жизнь, что порой она даже не упоминалась информантами. В этом плане типичным оказалось интервью с 44-летним станочником. Он ухитрялся совмещать работу на заводе со строительством бани на даче и помощью родственникам. У тех из фирмы одновременно уволилось несколько монтажников пластиковых окон. Сам информант никогда не занимался подобной работой, но согласился ее выполнять в свой «отсыпной» день, поскольку «родне надо помогать, когда зовут».
Трудовая устойчивость означает не столько наличие постоянного места работы, сколько поддержание трудового равновесия. Находящимся на этом трудовом этапе рабочим удалось найти баланс между различными видами занятости, который позволяет справляться с высокими физическими нагрузками. Неслучайно один участник исследования сказал, что вся его жизнь «проходит в труде и надо правильно сорганизоваться, чтобы не выдохнуться раньше финиша» (46 лет, слесарь). У многих информантов не было никаких переключений, в виде свободного времени, между разными видами физического труда. Даже встречи с друзьями у них нередко перетекают в формат совместных подработок. Некоторые участники посвящали отпуск тому, чтобы дополнительно заработать. Рабочие стремятся на данном этапе закрепиться в тех нишах рынка труда, которые им позволяют сохранить найденный баланс, даже если для этого им надо соглашаться на неформальную занятость. Четкость повседневного трудового графика является важным условием сохранения баланса. «Мы два дня в первую смену халтурим монтажниками, во вторую – работаем. Два дня, потом уже как лимон выжатый, на третий день уже ничего не надо. Ждешь, когда опять первые смены, потому что в ночь после второй смены еще четыре часа работать – это на износ просто» (40 лет, сварщик).
Этап трудовой устойчивости резко контрастирует с этапом трудового поиска. Его отличает инертность установок и полный отказ от достижительной мотивации. Информанты исходят из принципа реактивного реагирования: «Пока петух не клюнет, рыпаться не надо» (31 год, осмотрщик). Устойчивость достигается ими не столько за счет каких-либо активных действий, сколько является следствием воспроизводства трудовых практик в их неизменном виде. Участники говорили о том, что на их профессиональном пути наступал такой момент, когда они понимали, что им больше не нравится переходить с места на место и искать что-то новое. Одни объясняли это тем, что их стала пугать неизвестность, другие полагали, что их зарплатные возможности уже предзаданы: «Выше головы не прыгнешь и заработаешь ровно столько, сколько тебе дадут заработать» (40 лет, водитель погрузчика). В случае поиска новой работы (основной или дополнительной) рабочие смотрят, насколько она похожа на то, чем они занимаются сейчас. Распространенной стратегией является попеременная смена первичной и вторичной занятости, сохраняющая когда-то найденное равновесие. На этом этапе осторожность трудовых решений ценится выше всевозможных экспериментов, даже если те обещают быструю материальную отдачу. Проверенным должно быть буквально все – будущее место работы, тот человек, который это место рекомендовал, сегмент рынка (круг клиентов), который обслуживает предприятие и т. п. Если на этапе трудового поиска новая работа могла находиться за несколько дней, то на этапе трудовой устойчивости этот процесс занимал месяцы. Много времени тратилось на обсуждение с друзьями и членами семьи каждого найденного варианта. Замеченная осторожность рабочих при принятии трудовых решений выступает своего рода защитной реакцией на факторы экономического принуждения. Заранее проверенные условия работы создают иллюзию отстаивания права на выбор образа жизни и сопротивления давлению рынка труда.
Проблемой этого этапа является нарастающее снижение трудоспособности рабочих. В интервью информанты отмечали, что предприятие не ценит своих работников: «По большому счету мы как расходный материал» (34 года, слесарь МСР). Сами они тоже мало заботились о своем здоровье. Большинство гордились тем, что редко уходят на больничные и даже с травмами продолжают работать. По мнению информантов, у них нет другого способа обеспечить себе достойный уровень жизни (заработать на жилье, образование детей, автомобиль), кроме напряженной работы. Трудовая устойчивость здесь достигается, в том числе, за счет полной самоотдачи имеющихся человеческих ресурсов. Жалобы на то, что «сердечко стало часто зажимать», для них не служат поводом пересмотреть свою занятость, например, в виде официальной работы люковым на горно-обогатительном комбинате и неофициальных подработок охранником. «Я двое суток в охране, двое на своей. Такое не каждый выдержит» (39 лет, люковой). Участники полагали, что трудовая устойчивость возможна до тех пор, пока им будут позволять физические силы. Инертность установок сочетается у рабочих с общим фаталистическим настроем на жизнь, верой в предопределенность любых изменений. Некоторые даже в 30 лет полагали, что «с Богом не поспоришь» и «судьба их как сложилась, так и сложилась» (31 год, пружинщик).
Трудовое дожитие. В собранных интервью редко встречался плавный переход от второго этапа к третьему. Как правило, последний наступал внезапно, либо после перенесенного тяжелого заболевания, либо после серьезной производственной травмы. Он мог начаться и в 40 лет. Например, один из информантов в ответ на вопрос о том, что хорошего случилось за последнее время, ответил: «Достижение года – не сдох» (41 год, столяр). Показательно, что треть информантов до 40 лет жаловались на то, что по состоянию здоровья им придется менять работу в ближайшие несколько лет. Практически все участники старше 50 лет имели либо инвалидность, либо профзаболевание, не позволяющее им трудиться по прежним профессиям. С возрастом трудовые биографии рабочих превращались в хронологию полученных травм и проявившихся болезней. Как образно выразился один из участников: «есть время разбрасывать камни, есть время собирать их. Я сейчас собираю. Это болячки, это возрастные изменения» (62 года, слесарь-сантехник). Трудовое дожитие для многих выливалось в работу не до достижения пенсии, а до того срока, до какого им хватит физических и психических сил.
Начало этого этапа у рабочих связано с переходом на относительно более легкий и, соответственно, менее оплачиваемый труд. На крупных заводах подобные переходы происходят вслед ежегодным медицинским комиссиям, признающим работников профнепригодными. На малых и средних предприятиях тоже находятся позиции, подходящие для трудового дожития. Конкуренция за эти позиции подчас оказывается даже более острой, чем за места на основном производстве. Рабочие одной небольшой компании по выпуску металлоконструкций в шутку называли ее «домом престарелых», поясняя, что к ним приходят те, кто уже не в состоянии выдержать заводских нагрузок. Здесь они могут договориться о более щадящем графике работы – «три дня поработал, три дня потом полечился и снова вышел на работу» (59 лет, токарь), трудоустройстве себе в ученики молодого родственника и т. п. Им разрешается за счет смекалки и мастерства отступать от технологии, применять для облечения труда разные приспособления собственного изготовления, делать частые перерывы. Так, один из участников, страдающий заболеванием коленей, сконструировал специальное сидение, позволявшее ему, полусидя, работать за станком.
Репертуар трудового дожития состоит из разнообразных стратегий удержания на рабочем месте, в том числе за счет выражения лояльности приказам начальства и согласия на дискриминирующие условия со стороны работодателей. Не единожды говорилось о практиках «чехления», когда выписываемая работнику премия должна отдаваться бригадиру или мастеру. Трудовое дожитие нередко сопряжено с неформальной занятостью и полным игнорированием каких-либо трудовых прав данной категории работников. Работодатели с неохотой отпускают их на больничные, ставят в такие жесткие рамки, что нескольким информантам пришлось отказаться от рекомендованных им операций: «В больнице расписали лечение на месяц, а потом сказали, что пошлют на операцию… Мастер разорался, на все про все дал две недели или больше держать не буду. От операции я отказался. Сказал ему: “Выйду, только успокойся”» (56 лет, слесарь-ремонтник). Информанты говорили о том, что сегодня большим везением является признание наличия профзаболевания, получение официальной инвалидности или выход в положенный срок на льготную пенсию. Остро также стоит вопрос постоянно идущего пересмотра групп вредности и соответствующего им «горячего стажа».
Репутационные достижения и высокий уровень профессионального мастерства, по словам рабочих, лишь помогают сохранить место, но не слишком ценятся начальством. Даже на крупных, оставшихся с советских времен заводах ушли в прошлое традиции чествования ветеранов и передовиков производства. В качестве своего рода мифов передаются истории о таких первоклассных мастерах своего дела, за которыми руководство посылает машины. Участники мало верят в подобные истории. У них в коллективах атмосфера неблагоприятная: «С начальством очень нервно, все на крике» (60 лет, слесарь МСР). Терпение и мучение – вот два основных рецепта удачного трудового дожития, которые давали рабочие. На их взгляд, полезным качеством в трудовом дожитии является «толстокожесть» или эмоциональная ригидность, позволяющая увереннее себя чувствовать в условиях частой смены руководства предприятий. Рабочие, достигшие этапа трудового дожития, полагают, что их высокие профессиональные разряды свидетельствуют о том, что они уже достигли предела своего мастерства. Они не видят для себя перспектив развития и скептически относятся к программам обучения предпенсионеров. Интересно, что кризисы, сказавшиеся на экономике страны (2008–2009, 2014–2016, 2020–2022 гг.), мало отразились на трудовых биографиях старшего поколения рабочих. Исключением стал кризис начала 90-х гг., когда в связи с закрытием почти всех крупных ульяновских предприятий, им пришлось пробовать себя в мелком предпринимательстве. Этот опыт заставил их увериться в том, что рабочий труд, пусть даже в форме «шабашек», – основа выживания в любой кризисной ситуации.
Форма и период трудового дожития определяется не только состоянием здоровья, но сложной конфигураций из личностных установок, потребности в работе (быть занятым, включенным), а также экономического положения остальных родственников. Для некоторых участников отказ от статуса кормильца семьи оказывается настолько болезненным, что они продолжают работать, несмотря на то, что каждая смена дается им физически тяжело: «Пока я смогу, я буду работать, потому что мне стыдно, если придет у меня внук, а я буду только пенсию получать и жить только на кусок хлеба» (62 года, слесарь-ремонтник). В сложной жизненной ситуации оказываются те, кто попадает под сокращение на этом этапе. Не в состоянии отказаться от роли главного добытчика, они порой соглашаются на физически тяжелые виды работ, вроде грузчика, которые им сложно выполнять ввиду возраста и имеющихся заболеваний. Такой вариант трудового дожития может окончиться трагично и привести к преждевременной смерти. У рабочих нет больших накоплений на «черный» день. Они живут от зарплаты до зарплаты. На вопрос о том, сколько они смогут продержаться без постоянных заработков, вступившие в этап трудового дожития информанты называли самые непродолжительные, по сравнению с остальными, сроки. Они отводили себе один-два месяца на то, чтобы «не в достатке, без лишних денег – только на продукты и таблетки» продержаться без работы (58 лет, оператор). Использованное самими информантами в интервью определение «дожитие» точно подчеркивает пассивный характер трудовых установок пожилых рабочих. У них не находится сил сопротивляться явным и неявным формам эксплуатации на своих предприятиях. Профсоюзы и трудовые инспекции не воспринимаются как способные защитить их трудовые права. Экономическая и правовая незащищенность могут вытолкнуть даже самых высококвалифицированных возрастных рабочих на арьергардные позиции на рынке труда (дворников, сортировщиков и т. п.).
Заключение. Проведенное исследование показало сложность и нелинейность трудовых биографий рабочих, в том числе тех, чей трудовой дебют пришелся еще на советские годы. Несмотря на поколенческие различия информанты сходным образом конструируют свое прошлое и высказываются о будущем. Это позволило выделить три ключевых этапа их трудовых биографий: поиска, устойчивости и дожития. Каждый из этапов, помимо рассмотренных специфических характеристик, несет проблемы, находящие отражение на рынке труда. Думается, что предложенный подход имеет широкую аналитическую перспективу. Он позволяет проследить особенности трудовых стратегий в зависимости от квалификации рабочих, уровня их образования, отраслевой принадлежности предприятий на каждом из этапов, уловить саму сложность построения трудовых биографий рабочих и их воспроизводство в разных поколениях.
Этап трудового поиска сопряжен с частой сменой работы и во многом обуславливает высокую текучесть пришедших на промышленные предприятия молодых рабочих. Практически все наши рабочие получили профессиональное образование, но оно не дало им четких ориентаций не только по поводу подходящей им профессии, но и в целом сферы деятельности. Для многих действенным институтом трудовой социализации стала армия. Там они приобрели навыки, позволяющие позже устраиваться охранниками, водителями, автомеханиками и строителями. Проблема заключается в том, что на этапе трудового поиска рабочие оставляют крупные заводы в качестве запасного (крайнего) варианта, предпочитая сначала попробовать себя в более рискованных нишах. Для них даже предложение официального оформления не является принципиальным условием для трудоустройства.
Этап трудовой устойчивости, с одной стороны, видится нам преодолением негативных сторон трудового поиска. Рабочие останавливают выбор если не на какой-то одной профессии, то, по крайней мере, на одной отрасли или типе производства. Они заинтересованы в официальном приеме на работу как части своей разносторонней стратегии занятости. Трудовое равновесие достигается за счет нахождения баланса между разными видами заработка, а также домашнего труда. Данный баланс в меньшей степени зависит от состояния рынка труда, рабочие уверены, что смогут найти себе применение и в кризисные времена. Устойчивость определяется факторами индивидуальной трудоспособности. При этом ни сами рабочие, ни их работодатели не предпринимают целенаправленных усилий для ее сохранения. Рабочие не ставят перед собой профессиональных целей и не готовы настойчиво бороться за свои трудовые права, считая значимость достигнутого равновесия выше других ценностей. Они объективно смотрят на дальнейшие перспективы и считают этап трудовой устойчивости тем периодом, когда необходимо максимально физически выложиться, чтобы обеспечить желаемое качество жизни.
Главная трудность этапа трудового дожития заключается в непредсказуемости его начала. У рабочих он может наступить рано и быть связанным с профессиональным заболеванием. На данном этапе крупные заводы, а также небольшие семейные компании оказываются тем сегментом рынка труда, где информанты стремятся закончить профессиональный путь. Они не надеются на трудовые гарантии, но рассчитывают на непопулярность этих рабочих мест среди молодежи. Предприятия держатся за таких сотрудников не как за высококлассных мастеров, а как за ту немногочисленную рабочую силу, которая согласна на дискриминационные условия труда. Трудовое дожитие состоит из разнообразных практик сохранения рабочего места, но переподготовка и освоение новой профессии не входит в их число. Неформальная занятость на данном этапе также распространена, как и в случае трудового поиска. Иногда она является единственным способом устроиться на работу. Но рабочие, имеющие льготные пенсии или пенсии по инвалидности, часто целенаправленно ищут подобные места в стремлении не терять возможности их индексации.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, в рамках научного проекта № 20-04-60221
Acknowledgements. The reported study was funded by RFBR, project 20-04-60221
About the authors
Yulija V. Andreeva
Ulyanovsk State University
Author for correspondence.
Email: yulia.andre@gmail.com
Cand. Sci. (Ps.), Assoc. Prof.
Russian Federation, UlyanovskEvgeniya L. Lukyanova
Ulyanovsk State University
Email: lukyanova.jenya@gmail.com
Lecturer
Russian Federation, UlyanovskReferences
- Андреева Ю. В., Лукьянова Е. Л. Рабочий класс в России: поиск новых векторов дифференциации // Социологические исследования. 2018. № 10. С. 54–65.
- Димке Д., Карюхина И. Поселок городского типа: временные ритмы деурбанизированного сообщества // Социология власти. 2013. № 3(2013). С. 73–93.
- Игнатова С. Н. Трудовая биография как объект исследования // Социологический журнал. 2016. Т. 22. № 4. С. 60–73.
- Константиновский Д. Л., Вознесенская Е. Д., Чередниченко Г. А. Рабочая молодежь сегодня: образование, профессия, социальное самочувствие // Социологическая наука и социальная практики. 2013. № 2. С. 21–38.
- Лукьянова Е. Л. Роль профессиональных компетенций в трудовых стратегиях работников // Трудовые ценности молодежи инновационного региона. Ульяновск: УлГУ, 2020. С. 9–42.
- Макарова М. Н. Стратегии воспроизводства рабочих как отражение их трудовых и образовательных ориентаций // Социологические исследования. 2007. № 8. С. 58–65.
- Попова И. П. Этапы профессиональной карьеры и биографии ученых: перспективы исследования // (Авто)биография как объект социологического анализа. Мат. Х чт. памяти В. Б. Голофаста / Под ред. О. Б. Божкова. СПб.: Норма, 2018. C. 171–180.
- Тартаковская И. Н. Карьера рабочего как биографический выбор // Социальная мобильность в России: поколенческий аспект / Отв. ред. В. В. Семёнова, М. Ф. Черныш, А. В. Ваньке. М.: ИС РАН, 2017. С. 119–137.
- Morris J. Notes on the “Worthless Dowry” of Soviet Industrial Modernity: Making Working-Class Russia Habitable // Laboratorium. 2015. No. 7(3). P. 25–48.
- Статья поступила: 10.06.24. Финальная версия: 16.07.24. Принята к публикации: 12.08.24.
- REFERENCES
- Andreeva Ju.V., Lukyanova E. L. (2018) Working Class in Search of New Dimensions of Differentiation. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 10: 54–65. (In Russ.)
- Dimke D., Koryuhina I. (2013) Urban Settlement: Temporary Rhythms of a Deurbanized Community. Sociologiya vlasti [Sociology of Power]. No. 3: 73–93. (In Russ.)
- Ignatova S. N. (2016) Work History as a Subject of Research. Sociologicheskii zhurnal [Russian Sociological Journal]. Vol. 22. No. 4: 60–73. (In Russ.)
- Konstantinovskii E. D., Voznesenskaya G. A., Cherednichenko (2013) Young Workers Today: Education, Profession, Social Health. Sociologicheskaja nauka i social’naja praktika [Social Science and Social Practice]. No. 2: 21–38. (In Russ.)
- Lukyanova E. (2020) The Role of Professional Skills in the Labor Strategies of Employees. In: Labor Values of the Youth in the Innovative Region. Ulyanovsk: UlGU: 9–42. (In Russ.)
- Makarova M. N. (2007) Workers’ Production Strategies as a Reflection of Their Labor and Educational Orientations. Sotsiologicheskie issledovanie [Sociological Studies]. No. 8: 58–65. (In Russ.)
- Morris J. (2015) Notes on the “Worthless Dowry” of Soviet Industrial Modernity: Making Working-Class Russia Habitable. Laboratorium. No. 7(3): 25–48.
- Popova I. P. (2018) Stages of Professional Career and Biographies of Scientists: Research Prospects. In: (Auto)biography as an Object of Sociological Analysis. Mat. of the X readings in memory of V. B. Golofast. Ed. by O. B. Bozhko. Ed. St. Petersburg: Norma: 171–180. (In Russ.)
- Tartakovskaya I. N. (2017) Working-Class Career as Choice Biography. In: Social mobility in Russia: Generational aspect. Ed. by V. V. Semenova, M. F. Chernish, A. V. Vanke. Moscow: IS RAN: 119–137. (In Russ.)