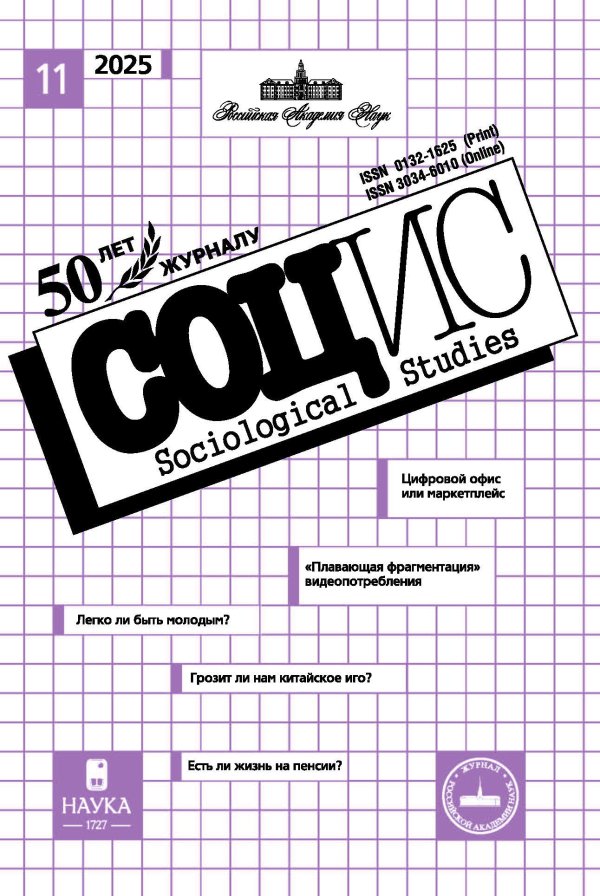Types of capital in the field of “silver volunteering”
- Authors: Iarskaia-Smirnova E.R.1, Yarskaya-Smirnova V.N.2, Kononenko R.V.1
-
Affiliations:
- University HSE
- Yuri Gagarin State Technical University
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 71-82
- Section: SOCIAL STRUCTURE. SOCIAL POLICY
- URL: https://bakhtiniada.ru/0132-1625/article/view/257695
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132162524030067
- ID: 257695
Full Text
Abstract
The article examines the features of the social capital of elderly volunteers through the prism of the Bourdieusian approach: the inequality of resources is shown and ways of converting various types of capital into the field of volunteering are presented. The temporal aspects of the formation of a volunteer’s habitus are revealed. The research makes it possible to see the problem of capital formation by the senior age volunteers through their dynamic interactions, painstaking and difficult work to create solidarity and redefine themselves. Being at the forefront of the policy of active longevity and in the field of view of the third sector, the movement of ‘silver’ volunteers contributes to the implementation of the neoliberal project of a healthy lifestyle of the elderly. An idea of silver volunteering is inclusive because people in the senior age as a socially vulnerable group get an opportunity to participate in public life, develop, and feel their need. The real practices of implementing this idea are rich in examples of human potential disclosure, the creation of cohesive communities, the embodiment of bright and important ideas not only of direct social assistance, but also of social change. At the same time, the experience of volunteering becomes a tool for distinguishing and increasing competitiveness in a field with an unequal distribution of resources.
Keywords
Full Text
Введение. Вовлечение старшего поколения в добровольчество постулируется в международном плане действий по проблемам старения (ООН, 2002) 1 как способ повышения активного социального участия пожилых, более полного использования их потенциала и опыта, преодоления изоляции. Пожилые люди стали объединяться в России 1990-е гг. для поддержки друг друга, отстаивания собственных интересов и прав. Создавались организации, группы самопомощи – низовыми инициативами и силами учреждений социального обслуживания [Щукина, 2003]. В 2013 г. пожилые волонтеры совместно с молодежью помогали в организации и проведении Универсиады в Казани, где и появился термин «серебряный волонтер».
В последние годы проведены исследования общественного вклада «серебряных» волонтеров (далее – СВ), в частности, понимания их роли на социетальном уровне, где СВ предоставляют услуги, которое государство не может или не желает предоставлять, а рынок не делает их доступнее [Dean, 2014: 146]. Рассмотренное как пространство развития и самореализации старшего поколения волонтерство предстает одной из социальных технологий расширения возможностей (empowerment) людей старшего возраста [Киенко и др., 2022: 210–211], поскольку решает экзистенциальные, социальные, политические, межпоколенческие и иные проблемы личности, социальных общностей и общества в целом [Амбарова, Зборовский, 2017]. На индивидуальном уровне добровольческая активность значима в аспектах удовлетворенности жизнью, субъективной оценки здоровья. Участие пожилых в общественных делах интерпретируется в триаде «здоровье – труд – знания» в терминах концепции «либерализации старения», которая поощряет самодостаточность в поиске ресурсов и средств реализации собственных идей и целей [Рогозин, 2016: 66].
Организация серебряного волонтерства стала задачей государства, муниципальных социальных служб, негосударственных акторов в сфере социальных услуг. Отечественные муниципальные и некоммерческие организации, вузы, молодежные объединения, пенсионные фонды начали объединять пожилых людей для участия в мероприятиях, создавать добровольческие группы и отряды [Розанов и др., 2018]. Объем научной и методической литературы по теме активного долголетия и развития добровольчества пожилых людей в России растет. Вместе с тем вовлеченность пожилых в различные формы общественной деятельности в масштабах страны не высока. На решения пожилых граждан стать волонтерами может влиять их биографическая ситуация, социальная, политическая и экономическая структура, характер символических репрезентаций и общий уровень доверия к третьему сектору. Можно говорить и об особенностях культуры старения, которые формируются историческими, культурными и экономическими условиями, уровнем доверия в обществе, структурой социальных связей, широтой и характером социальных контактов, ресурсами, которыми располагают пожилые люди.
В странах с низким уровнем социальной защищенности риторика активного участия пожилых людей расходится с их потребностями и реалиями неравенства и может стать способом угнетения маргинализированных и находящихся в неблагоприятном положении пожилых людей [Foster, Walker, 2021]. Социальные процессы старения структурированы неравенством в условиях жизни, доступности благ и услуг, а также разнообразием потребностей, неравномерностью возможностей их удовлетворения [Григорьева, Богданова, 2020] и эйджизмом. В развитых странах доля участвующих в добровольчестве пожилых составляет 30–40%. Но при этом среди волонтеров старше 55 лет с большей вероятностью оказываются жители Северной Европы, чем пожилые греки или итальянцы [Angerman, 2011]. Причины этих национальных различий исследователи усматривают в режимах благосостояния, моделях семьи и социальной среде [Salamon et al., 2017]. Исследователи убеждены: волонтерство больше развито в странах с более щедрыми системами социального обеспечения [Ackermann et al., 2023].
Усилия по поддержанию и расширению добровольческой деятельности часто основаны на предположении, что третий сектор, по сравнению с образованием или рынком труда, является ареной равенства и справедливости. Но факты и актуальные контексты указывают, что в сфере волонтерства воспроизводится социальное неравенство. Концепт волонтерства укоренен в представлениях среднего класса о необходимости помогать более уязвимым группам [Hustinx et al., 2022]. Не во всех семьях и сообществах существует традиция волонтерства, не всем одинаково легко воспринять эту идею [Pavelek, 2013: 1077]. Активное участие в общественной работе принимают люди, обладающие большим объемом ресурсов по сравнению с теми, кто не включен в добровольческую деятельность. Однако волонтеры в богатых странах не ощущают такого эффекта от участия в общественно полезных делах, как в бедных.
В 2016 г. 3,2% пожилых россиян были членами общественных организаций, 0,4% принимали участие в их работе 2. Характерное для менеджериальной точки зрения определение волонтерства как предоставления услуг через формальные организации исключает из поля зрения неструктурированную помощь друзьям, соседям или сообществу, которую чаще оказывают женщины, люди с мигрантским опытом или представители этнических меньшинств, люди с низким уровнем образования и другие группы, нередко подвергаемые дискриминации [Boneham, Sixsmith, 2003; Dean, 2021]. Между тем репертуар общественной активности и участия представителей социальных групп, в частности, пожилых людей намного шире, чем может охватить формальное определение волонтерства или индекс активного долголетия [Парфенова, Галкин, 2023].
Производство знания о СВ нередко осуществляется с точки зрения необходимости управления процессами активизации пожилых людей, на фоне чего складываются неолиберальные и патерналистские мифы и практики [Низамова, 2020; Prisiazhniuk, Holavins, 2023]. Рассматривая СВ как динамичное социокультурное взаимодействие и дискурсивный конструкт, можно попытаться раскрыть это явление на уровне индивидуального опыта [Brown et al., 2010], в аспектах ресурсов и иерархий [Hustinx et al., 2022], в том числе с применением подхода П. Бурдье [Eimhjellen, 2023], релевантность которого показана в изучении неравенства внутри пожилой когорты и в третьем секторе. В частности, показано, что в пожилом возрасте различные формы капитала вносят вклад в формирование «культуры старения», которая становится измерением стратификации [Gilleard, 2020].
Из исследований известно, что чем выше статус социальных групп, тем активнее они в волонтерстве, при этом наиболее последовательным предиктором волонтерства является образовательный статус [Musick, Wilson, 2007], а разные области третьего сектора иерархизированы, в том числе по экономическим, культурным и социальным измерениям [Meyer, Rameder, 2022]. Значит вслед за П. Бурдье волонтерство можно видеть полем, структурированным распределением капитала и неравновесными эффектами от его действия.
Нас заинтересовал взгляд пожилых людей на участие в волонтерстве в контексте самооценки объема и значимости ресурсов, которые аккумулируют и которыми обмениваются СВ. Способы аккумулирования и конвертации видов капитала показаны на основе анализа результатов серии глубинных интервью с пожилыми волонтерами (N = 18). Интервью проведены летом 2023 г., проинтервьюировано двое мужчин и шестнадцать женщин от 58 до 76 лет в городах Поволжья: Казани, Самаре, Саратове и Энгельсе. Наибольший стаж серебряного волонтерства у одной из казанских информанток – с 2013 г. Наименьший – с 2021 г. Многие информанты пришли в добровольческие группы через учреждения социального обслуживания населения, некоторые – через благотворительные фонды, ветеранские организации. Интервью проводились с применением тематического гайда, транскрипты подвергнуты процедуре открытого, осевого и выборочного кодирования. Теоретическая перспектива исследования очерчивается концептуальным аппаратом социального капитала по П. Бурдье.
Экономический капитал и неравенство. Экономический капитал информантов – это их личный доход и собственность [Бурдье, 2002: 60], богатство и власть [Musick, Wilson, 2007]. Из интервью вырисовывается картина относительно стабильного экономического положения информантов: до начала волонтерства они были активны, многие продолжали работать, не испытывали сильной материальной нужды. Например, к началу ее волонтерской карьеры одной нашей собеседнице было 73 года, она работала, ощущала себя здоровой, материально обеспеченной, «все-все у меня нормально» (И7) 3. Многие упоминают наличие дачи, у некоторых есть автомобиль.
Несмотря на общий позитивный настрой, наши информанты критически оценивают условия жизни пенсионеров, распознают существующее в стране неравенство. Они зачастую ощущают ограниченность своих ресурсов: «…некоторые живут за гранью бедности. Я, например, считаю, что заработала себе пенсию своим трудом, но эти 10 тысяч, знаете, ни о чем» (И5). Некоторые пережили утрату близкого человека и депрессию, другие имеют заболевания и инвалидность. И все же они вкладывают личные ресурсы, организуя других волонтеров, конвертируя экономический капитал в социальный: «я и благодарю их, и поздравляю с какими-то праздниками, и там подарочек куплю на свои деньги … реальная работа возможна там, где есть определенные отношения» (И1). На экономическом капитале в конечном итоге основаны культурные и социальные ресурсы, которые по этой причине вносят вклад в воспроизводство статусной иерархии [Musick, Wilson, 2007]. Высоко оценивается экономическая независимость, а также капитализируемые характеристики здоровья и ресурсы свободного времени, являясь элементами неолиберальной модели реструктуризации государства всеобщего благоденствия. В бурдьевистской традиции капитал здоровья определяется как совокупность ресурсов, объединяющая элементы всех видов капитала, которые могут быть использованы для сохранения здоровья и совладания с болезнями [Shneider-Kamp, 2021]. Материальная обеспеченность, компетенции и мотивы, прочные социальные связи влияют на жизненные стили и возможности людей в сфере здоровья. Однако указанные активы распределены неравномерно среди пожилой когорты, и в рассматриваемом поле оказываются ее наиболее ресурсные представители.
Неравенство в культурном капитале. Информанты владеют культурными ресурсами в форме знаний, навыков, вкусов, ценностей и предпочтений, которые иерархически структурированы, в том числе в силу специфики поля серебряного волонтерства. Здесь больше ценятся эффективность и лидерство, навыки, востребованные в проектной деятельности, конкурентоспособность индивидов и групп.
Накопление культурного капитала требует усилий по освоению новых форм деятельности и времени, свободного от экономической необходимости [Бурдье, 2002]. После выхода на пенсию у пожилых людей высвобождается временной ресурс, который они могут конвертировать в значимые для общности блага [Амбарова, Зборовский, 2017: 41]. Информанты рассказывают о приобретении навыков видеосъемки и монтажа, моделирования, шитья одежды, актерского мастерства, учатся готовить проектные заявки, изучают иностранные языки. Бурдье это называет инкорпорированием или культивированием, связывая с наращиванием «культурной мускулатуры», приобретением культурных свойств [Бурдье, 2002: 60]. Такая работа требует самоотречения: «замечаю за нашими СВ такую особенность. Когда надо – они встали и пошли, и болячки отступают» (И4); «быть очень ответственным и помогать людям, не о себе думать, а больше о людях» (И3).
Многие пожилые женщины, считает другая собеседница, уделяют слишком много времени семье, мужу, внукам, «впадая в жертвенность», поэтому время для нее – это «вопрос цели» (И10). Тема баланса в рассказах информантов соединяется с планированием расписания и достижением договоренностей. И хотя они часто ставят в приоритет волонтерские задачи, а «личные предпочтения отодвигают на задний план» (И9), насыщенность времени делами рассматривается как шанс удовлетворения своих желаний: «если будет интересно, то время найдешь и для себя любимой» (И8). Между тем связь, устанавливаемая между экономическим и культурным капиталом, опосредуется временем, необходимым на их приобретение, а временные ресурсы во многом определяются семейной структурой. Отметим, что в России в 2007 г. около 87% бабушек помогали в воспитании внуков [Синявская, Гладникова, 2007], а в монородительских семьях их помощь востребована еще больше. И чем ниже ее социально-экономический статус, тем больше женщина вовлечена в занятия с внуками [Краснова, 2000].
В наших полевых данных представлены разные случаи. У одних внуков нет, у других – они выросли или живут далеко. Третьим удается все совмещать, получая от жизни удовольствие: «Ну просто летать охота» (И7). В бурдьевистском смысле обмен капиталом зависит от того, насколько хорошо человек знает ценности и правила обмена, и того, насколько он способен использовать эту систему для дальнейшего накопления капитала [Kukkonen, 2021]. Говорили о межпоколенческих договоренностях, перекройке расписания, навыках планирования, что позволяет сбалансировать функции бабушек и дедушек с задачами участников или руководителей мероприятий.
В фокусе внимания волонтеров всегда менее ресурсные группы. Практики помощи или социокультурные проекты, осуществляемые информантами, не только отражают векторы перераспределения экономического капитала – в том числе из внешних источников (доноров) и от более ресурсных пожилых людей из числа волонтеров к социально уязвимым и слабым, но и пополняют культурный капитал участников движения. Активность СВ в их работе с одинокими немощными людьми, поездки в интернаты к детям-сиротам и в дома престарелых, судя по рассказам информантов и публикациям [Парфенова, 2020], повышают социальную включенность как «подопечных», так и пожилых добровольцев. В этих отношениях проявляется и социальное неравенство, в том числе пожилых людей: адресаты помощи и те, кто навещает их с акциями доброй воли, находятся на разных этажах общественной структуры. Некоторые информанты впервые познают эту огромную социальную дистанцию. Говоря о причинах неучастия других пожилых в волонтерской деятельности, одна из наших собеседниц обнажает глубокие разрывы социальной ткани и травмирующий характер собственного прозрения: «может, брезгуют, никто не хочет этим заниматься, ездить в этот вот дом милосердия. Когда я пришла, представляете, я никогда не знала, что есть бомжи. Они грязные, попрошайничают… да, с человеком может случиться несчастье, он может сам где-то оплошать, унизиться до этого, может быть, тюрьму прошел… Господи, вот когда ты приходишь туда, вы знаете, я в шоке была: ты видишь их искалеченных и без ног, и без рук…» (И17). К париям относятся бывшие заключенные, бездомные, люди с ментальными расстройствами, заболеваниями, иммобилизованные, и наши информанты убеждены, что для них важно: «в первую очередь не быть обузой для родственников, чтоб в здравом уме, на ногах, не превратиться в бабульку такую» (И14).
«Серебряное волонтерство» в перспективе дискурса активного долголетия и «управленитета». Лейтмотив «не быть обузой» характерен для дискурса долголетия, включающего волонтерство пожилых как способ снизить уровень рисков, продлить активную независимую жизнь [Pavelek, 2013: 1077; Розанов и др., 2018]. В некоторых рассказах делается акцент на принятии образа пожилых людей их молодыми детьми, которые «видят: чем дольше родители будут жить активной жизнью, тем меньше забот они им добавят» (И6).
Волонтерство часто обсуждают в инструментальном ключе как способ решить личные и социальные проблемы. Такой дискурс становится частью «управленитета» [Фуко, 2011], т. е. отношений, которые связывают управляемых и управляющих, включенных в режимы практик, дискурсов и технологий формирования субъектов [Кларк, 2003: 77] так, чтобы они укрепляли, а не разрушали существующий социальный порядок. В проектах продвижения добровольчества есть элемент неолиберального управленитета, при котором представителей некоторых социальных групп поощряют брать на себя ответственность за свое индивидуальное и коллективное благополучие [Dean, 2014] в ходе реструктуризации государства всеобщего благоденствия [Hemment, 2015: 49].
По убеждению некоторых информантов, важно пересмотреть господствующее представление о пожилых людях исключительно как о «получателях услуг». Альтернативный образ – участники, инициаторы и лидеры мероприятий и проектов – предполагает высокое качество жизни, человеческий потенциал, альтруистическую и инструментальную мотивацию [Anheier, Salamon, 1999]. Эти акторы соответствуют принципам красивого, продуктивного, активного долголетия [Prisiazhniuk, Holavins, 2023]. Скепсис в духе Бурдье по поводу концепции активного долголетия обусловлен подозрениями, что универсальные позитивные ценности прикрывают интересы и расчеты власть имущих: например, развивать активность и самодостаточность пожилых необходимо, чтобы сократить расходы на их поддержку [Siisiäinen, 2003: 197].
Пожилой возраст часто выступает как ограничение. Но в сообществе СВ – это ресурс, символическая ценность, ядро габитуса. Однако формальная организация может не допускать СВ к выполнению задач, которые были бы для них посильны и органичны в их естественной среде: «подали заявку, а тебя не приглашают. Сказали, возраст… вестибулярный аппарат… Я говорю: да вроде у меня … нормально все, высоты не боюсь» (И16). Формализация добровольчества направляет и ограничивает репертуар действий СВ, иногда это ведет к делегитимации субъектности СВ.
Автопортреты наших собеседников создаются скорее в красках бодрости, интереса к жизни и альтруистической этики: «я всегда активная была» (И10), «я по жизни такая энергичная, куда-то все стремлюсь, кому-то мне хочется помочь» (И3). «А есть люди, которым ничего не нужно, даже среди молодых, которые будут вот на диване лежать перед телевизором и все» (И4). У всех индивидуальные причины – у одних «бывает конечно, и здоровье, конечно, но в основном мне кажется, вот какая-то лень или неохота» (И14), а другие «себя заставляют встать и пойти» (И4).
Однако далеко не все пожилые имеют возможность воплотить принципы активного долголетия. Здоровье, независимость, достаток, развитость инфраструктуры в разных населенных пунктах опосредуют шансы людей на «продуктивную» или «красивую» старость [Prisiazhniuk, Holavins, 2023], на социальную активность [Осьмук, Незамаева, 2021]. Мотив слабого здоровья как причины неучастия в волонтерстве озвучивается в интервью не напрямую, а в контексте мотивации к преодолению «болячек» и «лени». Хорошее физическое и ментальное здоровье по умолчанию принимается как условие участия, неподходящим представляется потребительское отношение к жизни и социуму: «Если человек был потребителем пожизненно, он останется хроническим получателем услуг… А тот человек, который сохраняет активность, другим людям раньше помогал – значит, найдешь возможности в пожилом возрасте» (И1). В этой цитате звучит дихотомия между «успешным участием» и «безуспешной пассивностью» [Katz, Calasanti, 2015], характерная для неолиберальных идеалов активного долголетия [Низамова, 2020].
Конвертация ресурсов в социальный капитал. Нередки были примеры, как пожилые волонтеры выходили с инициативами мероприятий и проектов, и практически во всех интервью один из ключевых лейтмотивов – лидерство. Не имея опыта руководящей работы, пожилые люди отмечают у себя рост менеджерских навыков и качеств: «мне было сложно руководить людьми, которые имеют такой опыт и по возрасту старше меня, и я стала учиться у них. Сама стала очень организованной. Научилась» (И9). «Мне кажется, я справляюсь, уверенность появилась, что я смогла» (И14). Культурная компетенция – руководить группой, писать проекты – имеет дефицитную ценность и приносит обладателю выгоду. В ряде интервью информанты рассказывали об участии в тренингах по написанию грантовых заявок, своих навыках и успешном опыте подготовки проектов. Однако культурных компетенций недостаточно, нужен и социальный капитал в виде принадлежности к сети контактов, группе, организации.
Становясь частью личности, габитуса, культурный капитал позволяет серебряным волонтерам распознавать, понимать друг друга, увеличивая социальный капитал: «говоришь: девчонки, завтра надо то-то сделать. …всегда найдутся такие люди, которые говорят: да-да, давайте пойдем, сделаем» (И4). Волонтеры ощущают востребованность и желание передать свои знания, остаться в памяти людей, что позволяет конвертировать культурный капитал в социальный. Трансляция умений поощряется одобрительным откликом аудитории, получая экспертную оценку: «Опытный человек отдает свои наработки другим, получает удовольствие от того, что кто-то это принимает, видит результат по благодарности… а отдаленные результаты… видит уже специалист» (И1). Взаимообмены эмоционально окрашены; «есть желание вкладываться в других, а если дефицит энергии, – чувствуешь, что необходимо, чтоб в тебя кто-то вложился» (И1). Эти отношения могут существовать только в форме работы по установлению социальных связей, непрерывного материального и/или символического обмена, в ходе которых утверждается и подтверждается признание [Бурдье, 2002: 66]. Солидарность делает обмены капиталом возможными и взаимовыгодными. При этом, несмотря на складывающиеся дружеские отношения между волонтерами, часто речь идет о формализованном членстве в группе. В интервью звучали понятия организации, оценки, лидерства, команды, сплоченности и отбора ответственных людей: «если человек не очень, его не берут… сложилась десятка (членов команды), все делаем вместе» (И5).
Признание – не единственная реакция окружающих, с которой сталкиваются наши собеседники. Встречается непонимание, например, при информировании населения о новых услугах: «проводили акцию – и женщина в киоске начала на нас кричать, ругаться: «Что вы здесь ходите, людей заманиваете, такие-сякие!» Телефон доверия – не приняли люди, неправильно воспринимают, даже всячески обзывают» (И3). Рассказывали и о конфликтах, дефиците социальных связей и неприятии. Конкуренция не всегда выигрывается СВ, особенно, если они в одиночку вступают в социальную борьбу в поле, где ресурсы распределены не в их пользу, как произошло с одной из информанток. Будучи главной по дому, она стала инициатором сноса гаражей во дворе для строительства детской площадки. И хотя на момент интервью двор был уже благоустроен, в период конфликта женщина перенесла физическое насилие, а соседи не защитили ее: «У меня нет соседок-подружек. У меня есть те, которые присутствовали при моем избиении. Я с ними даже не здороваюсь с некоторыми… они изображали, что ничего не произошло» (И2).
Многие говорили о положительной репутации движения. Одна из наших собеседниц организовала социальный магазин, и незнакомая женщина принесла ей стул для удобства: «Просто до того тепло стало на душе… Вот думаешь, люди так относятся к тебе – как к волонтеру» (И1). Объем социального капитала растет у всего движения СВ, символические ресурсы увеличиваются признанием волонтерства в обществе.
Исследование самоорганизации людей старшего возраста в трех российских регионах [Киенко и др., 2022], не обнаружило выраженных региональных различий форм самоорганизации СВ. Успешность таких инициатив, согласно выводам исследователей, обусловлено мотивацией, общностью интересов и социальным капиталом объединяющихся пенсионеров. Поддержка ближайшего круга, муниципальных, некоммерческих и частных организаций создают каркас и способствуют увеличению социального капитала СВ за счет солидаризации, а также росту положительной общественной репутации. Пожилые активисты и их сообщества помогают нуждающимся, выявляют тех, кого не замечали, не признавали таковыми, разрабатывают проекты и привлекают ресурсы, тем самым участвуя в решении социальных проблем и снижении социального неравенства [там же: 211].
Как и в других странах с сильным участием государства в социальной сфере, в России волонтерство стало формой гражданской вовлеченности и элементом управления, войдя в систему показателей эффективности чиновников, служб, проектов и самих волонтеров, если они получают статус участников официальных проектов. Ценность волонтерства для пожилых людей – в участии, а для менеджеров – в эффективности, измеряемой количеством участников и грантов. Для получения финансирования организации должны прикладывать к проектам список участников-волонтеров с паспортными данными и подписями. А волонтеры, став членами проектов, должны регистрироваться (например, на портале dobro.ru) и привлекать к участию других, чтобы те стали «полноправными волонтерами», а «ряды множились» (И17). И хотя многих удается присоединить к акциям, например, вязать носки для отправки в учреждения или в армию, но не все при этом соглашаются регистрироваться на портале, тем самым затрудняется требуемый прирост показателей (И16). В результате применения неоменеджериалистского подхода вокруг участия пожилых волонтеров складывается ситуация дефицита, возникают конкурентные отношения и борьба за эффективность.
Выводы. Поскольку СВ – часть государственной глобальной политики в отношении старшего поколения, этой группе свойственны черты тех, кто участвует в программах активного долголетия, – инициативность, интерес к жизни и самопознанию. Здесь нет формальных ограничений. Практики отбора отдают приоритет наиболее активным и благополучным, здоровым и ответственным. В концепт серебряного волонтерства встроены неоменеджериалистские ориентиры, предполагающие оценку результативности и обращение к экспертному знанию. Практика СВ, таким образом, отвечает идеалам проектной культуры с акцентом на доказательности, планировании и подотчетности. Ценится и развивается лидерство, а опыт волонтерства становится инструментом различения и повышения конкурентоспособности. Образ пожилого волонтера восполняет ценностный дефицит неолиберального идеала – независимого, заботящегося о себе индивида, демонстрируя альтруистическую траекторию старения. Формирование габитуса СВ через инкорпорирование культурных свойств требует усилий, времени, самоограничения. В нарративах о социальном признании появляются коды личного достоинства, востребованности, известности и престижных контактов как легитимных компетенций, означающих узнаваемость субъектов. Соревновательные отношения институциализированы в формате отборочных мероприятий, опосредуются негласными требованиями, связями и неформальными договоренностями. Такие ресурсы в глазах пожилых добровольцев обладают высокой социальной ценностью еще и потому, что вокруг участия в них формируется ситуация конкуренции и дефицита.
Инклюзивная концепция серебряного волонтерства, согласно которой пожилые люди получают возможность развития и самореализации, общественного участия и признания, оформляется неолиберальными ориентирами ответственности и патерналистской логикой помощи нуждающимся. А поскольку к проектам удается подключить наиболее ресурсных представителей старшего поколения, в самом СВ воспроизводятся статусные иерархии, наделяемые смыслами новой культуры старения, где к образу бодрого и независимого активного долгожителя добавляются просоциальные ориентиры. Символический капитал СВ объединяет в себе элементы проектной культуры с характерными для нее акцентами на управляемости и эффективности, но при этом дополняет ее ценностями альтруизма и коллективизма.
Пожилые люди высоко ценят свое участие в добровольчестве, ощущая полноту и краски жизни, забывая о невзгодах, субъективно выше оценивая свое здоровье. Они делятся своей мудростью, получают новые знания и умения, обретают новые статусы и роли. Многие из них получают выгоды, прежде всего морального плана, их интерес к жизни растет, а их статусы и роли становятся более разнообразными. Накоплено множество примеров раскрытия человеческого потенциала, формирования сообществ, оказания прямой поддержки и реализации социальных изменений. Стоило бы отказаться от бинарного представления об активных и пассивных, пересмотреть определение активности и добрых дел, когда они сведены к формальному участию в группах и программах.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Описание полевых данных
И1. Самара, ж. 60 лет, организатор СВ в системе социальной защиты более 10 лет, стаж СВ 6 лет, СВ при социальной защите.
И2. Самара, ж. 65 лет, стаж СВ 7 лет, активист по дому и СВ при социальной защите.
И3. Самара, ж. 67 лет, стаж СВ 1 год, СВ при социальной защите.
И4. Самара, ж. 63 года, стаж 3 года, СВ при социальной защите.
И5. Самара, ж. 76 лет, стаж 3 года, СВ при социальной защите.
И6. Энгельс, м. 66 лет, стаж 6 лет, СВ при социальной защите.
И7. Энгельс, ж. 73, стаж 2 года, СВ при социальной защите.
И8. Энгельс, ж. 60 лет, стаж 4 года, СВ при социальной защите.
И9. Энгельс, ж. 62 года, стаж 4 года, СВ при социальной защите.
И10. Энгельс, ж, 58 лет, стаж 3 года, СВ при социальной защите.
И11. Саратов, ж, 76 лет, стаж 3 года, СВ при социальной защите.
И12. Саратов, м. 72 года, стаж 5 лет, СВ при социальной защите.
И13. Саратов, ж. 74 года, стаж 2 года, СВ при социальной защите.
И14. Саратов, ж. 58 лет, стаж 3 года, СВ при социальной защите.
И15. Саратов, ж. 71 год, стаж 5 лет, активист по дому и в экологических городских инициативах, СВ при социальной защите.
И16. Казань ж., 72 года, стаж 10 лет, СВ при социальной защите, в проектах благотворительного фонда, городских сообществ.
И17. Казань, ж, 66 лет, стаж 6 лет, активист благотворительного фонда, инициатив городских сообществ.
И18. Казань, ж, 70 лет, стаж 3 года, активист ветеранской организации, инициатив городских сообществ.
Авторы признательны коллегам, помогавшим в проведении интервью, а также рецензентам и редакторам журнала «Социологические исследования» за ценные замечания и рекомендации.
Статья подготовлена по результатам проекта, выполненного в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ «Высшая школа экономики».
1 Political Declaration and International Plan of Action on Aging. UN, Маdrid, 8–12.04.2002. URL: https://www.un.org/esa/socdev/documents/ageing/MIPAA/political-declaration-en.pdf (дата обращения: 12.02.2024).
2 Комплексное обследование условий жизни населения в 2016 г. Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru /search?q=Комплексное+обследование+условий+жизни+населения»+в+2016+ (дата обращения: 23.02.2024).
3 Здесь и далее шифрами И 1 – И 18 обозначен порядковый номер информанта, сведения об информантах представлены в разделе «Описание полевых данных».
About the authors
Elena R. Iarskaia-Smirnova
University HSE
Email: eiarskaia@hse.ru
Dr. Sci. (Sociol.), Prof., Head of International Laboratory for Social Integration Research
Russian Federation, MoscowValentina N. Yarskaya-Smirnova
Yuri Gagarin State Technical University
Author for correspondence.
Email: eiarskaia@hse.ru
Dr. Sci. (Philos.), Prof., Director of the Scientific and Educational Center for Monitoring Research
Russian Federation, SaratovRostislav V. Kononenko
University HSE
Email: rkononenko@hse.ru
Cand. Sci. (Sociol.), Assos. Prof. of the Department of General Sociology
Russian Federation, MoscowReferences
- Ackermann K., Erhardt J., Freitag, M. (2023) Crafting Social Integration? Welfare State and Volunteering Across Social Groups and Policy Areas in 23 European Countries. Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Vol. 75: 83–304. doi: 10.1007/s11577-023-00881-8.
- Ambarova P., Zborovski G. (2017) Volunteers of the ‘silver’ age: regulating of temporal strategies of behavior of the age group. Vestnik PNIPU. Social’no-ekonomicheskie nauki [Herald of PNIPU. Socio economic studies]. No. 4: 35–47. doi: 10.15593/2224-9354/2017.4.3. (In Russ.)
- Angermann A. (2011) Senior Citizens and Volunteering in the European Union. Observatory for Sociopolitical Developments in Europe, November 2011. URL: https://www.sociopolitical-observatory.eu/uploads/tx_aebgppublications/Backgroundpaper_Senior_Citizens_Volunteering_11_2011_BEO.pdf (accessed 23.02.2024).
- Anheier H. K., Salamon L. M. Volunteering in and the concept of social capital. Social Sciences: Journal Articles. Paper 4. URL: http://digitalcommons.bolton.ac.uk/socsci_journalspr/4 (accessed 23.02.2024).
- Boneham M., Sixsmith J. (2003) Volunteering and the concept of social capital // Social Sciences: Journal Articles. Paper 4. URL: http://digitalcommons.bolton.ac.uk/socsci_journalspr/4 (accessed 23.02.2024)
- Bourdieu P. (2002) Forms of capital. Ekonomicheskaya sociologiya [Economic sociology]. No. 3(5): 60–74. (In Russ.)
- Brown J. W., Chen S.L, Mefford L. et al. (2011) Becoming an older volunteer: a grounded theory study. Nursing Research and Practice. doi: 10.1155/2011/361250.
- Clarke J. (2003) Unstable States: The Transformation of Welfare Systems. The Journal of Social Policy Studies. No. 1(1): 69–88.
- Dean J. (2014) How structural factors promote instrumental motivations within youth volunteering: A qualitative analysis of volunteer brokerage. Voluntary Sector Review. Vol. 5. No. 2: 231–247. doi: 10.1332/204080514X14013591527611.
- Dean J. (2021) Informal volunteering, inequality, and illegitimacy. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly. No. 51(3): 527–544. doi: 10.1177/08997640211034580.
- Eimhjellen I. (2023) Capital, Inequality, and Volunteering. A Bourdieusian Perspective. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. No. 34: 654–669. doi: 10.1007/s11266–022–00501–7.
- Foucault M. (2011) Security, territories, population. A course of lectures delivered at the Collège de France in the 1977–1978 academic year. St. Petersburg: Nauka: 161–162. (In Russ.)
- Gil-Lacruz M., Saz-Gil M.I., Gil-Lacruz A.I. (2019) Benefits of Older Volunteering on Wellbeing: An International Comparison. Frontiers in Psychology, Section Organizational Psychology. No. 10. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02647.
- Gilleard Ch. (2020) Bourdieu’s forms of capital and the stratification of later life. Journal of Aging Studies. Vol. 53. doi: 10.1016/j.jaging.2020.100851. URL: https://scholarship.law.duke.edu/lcp/vol62/iss4/3 (accessed 03.12.2023).
- Grigorieva I. A., Bogdanova E. A. (2020) The concept of active aging in Europe and Russia in the face of the COVID-19 pandemic. Laboratorium: Zhurnal social’nyh issledovanij [Laboratorium: Journal of Social Research]. No. 12(2): 187–211. doi: 10.25285/2078-1938-2020-12-2-187-21. (In Russ.)
- Haski-Leventhal D. (2009) Elderly volunteering and well-being: A cross-European comparison based on SHARE data. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. No. 20: 388–404.
- Hemment J. (2015) Youth Politics in Putin’s Russia: Producing Patriots and Entrepreneurs. Bloomington: Indiana University Press.
- Hustinx L., Grubb A., Rameder P., Shachar I. Y. (2022) Inequality in Volunteering: Building a New Research Front. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. No. 33: 1–17. doi: 10.1007/s11266-022-00455-w.
- Katz S., Calasanti T. (2015) Critical perspectives on successful aging: does it “appeal more than it illuminates”? Gerontologist. No. 55(1): 26–33. doi: 10.1093/geront/gnu027.
- Kienko T., Pevnaia M., Telepaeva D., Ptitsyna N., Kaigorodova L. (2022) Practices of self-organizing and activities of people of senior age in three Russian regions. In: Widening opportunities (empowerment) of people of senior age in practices of self-organizing and activity. Ed. by T. Kienko. Rostov-on-Don: FNO: 176–215. (In Russ.)
- Krasnova O. V. (2000) Grandmother in the family. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 3: 108– 116. (In Russ.)
- Kukkonen I. (2021) Physical Appearance as a Form of Capital: Key Problems and Tensions. In: Sarpila O., Kukkonen I., Pajunen T., Åberg E. (eds) Appearance as Capital. Leeds: Emerald Publishing: 23–37. doi: 10.1108/978-1-80043-708-120210002.
- Meyer M., Rameder P. (2022) Who Is in Charge? Social Inequality in Different Fields of Volunteering. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. No. 33: 18–32. doi: 10.1007/s11266-020-00313-7.
- Musick M. A., Wilson J. (2007) Volunteers. A Social Profile. Bloomington: Indiana University Press.
- Nizamova A. (2020) Normativity and personality in old age: a media discourse on “Active longevity” in modern Russia. Laboratorium: Zhurnal social’nyh issledovanij [Laboratorium: Journal of Social Research]. No.12 (2): 45–67. doi: 10.25285/2078-1938-2020-12-2-45-67 (In Russ.)
- Osmuk L. A., Nezamaeva O. V. (2021) Social activity of elderly people living in a large city: opportunities and problems. Vestnik TomGU. Filosofiya. Sociologiya. Politologiya [Bulletin of Tomsk State University. Philosophy. Sociology. Political science]. No. 62: 102–110. doi: 10.17223/1998863X/62/9. (In Russ.)
- Parfenova O. A. (2020) Involvement of the elderly in volunteer and civic activity as a tool to overcome social exclusion. Monitoring obshchestvennogo mneniya: ekonomicheskie i social’nye peremeny [Monitoring public opinion: economic and social changes]. No. 4: 119–135. DOI: 10.14515/ monitoring.2020.4.1580. (In Russ.)
- Parfenova O. A., Galkin K. A. (2023) Social activity and participation of elderly Russians in the context of active longevity. Zhurnal sociologii i social’noj antropologii [Journal of Sociology and Social Anthropology]. No. 26(1): 200–223. (In Russ.)
- Pavelek L. (2013) Senior Volunteering in the Context of Active Ageing. World Applied Sciences Journal. No. 26(8): 1070–1078. doi: 10.5829/idosi.wasj.2013.26.08.1708.
- Prisiazhniuk D., Holavins A. (2023) Active Ageing and Social Services: The Paradox of Empowerment in Russia. Europe-Asia Studies. No. 75(2): 309–329. doi: 10.1080/09668136.2022.2094341.
- Rogozin D. M. (2016) Liberalization of aging, or labour, knowledge and health in senior age. In: Old people belong here: social interpretation of aging. Ed. by D. Rogozin, A. Ipatova. Мoscow: IS RAN: 8–41. (In Russ.)
- Rozanov V. A., Maltseva Yu.S., Tsaranov K. N. (2018) Methodological manual “silver” volunteering: key aspects of development. Association of Volunteer Centers. URL: https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2018/10/22/Metod%20posobie%20serebtyanie%20volonteri.pdf (accessed 03.12.2023).
- Russell A., Nyame-Mensah A., De Wit A., Handy F. (2018) Volunteering and Wellbeing Among Ageing Adults: A Longitudinal Analysis. International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. No. 30(2). 115–128. doi: 10.1007/s11266-018-0041-8.
- Salamon L. M., Sokolowski S. W., Haddock M. A. (2017) Explaining civil society development: A social origins approach. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Schneider-Kamp A. (2021) Health capital: toward a conceptual framework for understanding the construction of individual health. Social Theory and Health. No. 19: 205–219. doi: 10.1057/s41285-020-00145-x
- Shchukina N. P. (2003) Institute of Mutual Assistance in social support of the elderly. Moscow: Dashkov and K. (In Russ.)
- Siisiäinen M. (2003) Two Concepts of Social Capital: Bourdieu vs. Putnam. International Journal of Contemporary Sociology. No. 40: 183–204.
- Sinyavskaya O., Gladnikova E. (2007) Adult children and their parents: intensity of contacts. Demoskop Weekly [Demoscope Weekly]. No. 287. URL: http://demoscope.ru/weekly/2007/0287/index.php (accessed 03.12.2023). (In Russ.)