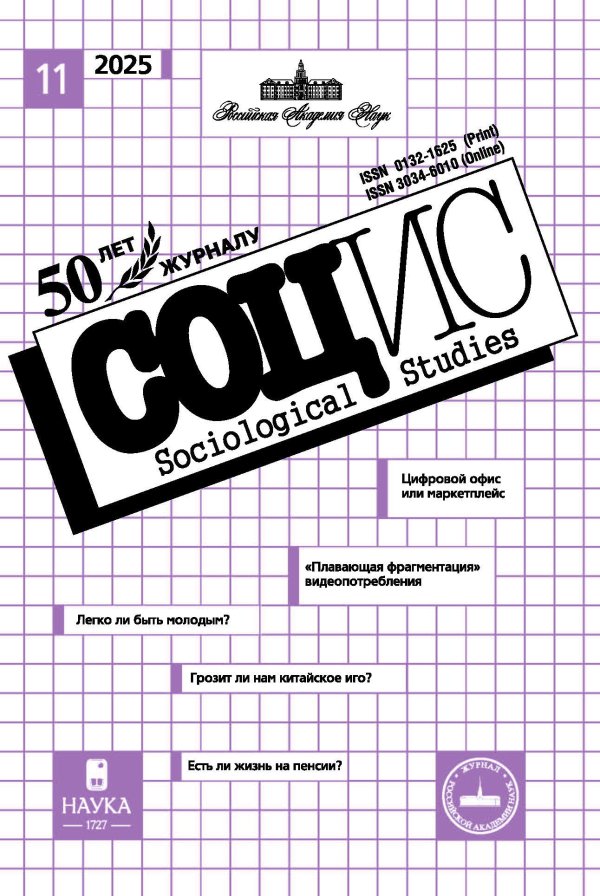Dynamics of ideals in contemporary Russia: а system analysis
- Authors: Klupt M.A.1
-
Affiliations:
- St. Petersburg State University of Economics
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 136-146
- Section: SOCIOLOGICAL JOURNALISM
- URL: https://bakhtiniada.ru/0132-1625/article/view/257066
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0132162524010124
- ID: 257066
Full Text
Abstract
The article considers the changes in Russian society and its ideals as a feedback system. Two strata of these changes are separated, a more dynamic and superficial formed by mass-media, and a more fundamental and inert one determined by specificity of civilization. Parallels are drawn between fascination of some western intellectuals with the Soviet reality of the 1930s and fascination in Russia of the 1990s with imaginary West, which are rooted in the bankruptcy of the former ideals. The concept of pendulum of ideals is introduced to analyze the changes in hierarchy of economic and non-economic ideals. This pendulum moved to its economic pole in Russia of the 1990th, but nowadays started, as polls show, to move towards its non-economic pole. This conclusion is confirmed by surveys conducted by the Public Opinion Foundation (FOM), which show that the share of respondents who consider themselves patriots increased from 57 per cent in 2006 to 84 per cent in 2023. In addition, as surveys show, volunteering is gaining in popularity, and importance of non-economic component of ideal family image is on the increase.
Full Text
Под идеалом обычно понимают тот верх совершенства, к которому следует стремиться, но который, подобно горизонту, всегда будет отдаляться от путника. Идеалы можно рассматривать как высший уровень регуляции социального поведения, или, используя противоположную метафору, как самый глубинный слой, лежащий в его основе. Обе эти метафоры, впрочем, справедливо подчеркивают важность роли, которую играют идеалы в развитии общества.
Системные представления о мире, возникшие некогда на основе обобщения множества фактов, создали тем самым предпосылки решения обратной задачи – интерпретации новых фактов на основе этих представлений. Ту же логику правомерно использовать и при системном анализе роли идеалов в обществе. Этим определяется цель данной статьи – вначале описать систему взаимосвязей между изменениями общества и его идеалов, а затем использовать ее для интерпретации процессов, происходящих в современной России.
Идеалы и социальные системы. Тезис, принципиально важный для рассмотрения изменений общества и его идеалов как взаимосвязанной системы, сформулировал в 1911 г. Э. Дюркгейм: общество «не может формироваться, не создавая идеала» [Дюркгейм, 1995: 300]. Российские философы В. П. Бранский и С. Д. Пожарский, анализируя всемирно-исторический процесс, подчеркнули еще один важный аспект динамики идеалов – ее цикличность. Представленная в их работе модель включает подъем идеала на волне всеобщего энтузиазма, достижение им высшей точки («акме»), последующее низвержение («катаболе») и вызванное этим уныние, а затем появление нового идеала, проходящего тот же путь [Бранский, Пожарский, 2001].
Реальная динамика идеалов, разумеется, сложнее простой циклической модели в силу многообразия идеалов, интерференции их волн и синергии взаимодействия, однако цикличность играет в этой динамике заметную роль. В конечном счете, идеалы, как и их обновление, жизненно необходимы для воспроизводства и развития социальной системы. Периоды аномии, следующие за утратой прежних идеалов, неизбежны, но, если они затягиваются слишком надолго и не приводят к формированию новых идеалов, социальная система распадается.
Идеалы морально легитимируют одни институты и ставят под сомнение легитимность других. Используя понятие институциональной матрицы [Кирдина, 2014], можно поэтому сказать, что идеалы лежат в фундаменте этой матрицы, образуя самый глубинный его слой.
Формирование идеалов социальной системой является одной из составляющих процесса ее адаптации к внешней среде. В процессе адаптации к внешней среде социальная система стремится провести различение c другими социальными системами [Луман, 2004]. Одной из функций такого различения является сплочение вокруг «своих» идеалов, противопоставляемых «чужим». Равновесие и конфликт идеалов представляют собой поэтому диалектически связанную пару. В «борьбе за умы» каждая из противоборствующих систем стремится сохранить или создать свою иерархию идеалов и разрушить идеалы противника, целью конфликтующих сторон является при этом достижение желаемого каждой из них варианта равновесия.
В ходе самоорганизации социальной системы ею осуществляется поиск такой иерархии идеалов, которая была бы оптимальной для данных условий ее функционирования и производных от нее пропорций между индивидами, руководствующимися в своей деятельности различными этосами и типами мотивации. Такой поиск происходит путем проб и ошибок. Значительную роль в нем играет правящая элита и интеллектуалы, рекрутируемые ею или являющиеся ее частью. Основным механизмом формирования идеалов элитой является регулирование потоков информации – щедрое финансирование одних СМИ и блокировка других, государственная политика в сфере культуры и искусства и т. д.
В то же время способность элиты формировать идеалы не беспредельна. Структура идеалов включает два слоя – не только верхний, подвижный слой, более или менее успешно формируемый элитой, но и глубинный, относительно инертный слой представлений о социальной справедливости. Элита в соответствии со своими представлениями о политической целесообразности то игнорирует этот глубинный слой, то стремится «разбудить» его дремлющий до поры энергетический потенциал.
Социальная система обладает памятью и помнит не только состояние, непосредственно предшествовавшее нынешнему, но и предыдущие [Левада, 1980]. Революции и другие крутые виражи истории сопровождаются дискредитацией прежних идеалов, однако по прошествии некоторого времени происходит их реинкарнация. В новых идеалах начинают явно просматриваться знакомые черты старых, отброшенных, как когда-то казалось, навсегда.
Необходимо сделать замечание методологического порядка. Утверждения о роли идеалов в социальных системах, приведенные выше, носят, как это легко видеть, функциональный характер. Они в конечном счете исходят из того, что функцией идеала в социальной системе является обеспечение ее воспроизводства и обновления.
В этой связи уместно вспомнить то, что Г. С. Батыгин назвал «парадоксом функционализма», – функционалистские объяснения обладают значительным эвристическим потенциалом, но в то же время всегда чреваты тавтологией и носят телеологический характер [Батыгин, 2003]. С формально-логической точки зрения объяснение формирования идеалов тем, что оно обеспечивает воспроизводство социальной системы, действительно тавтологично – подобным образом можно объяснить формирование любых идеалов, в том числе прямо противоположных. Однако конкретная исследовательская ситуация, как правило, далеко не столь безнадежна. События истории, в нашем случае – российской, дают богатый материал для обоснования того, почему социальные системы и идеалы взаимодействовали между собой тем, а не иным образом.
Повороты истории и маятник идеалов. Классификация идеалов представляет собой сложную задачу, ибо их много и они разнородны. Для целей данной статьи, однако, достаточной является дихотомия экономических и неэкономических идеалов. Как те, так и другие будут далее пониматься не всеохватно: первые – только как личностные идеалы – стать преуспевающим бизнесменом, высокооплачиваемым работником или просто «богатым», вторые – как те, что порождают стремление к высокому, – самоотверженному служению Родине, жажде познания, поиску эстетического совершенства и т. д. В качестве их лаконичного обозначения обычно используют такие категории, как патриотизм, истина, красота.
Названная дихотомия позволяет использовать в анализе понятие маятника идеалов, под которым далее понимаются периодические изменения приоритетности экономических и неэкономических идеалов. Эти идеалы представляют собой взаимодополняющую, но в то же время конфликтную пару. Социальная система не может развиваться без тех и других и потому постоянно их воспроизводит. Одновременно происходит поиск социальной системой оптимального соотношения между ними. Этому процессу свойственна цикличность – нарастание значимости одних из них и снижение значимости других сменяется движением в обратном направлении и т. д.
Изменения иерархии идеалов – сложно структурированный процесс. Быстрое движение маятника идеалов в одних сферах общественной жизни вполне может сочетаться с его неподвижностью в других. Неодинакова иерархия идеалов и в различных группах общества. Далее в статье понятие маятника идеалов употребляется для агрегированной или, иными словами, усредненной для всех сфер жизни общества характеристики динамики идеалов.
Крутые повороты истории практически всегда меняют направление или, по крайней мере, скорость движения маятника идеалов. В начале советского периода российской истории этот маятник резко изменил свое направление и двинулся к своему неэкономическому полюсу, хотя в этом движении наблюдались перепады – «военный коммунизм» сменился НЭПом, жизнь которого, в свою очередь, оказалась недолгой.
Как отмечалось выше, для сохранения системы необходимо ее различение от других систем и формирование внутренней структуры, в том числе и структуры идеалов, обеспечивающей достаточный для выживания во враждебной внешней среде уровень внутренней консолидации. Ввиду этого динамика идеалов определяется процессами, происходящими не только внутри системы, но и вне ее. Советский Союз на протяжении всей его истории противостоял в той или иной форме более богатому Западу. В этих условиях высокая приоритетность неэкономических идеалов («у советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока») являлась одним из необходимых условий успешного функционирования советской системы.
Во второй половине 1950-х гг. у советской элиты стало, по-видимому, складываться убеждение, что маятник идеалов пора осторожно сдвигать к его экономическому полюсу. В контексте экономической реформы 1965 г. «материальная заинтересованность» приобрела в официальном лексиконе вполне положительные коннотации, однако по-прежнему соседствовала в нем с «рвачами» и «летунами» – наследием политического словаря 1930-х гг. Подчеркивалось, что личный экономический успех ведет к общему экономическому благу лишь тогда, когда не расходится с совестью (в официальной терминологии – с моральным кодексом строителя коммунизма). Подобная двойственность объяснялась риском – как показало время, вполне реальным – размывания монолитной идеологии, в которой неэкономические идеалы занимали главенствующее место.
Процесс такого размывания заметно ускорился во второй половине 1980-х гг. В публицистических статьях «прорабов перестройки» вина за экономические проблемы, быстро нараставшие в последние годы существования СССР, возлагалась на экономическую пассивность населения, порожденную советской системой. В качестве панацеи от этого недуга была поднята на щит протестантская этика, трактующая экономическую успешность как знак богоугодности. По существу, это означало, что любой личный экономический успех автоматически «работает» на общее благо. Исключение из правила, да и то только «вслух говоря», делалось лишь для криминальных деяний.
Дальнейшее ускорение движения маятника идеалов к его экономическому полюсу произошло в 1990-е гг. Иерархия идеалов, как говорилось выше, во многом определяется тем, насколько враждебно внешнее окружение социальной системы. Поэтому ускоренное движение маятника идеалов к его экономическому полюсу отнюдь не случайно совпадало в тот период с изменением внешнеполитического курса России.
Дискредитация в доминирующих СМИ коммунистических идеалов и восхваление «невидимой руки» рынка были, однако, лишь верхним слоем динамики идеалов, формируемым определенной частью политической элиты тех лет. Обращение же к результатам опросов населения свидетельствует, что глубинный слой этой динамики был далеко не столь однонаправленным. Он, скорее, представлял собой причудливую амальгаму старых и новых идеалов и аномии в ее различных проявлениях.
По данным мониторинга, проводимого ИСПИ ФНИСЦ РАН, в 1998 г. на вопрос о том, в каком обществе хотели бы жить респонденты, 38% ответили «в социалистическом», 22% – «в капиталистическом», 10% – «в каком-то другом», остальные 30% затруднились с ответом [Как живешь…, 2023: 46]. Разнообразными были и проявления аномии. С одной стороны, наблюдалась классическая аномия «по Дюркгейму» – распространение «безнормия» при переходе от одного типа общественных отношений к другому. Так, по данным исследования, проведенного в мае 2009 г., 46% молодых людей отмечали, что многие традиционные нормы уже устарели, а 55% заявили, что их успех в жизни во многом определяется способностью иногда нарушать моральные нормы [Горшков, Шереги, 2010: 125].
С другой стороны, явно просматривался феномен, более близкий к «аномии по Мертону», но несколько отличный от нее. В американском варианте, описанном в свое время Р. Мертоном, идеалом являлся денежный успех, а причиной аномии – невозможность достичь его законными средствами [Мертон, 2006]. В российском варианте аномии, актуальном и ныне, в качестве самооправдания незаконопослушного поведения далеко не всегда выступает банальная нехватка денег. Часто оно оправдывается несоответствием реальности более высокому «неденежному» идеалу – социальной справедливости. Так, в ходе исследования, проведенного в 2018 г. Научно-исследовательским центром социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС, с утверждением о том, что «законы следует соблюдать, но только при условии, что их соблюдают представители органов власти», согласились 39,4% опрошенных, практически столько же (39,3%) считают допустимым уклонение от уплаты налогов [Покида, Зыбуновская, 2020: 94, 95].
Результаты опросов дают основание полагать, что в начале ХХI столетия глубинный слой идеалов российского общества в очередной раз перенаправил их маятник от экономического к неэкономическому полюсу. Так, по данным мониторинга, проводимого ИСПИ ФНИСЦ РАН, доля респондентов, которые предпочли бы жить в капиталистическом обществе, составлявшая в среднем по результатам четырех опросов 2000–2003 гг. 21%, снизилась в среднем по трем опросам 2020–2023 гг. до 13%. Доля предпочитающих жить в социалистическом обществе, напротив, выросла соответственно с 30 до 41%. Вариант «в каком-то другом» обществе выбирали 14 и 7% соответственно, остальные респонденты затруднялись ответить. К этому следует добавить, что, судя по данным июньского опроса 2023 г., понятие «социализм» означает справедливость для 44% респондентов, коллективизм – для 43%, патриотизм – для 38%. В отличие от этого капитализм по опросам разных лет ассоциируется с патриотизмом не более чем у 5% опрошенных [Как живешь…, 2023: 44–46].
Подобному сдвигу предпочтений, вероятно, способствовало и изменение ситуации на мировой арене, где политическая целесообразность и дискурс ценностей явно потеснили соображения экономической эффективности, а с ними и столь характерную для конца прошлого столетия уверенность в том, что за всем происходящим в стране и мире кроются исключительно экономические интересы. Кроме того, ход событий показал, что борьба идеалов представляет собой нечто более вечное, чем борьба конкретных идеологий, которые, даже с учетом их реинкарнаций, обозначаемых приставкой «нео», носят все же исторически преходящий характер. Борьба коммунистической и капиталистической идеологий перестала служить тем камертоном международных отношений, каким она оставалась на протяжении большей части ХХ столетия, однако сама борьба идеалов отнюдь не исчезла и лишь приобрела иные формы.
Новый виток противостояния с Западом влечет за собой и перемены в иерархии идеалов. Выдвижение идеалов патриотизма на первый план является закономерной реакцией российского общества на внешнюю опасность или, используя более специальную научную терминологию, саморегулированием социальной системы, направленным на ее выживание в условиях возрастающей враждебности внешней среды. Опросы ФОМ свидетельствуют о возвращении патриотизма на главенствующие позиции в иерархии идеалов. Доля россиян, считающих себя патриотами страны, выросла, судя по этим опросам, с 57% в 2006 г. до 84% в конце мая 2023 г.1
Опрос ВЦИОМ в июле 2023 г. зафиксировал существенный сдвиг к неэкономическому полюсу и в представлениях об идеальной семье. Если в 2013 г. неэкономические компоненты образа идеальной семьи (взаимопонимание, взаимоуважение, забота друг о друге, гармония, любовь, верность) упоминались респондентами в два раза чаще, чем экономические (благополучие, обеспеченность, жизнь в достатке), то в 2023 г. – в 7,3 раза чаще2. Причины подобной динамики, вероятно, иные, чем в предыдущем случае, и связаны, прежде всего, со снижением болезненности материальных проблем, однако тенденция является той же – произошла концентрация ответов у неэкономического полюса.
Еще одним свидетельством повышения приоритетности неэкономических идеалов является растущая популярность волонтерства. В ходе опроса, проведенного ВЦИОМ в декабре 2022 г., 70% респондентов высказали мнение, что сейчас люди занимаются волонтерской деятельностью больше, чем 10–15 лет назад, в 2008 г. такого мнения придерживалось 24% опрошенных. В ходе того же опроса 23% респондентов безусловно хотели бы, чтобы их подрастающие дети и внуки занимались волонтерской деятельностью, еще 53% «скорее хотели бы»3. Наблюдается также рост количества благотворительных организаций, получающих частные пожертвования [Мерсиянова и др., 2019].
Отношение к богатству далеко не столь однозначно. С одной стороны, по данным исследований ИС ФНИСЦ РАН, постепенно увеличивается доля респондентов, считающих, что причиной благополучия богатых слоев населения является упорный труд: если в 2003 г. так считали 31% опрошенных, то в 2019 г. – уже 40%. Доля тех, кто назвал среди причин благополучия этих слоев непорядочность и нечестность, напротив, снизилась, соответственно, с 17 до 10% [Горшков, 2020: 236]4. По данным 28-й волны «Российского мониторинга экономики и здоровья населения» (RLMS-HSE) за 2019 г., из трех причин, по которым люди в России становятся богатыми, 22,7% женщин и 21,9% мужчин в качестве первой по значимости назвали таланты и способности. C другой стороны, в ходе того же обследования 22,1% мужчин и 20,6% женщин указали в качестве второй по значимости причины богатства то, что «законы в России служат прежде всего богатым». Кроме того, 46,8% мужчин и 45,5% женщин назвали в качестве третьей по значимости причины нарушение законов [Воронина, 2020: 15–19].
Иерархия идеалов и ее динамика в разных социальных и демографических группах далеко не одинакова. Исследование Института социологии ФНИСЦ РАН показало, что с возрастом увеличивается доля респондентов, считающих, что «Родина у человека одна, и нехорошо ее покидать», и уменьшается доля тех, кто полагает, что «человек должен жить в той стране, где ему больше нравится». Сторонники последней точки зрения составляют 68% среди респондентов моложе 25 лет, 58% среди тех, кому от 26 до 35 лет, 52% – от 36 до 45 лет и 48% от 46 до 55 лет [Российское…, 2022: 193]. Жесткость представлений о том, кого можно назвать патриотом, увеличивается с возрастом и уменьшается с ростом образовательного уровня. Так, по данным проведенного ФОМ обследования, отвечая на вопрос о том, может ли быть патриотом человек, который уезжает жить и работать за границу, 58% респондентов в возрасте 18–30 лет с высшим образованием выбрали суждение «скорее может», суждение «скорее не может» поддержали 37%. В группе респондентов с высшим образованием в возрасте 31–45 лет это соотношение было обратным 40 и 53%, а в среднем по выборке эта пропорция отличалась еще сильнее – 36 и 57%5.
Фактор возраста оказывает сильное влияние и на экономический идеал в его чистом виде – богатство. О стремлении стать богатым заявили в ходе опросов ФОМ в 2015 г. 71% респондентов в возрасте 18–30 лет, 57% в возрасте 30–45 лет и 43% в возрасте 45– 60 лет. Мнение о том, что богатство обычно портит людей, поддержали соответственно 55, 61 и 63% респондентов в этих возрастных группах. Сопоставление этих ответов свидетельствует о весьма противоречивом отношении к богатству во всех возрастных группах – респонденты хотели бы стать богатыми, несмотря на то, что богатство, по мнению большинства, плохо влияет на человека6.
Результаты опросов приводят к выводу, что дифференциация идеалов в современной России тесно связана с особенностями периодов, в которые происходила социализация различных поколений, а также с основным источником получения информации – телевидением или Интернетом. Другими значимыми факторами оказываются нарастающий с возрастом жизненный опыт и меняющиеся вместе с ним оценки достижимого и желаемого, тесно связанные между собой.
Идеалы, наука и образование. Иерархия идеалов влияет на практическую деятельность как на индивидуальном уровне, сказываясь на поведении человека в профессиональной, семейной и других сферах, так и на уровне организаций, определяя их корпоративную и управленческую культуру. Неэкономические идеалы – патриотизм, гуманность, истина и красота играют особенно важную роль в обороне страны, здравоохранении, науке, образовании, искусстве. Определяя мотивацию деятельности и решения, принимаемые в ситуациях выбора, иерархия идеалов оказывается одним из важнейших факторов, определяющих способность этих областей деятельности выполнять их предназначение в обществе.
Каждая из вышеназванных областей деятельности обладает своей спецификой, поэтому далее рассматриваются только две из них – наука и образование, позволяя увидеть, как движение маятника идеалов на уровне общества приводит к изменению управленческих парадигм на уровнях государства и организации. Это, в свою очередь, влечет за собой изменение соотношения между типами работников с различным характером мотивации и таким образом оказывает существенное влияние на судьбу организации и функционирование вида деятельности в целом.
Переход в 1990-е гг. российской экономики на рыночные рельсы повлек за собой изменения в парадигме управления наукой и образованием. В иерархии целей такого управления экономическая эффективность потеснила неэкономические цели. В советской парадигме управления наукой, особенно если речь шла об оборонном комплексе, во главу угла ставилось достижение результата, а не его соотношение с затратами, в образовании – его профессиональный, идеологический и воспитательный аспекты. В новой парадигме управления неэкономические идеалы и производные от них цели, хотя об этом не всегда считалось приличным говорить вслух, стали рассматриваться как ненужная лирика. Вскоре, однако, стало обнаруживаться, что «дефицит» неэкономических идеалов отрицательно сказывается на многих сторонах научной и образовательной деятельности, в том числе парадоксальным образом на ее экономической эффективности.
Механизм, связывающий иерархию идеалов, парадигму управления и результаты деятельности, включает в качестве промежуточных звеньев этосы, преимущественные мотивации работников и карьерные перспективы. Успешность карьеры определяется соответствием индивида заданному институциональному образцу [Батыгин, 2007], что проявляется как на уровне вида деятельности в целом, так и на уровне отдельной организации. Оттеснение на второй план этических норм науки и образования приводит к тому, что типажи преподавателя, не жалеющего времени на работу со студентами, или ученого, «с головой» погруженного в фундаментальные исследования, становятся менее востребованными и начинают препятствовать карьере работников, воплощающих эти типажи. Им приходится либо «перевоспитываться», либо смиряться с отсутствием карьерных перспектив, а то и вовсе уходить из организации или профессии. Примерно то же происходит и в условиях непомерного бюрократического прессинга с той лишь разницей, что в этом случае повышается востребованность преимущественно бюрократической мотивации и улучшаются карьерные перспективы ее носителей.
До определенных пределов изменение пропорций между работниками, которые руководствуются в своей деятельности преимущественно «экономической», «бюрократической» и «профессиональной» (например, исследовательской) мотивацией, может приводить организацию к новому, более эффективному кадровому равновесию и благоприятно влиять на ее деятельность. Научной организации, например, необходимы и работники, умеющие и любящие налаживать бизнес-контакты с реальным сектором экономики, и те, кто способен педантично составлять многочисленные отчеты и справки, запрашиваемые «сверху».
Однако при утрате организацией «критической массы» тех, кто руководствуется в своей деятельности этосами науки или образования, корпоративная культура организации необратимо деградирует. Довольная своей локальной эффективностью подсистема неожиданно для нее самой начинает мешать достижению целей надсистемы. Судьба многих российских вузов, вначале гордившихся умением зарабатывать на чём угодно, а потом ликвидированных учредителями ввиду профнепригодности, является иллюстрацией подобного развития событий.
Неблагоприятными сдвигами в структуре мотивации объясняется и массовое распространение плагиата. Ученым, увлеченным поиском истины, движет стремление самому найти отгадку той загадки, что захватила его помыслы, плагиат для него равносилен признанию своего поражения. Напротив, при преимущественно экономической мотивации целесообразность или нецелесообразность плагиата определяется балансом связанных с ним выгод и рисков. В результате и бороться с плагиатом оказывается возможным, лишь срезая административными методами его карьерные выгоды и увеличивая связанные с ним риски. Такая борьба, однако, сама по себе не может решить проблему дефицита кадров с преимущественно исследовательской мотивацией. Вопрос о том, возможно ли преодоление этого дефицита без изменения иерархии идеалов в современном обществе, остается открытым. Ясно лишь, что возврат к популяризации образа ученого, самоотверженно и успешно решающего важные для страны и всего человечества задачи, может способствовать достижению этой цели.
Самоописание, обольщение и самообольщение. Трудно сказать, относил ли Н. Луман анализ международных и цивилизационных конфликтов к числу возможных приложений своей теории. Весьма вероятно, что он, в отличие, например, от И. Валлерстайна и С. Хантингтона, вовсе не преследовал этой цели. Тем не менее такие ключевые понятия теории Лумана, как коммуникация систем, самоописание и описание другого (инореференция), способствуют более глубокому пониманию межсистемных конфликтов и их динамики.
Социальные системы создают самоописания и в то же время описания других систем. Важнейшая функция самоописаний и описаний других состоит в различении своих и чужих и внутрисистемной консолидации на основе такого различения. Неудивительно поэтому, что в условиях противостояния двух систем каждая из них не только воспринимает себя далеко не такой, какой видит ее противоборствующая сторона, но и хочет навязать ей собственное самоописание. Параллели между абстрактной теорией коммуникации систем, разработанной Н. Луманом, и концепцией «мягкой силы» Дж. Ная, более близкой к поверхности политической жизни, таким образом достаточно очевидны.
Международные конфликты и конфликт идеалов представляют собой систему с положительной обратной связью. Чем острее международный конфликт, тем рельефнее в нем конфликт идеалов, который в свою очередь добавляет горючего в топку войны. Иерархия идеалов в ходе такого конфликта быстро меняется, экономические идеалы оттесняются неэкономическими, главным из которых становится патриотизм. Меняется и структура межсистемного информационного обмена – из него прямо или косвенно изгоняется все, что не служит навязыванию своего позитивного образа, и он принимает форму пропаганды и контрпропаганды.
Эффективность пропагандистских и контрпропагандистских действий часто рассматривается только как результат умелости участников информационных войн и соотношения уровней жизни в противоборствующих системах. Между тем результаты конфликта самоописаний зависят и от более глубоких процессов. Одним из них является чередование периодов романтического увлечения идеалом, последующего разочарования в нем и появления нового идеала.
Общество, а тем более интеллектуалы, функцией которых в обществе и является духовное производство, не могут жить без идеалов. Очарование Лиона Фейхтвангера, Бернарда Шоу и других западных интеллектуалов тем, что они увидели, точнее – тем, что им показали в СССР 1930-х гг., вряд ли можно объяснить только умелыми действиями советских пропагандистов. Подобное очарование, скорее, соответствовало пушкинскому «ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад!». Разочарование в идеалах Запада порождало надежду обрести новый идеал в альтернативной Западу реальности СССР. Повторением того же сценария, но уже в виде фарса стало восхваление маоистской культурной революции участниками многотысячных студенческих протестов в Париже 1968 г.
События в СССР в последние годы его существования, а затем в постсоветской России развивались во многом по той же логике. Коммунистические и патриотические идеа- лы советских лет были тесно переплетены друг с другом не только в официальной идео- логии, но, хотя и в разной степени, в различных группах населения, и в массовом сознании. В результате расставание с коммунистическим идеалом негативно сказалось и на идеале патриотизма. В новой иерархии идеалов на одно из первых мест поднялся воображаемый Запад, в начале 1990-х гг. представлявшийся многим чуть ли не совокупностью всех мыслимых совершенств. Этому в немалой степени способствовало смягчение военно-политического противостояния с Западом и иллюзия близкого триумфа общечеловеческих ценностей.
В ХХI в. блеск воображаемого Запада начал тускнеть. Сколько-нибудь полное эмпирическое описание этого процесса, обладающего сложной структурой и существенными особенностями в различных социальных и возрастных группах населения, выходит за рамки данной статьи. Отметим лишь, что по данным опроса, проведенного ИС ФНИСЦ РАН в марте 2022 г., «последовательные антизападники» составили 54% опрошенных, чуть менее последовательные «антизападники» – еще 27%, а в большей или меньшей степени «западноориентированные» респонденты – 19% [Российское…, 2022: 205]. При этом доля «западноориентированных» респондентов убывает с возрастом. Если среди молодежи в возрасте до 25 лет она составляет 42%, а в возрасте 26–35 лет – 23%, то среди респондентов в возрасте 66 лет и старше – только 12% [Сушко, 2022: 28].
Подводя итоги. Самоорганизация социальной системы включает поиск оптимальной для нее иерархии идеалов. За минувшую часть ХХI столетия выявились негативные последствия неумеренного восхваления денежного успеха в средствах массовой информации, доминировавших в российском медиапространстве в 1990-е гг. Признание богатства единственным мерилом «качества» страны идеологически обосновывало преклонение перед более богатым Западом. Несовпадение глубинных представлений о социальной справедливости, в которых идеал денежного успеха играл далеко не главенствующую роль, с реальностью «дикого капитализма» порождало специфически российский тип аномии и служило моральным оправданием нарушения законов. «Дефицит» неэкономических идеалов особенно негативно сказывался на тех сферах деятельности, где такие идеалы были и остаются жизненно важными для выполнения этими сферами своих функций в обществе.
Идеалы – далеко не простой объект для эмпирического анализа. Тем не менее, предлагая в ходе социологических опросов понятные респондентам эмпирические референты идеалов, вполне возможно установить, как меняется значимость различных идеалов в глазах общества. Данные опросов свидетельствуют о том, что доля респондентов, считающих себя патриотами, выросла, а баланс экономических и неэкономических компонентов в представлении об идеальной семье заметно сместился в пользу последних. Увеличились масштабы волонтерской деятельности и ее авторитет в глазах общественного мнения. В отличие от этого отношение к идеалу экономического успеха остается амбивалентным. В глазах общественного мнения экономический успех не всегда достигается честными путями, а человек, добившийся его, может быть как хорошим, так и плохим.
Сказанное позволяет предположить, что в начале нынешнего столетия маятник идеалов в России изменил направление движения и стал смещаться к своему неэкономическому полюсу. Дальнейшее уточнение и детализация этого вывода требуют расширения круга рассматриваемых идеалов и углубления анализа семантических различий в их трактовке на индивидуальном и социально-групповом уровнях.
1 https://fom.ru/TSennosti/13261; https://fom.ru/TSennosti/14882 (дата обращения: 30.07.2023).
2 Рассчитано по таблице 1 опроса ВЦИОМ «Идеальная семья 2023». URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/idealnaja-semja-2023 (дата обращения: 26.10.2023).
3 В волонтеры я б пошел. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/v-volontery-ja-b-poshel (дата обращения: 30.07.2023).
4 Респонденты могли указать не более пяти причин.
5 URL: https://fom.ru/TSennosti/14733; https://fom.ru/TSennosti/14882 (дата обращения: 30.07.2023). Статистическая погрешность в этом опросе не выходила за пределы 3,6%.
6 Кертман Г. Л. Отношение к богатству в России: очевидности и парадоксы. URL: https://fom.ru/blogs/12057 (дата обращения: 30.07.2023).
About the authors
Mikhail A. Klupt
St. Petersburg State University of Economics
Author for correspondence.
Email: klupt@mail.ru
Dr. Sci. (Econ.), Prof.
Russian Federation, St. PetersburgReferences
- Batygin G. S. (2003) Structural functionalism of Talcott Parsons. Vestnik RUDN. Ser. Sotsiologiia [RUDN Journal of Sociology]. No. 4–5: 6–34. (In Russ.)
- Batygin G. S. (2007) Career, ethos, and scientific life history: on the semantics of autobiographical narrative. Chelovek. Soobshchestvo. Upravlenie [Human. Community. Management]. No. 1: 4–13. (In Russ.)
- Branskij V. P., Pozharskij S. D. (2001) Social sinergetics and akmeology. The theory of self-organization of individual and society. St. Petersburg: Polytekhnika. (In Russ.)
- Durkheim E. (1995) Value and “real” judgments. In: Sociology, its subject, method, mission. Moscow: Kanon. (In Russ.)
- Gorshkov M., Tikhonova N. E. (eds) (2022) Russian society and the challenges of the time. Moscow: Ves’ Mir. (In Russ.)
- Gorshkov M. K. (2020) Russian society in the sociological dimension. Vestnik RAN [Herald of Russian Academy of Science]. No. 3: 232–242. doi: 10.31857/S0869587320030068.
- Gorshkov M. K., Sheregi F. E. (2010) The youth of Russia: Sociological Potrait. Moscow: CSPiM.
- Kirdina S. G. (2014) Institutional Matrices and Development in Russia: An Introduction to Х&Y theory. St. Petersburg: Nestor-Istoriia. (In Russ.)
- Levada Yu.A. (1980) On the design of reproductive system model. In: System Research. Methodological Problems. Yearbook 1979. Moscow: Nauka. (In Russ.)
- Luhmann N. (2004) Society as a social system. Moscow: Logos. (In Russ.)
- Mersiyanova I. V., Ivanova N. V., Malakhov D. I. (2019) The relationship between volunteerism and charitable giving: intergenerational context. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 10: 94–106. doi: 10.31857/S013216250007103-6. (In Russ.)
- Merton R. (2006) Social theory and social structure. Moscow: Khranitel’. (In Russ.)
- Pokida A. N., Zybunovskaya N. V. (2020) Legal values of the Russian population: priorities and contradictions. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 1: 92–99. doi: 10.31857/S013216250008327-2. (In Russ.)
- Sushko P. E. (2022) Russians’ ideas about possible ways of Russia’s development: prevalence and specificity. Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological Studies]. No. 11: 25–36. doi: 10.31857/S013216250021403-6 (In Russ.)
- Voronina N. (2020) The causes of wealth and poverty in the assessments of men and women in Russia. Nauka.me [Science. Me]. Iss. 3. URL: https://nauka.me/S241328880013242-0-1 (accessed 26.10.2023). doi: 10.18254/S241328880013242-0. (In Russ.)