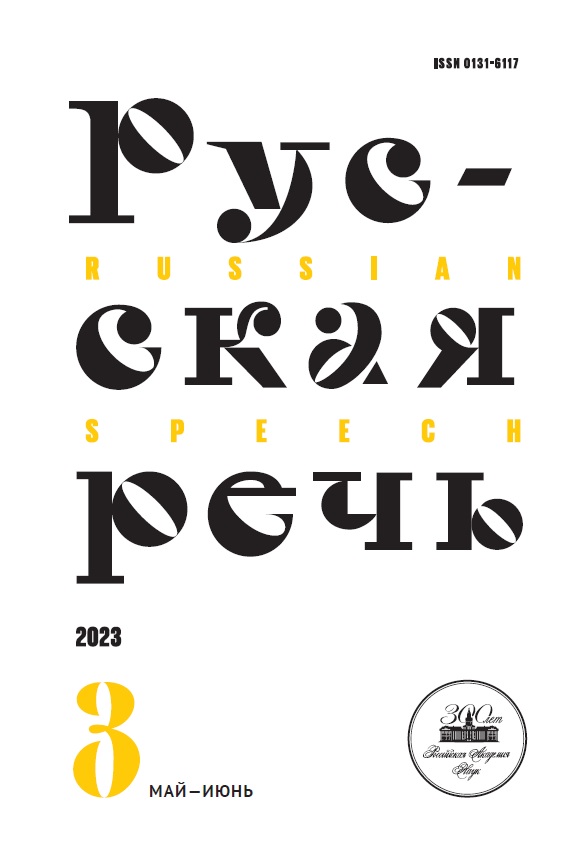On the Principles of Compiling Normative Dictionaries of Standard
- 作者: Savinov D.M.1
-
隶属关系:
- Vinogradov Russian Language Institute (Russian Academy of Science)
- 期: 编号 3 (2023)
- 页面: 7-20
- 栏目: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/0131-6117/article/view/128693
- DOI: https://doi.org/10.31857/S013161170026396-4
- ID: 128693
全文:
详细
全文:
1. В последние десятилетия все более актуальными становятся исследования в области языковой политики, одной из основных сфер реализации которой является регулирование всех вопросов, связанных с культурой речи, в частности с кодификацией собственно языковых норм литературного варианта национального языка.В этой связи особенно важную роль приобретает создание ортологических словарей1, которые являются важным средством кодификации русской литературной нормы, прежде всего это орфографические, орфоэпические, грамматические словари, а также словари ударений и словари трудностей произношения, которые можно назвать разновидностями орфоэпических словарей. Принципы составления подобных нормативных словарей русского языка подробно описаны в научных статьях, а также в предисловиях к изданным лексикографическим источникам (подробнее см. [Иванова 2020: 433–435; Каленчук 2020: 444]).Авторы отмечают, что те принципы, которые используются при создании толковых, фразеологических и других словарей, описывающих лексику русского языка в разных аспектах, не всегда применимы к словарям, ориентированным на фиксацию орфографических, орфоэпических и грамматических норм. Например, для орфоэпических словарей (в том числе для словарей ударений и словарей трудностей произношения) должен быть выработан особый принцип отбора слов: «Отбор должен производиться так, чтобы словарь максимально полно охватил слова, обладающие теми или иными особенностями внешней структуры», в частности, к этой группе относятся «слова всех частей речи с подвижным ударением», а также «слова, о произношении которых нельзя полностью судить на основании их орфографического облика, т. е. такие, которые нуждаются в произносительных пометах» [Еськова 1972: 126–127].Формирование словника нормативных словарей это один из самых важных и сложных этапов их создания. С одной стороны, словник должен содержать максимальное количество слов, нуждающихся в соответствующем комментарии, в том числе широко распространенные в узусе неологизмы, которые фиксируются в средствах массовой информации и интернете. С другой стороны, нормативный словарь может включать только слова, получившие статус литературной нормы. По словам К.С. Горбачевича, «нормативный словарь это не хранилище слов; такой словарь отражает реальную лексическую систему литературного языка, являясь в то же время наиболее авторитетным законодателем правильного словоупотребления» [Горбачевич 1982: 80].Иначе говоря, основу словника любого словаря ортологического типа традиционно составляет «лексика, не противоречащая системе и в своей ядерной части поддержанная нормой это нейтральные, “чистые” и “правильные” слова… Массив такой лексики формирует ситуацию, которую можно обозначить утверждением “так говорят, и так говорить можно и нужно”» [Скляревская 2017: 154].2. Однако в последние десятилетия в русской лексикографии наметилась тенденция включать в нормативные словари просторечную и жаргонную лексику, что, по мнению некоторых ученых, «конечно, не бесспорно, однако в сегодняшней ситуации, по-видимому, имеет серьезный резон» [Осипов 2001: 126]. Например, за счет подобных нелитературных единиц существенно расширен словник «Русского орфографического словаря», в предисловии к которому авторы пишут: «Круг нарицательной лексики пополнен разнообразными новыми словами и выражениями, характерными для современной газетно-публицистической, разговорной речи, просторечия» [Лопатин, Иванова (ред.) 2012: V]. Однако при анализе словника выясняется, что в этот словарь включены не только новообразования или новые заимствования, но и значительный слой «устоявшейся» просторечной, сленговой, жаргонной лексики: буха́ть, бухло́, бухо́й, да́ден, -а, -о (к дан, дана́, дано́, от дать), ла́жа, на́ фиг, на фига́, подда́тый, покла́сть, расе́йский, споку́ха, стака́шек, харко́тина и мн. др. Все эти ненормативные слова даются в словаре с пометой «сниженное».Отмечается нелитературная лексика и в некоторых орфоэпически источниках. Так, в 10-м издании «Орфоэпического словаря русского языка» [Еськова (ред.) 2015] сказано, что «при интересных в формальном отношении словах, резко сниженных стилистически», даются стилистические пометы. «В настоящем издании количество пояснений, сопровождаемых стилистической оценкой слова, увеличено по сравнению с предыдущими изданиями» [Еськова (ред.) 2015: 7]. Но остается неясным, какая интересная с орфоэпической точки зрения информация есть у таких просторечных слов, как бу́ркалы ʻглазаʼ, дерьмо́, дыми́на (из сочетания в дымину пьяный), закочевря́житься, како́вский ʻкакойʼ, мурло́, начха́ть, сты́рить, фиго́вый, ха́ря и мн. др. Еще более странными кажутся орфоэпические предписания к словам за́дница [дьнь], звездану́ть [зьвь, звь], сбре́ндить [ньдь], шлёнда (нормативно шлёнде [ньдь], фиг (нормативно ни фига́, на́ фиг, фи́га с два́), хрен (нормативно ни хрена́ не вы́шло) и др.В «Грамматическом словаре русского языка» А.А. Зализняка сказано: «Словарь имеет нормативную ориентацию, т.е. он указывает для отдельного слова не все реально встречающиеся способы образования его форм, а лишь те, которые соответствуют современной литературной норме». При этом в сноске автор уточняет, что исключение в этом смысле «составляют формы, помеченные как просторечные… помета “простореч.” выступает в таких случаях в роли предупредительной» [Зализняк 2008: 9]. Однако некоторые просторечные и жаргонные слова (например алка́ш, мурло́, ужо́, фарто́вый, хайло́, хрыч и др.) даются в словаре без всяких помет, что должно свидетельствовать о их принадлежности к лексике литературного языка.Подобные нелитературные слова встречаются даже в школьных словарях. Так, в «Словаре грамматических трудностей русского языка», предназначенном для 511 классов, представлен просторечный глагол вылазить и перечисляются его «» формы: выла́жу, выла́зишь, выла́зит и т.д., а формы выла́зию, выла́зиешь квалифицируются как «неправильные» [Гольберг, Иванов 2021: 92].В «Словаре ударения и произношения слов русского языка», рассчитанном на учащихся 59 классов, отмечены просторечные слова вёдро, дебе́лый (неправ. дебёлый), шаба́ш (в значении ʻхватитʼ). В словаре есть также сомнительные решения о придании отдельным произносительным вариантам статуса профессиональных, то есть в принципе допустимых в литературном языке: так формы мн. ч. блюда́, краны́, скоростя́, а также варианты возбу́жденный, осу́жденный, при́говор, ката́лог, мы́шление определяются И.Л. Резниченко как свойственные речи представителей некоторых профессий: поваров, менеджеров, сотрудников правоохранительных органов, библиотекарей и т.д. [Резниченко 2021]. Однако с этим трудно согласиться, большинство подобных «профессиональных» вариантов указывает не на принадлежность к определенной социально ограниченной группе, а «на низкий культурно-образовательный уровень человека» [Каленчук 2022: 66]. Иначе говоря, указанные варианты должны квалифицироваться не как профессиональные, а как просторечные, то есть недопустимые в речи носителей литературного языка (они и квалифицируются как «неправильные» в большинстве других орфоэпических источников).Отмечается просторечная лексика и в школьных орфографических словарях, например в «Учебном орфографическом словаре русского языка» [Лопатин и др. 2005], предназначенном для учащихся школ, лицеев и вузов, подробнее см. [Николенкова 2011: 182–183].Включение просторечной и жаргонной лексики, а также грамматических форм, характерных для просторечия или жаргонов, в ортологические словари в последние десятилетия теоретически обычно обосновывается изменением социальной и языковой ситуации в России: «Главной причиной переосмысления оснований нормы стала демократизация публичной и массовой коммуникации, массовое проникновение в эти сферы общения носителей просторечия и социальных диалектов, что очевидным образом изменило узус публичного и массового общения, а также широкое распространение интернет-коммуникации, в которой контроль за реализацией нормы со стороны государства и общества ослаблен» [Ким 2014: 273–274]. Всё это приводит к размыванию грани между литературной разговорной речью и нелитературными формами (прежде всего просторечием и жаргонами), а разговорный и письменный узус различных слоев общества начинает выполнять функцию естественно-стихийного нормализатора речи и показателя «литературного» языка, что способствует люмпенизации языка.Очевидно, что в нормативных словарях (а таковыми всегда являются орфографические, орфоэпические и грамматические словари) для просторечной, жаргонной, бранной и другой лексики, находящейся вне лексической системы литературного языка, не должно быть перечисления форм или вариантов произношения, для них не нужно формулировать правил правописания. Такие слова могут фиксироваться толковыми, фразеологическими или другими лексическими словарями, где они должны быть снабжены соответствующими стилистическими пометами и указанием на то, что в литературном языке эти слова не употребляются. Иначе говоря, в словарях ортологического типа не должно быть лексики, которую можно было бы обозначить утверждением так говорят, так пишут, но так говорить и писать нельзя; необходимо проводить четкое различение между литературной и нелитературной формами речи.3. Отдельно необходимо рассмотреть вопрос о территориальных вариантах русского литературного языка и отражении подобных региональных особенностей в словарях ортологического типа. Как известно, литературный язык и диалекты – основные разновидности русского национального языка, противопоставленные друг другу по ряду важных признаков [Касаткин (ред.) 2012: 5–6]. Строго говоря диалектизмы, то есть слова, используемые носителями территориального диалекта, не являются частью лексикона литературного языка, хотя и используются иногда в произведениях для стилизации. Некоторые диалектизмы также включаются составителями в нормативные словари: например, в орфоэпическом словаре [Еськова (ред.) 2015] с пометой «областное» отмечаются слова: ерга́к, заку́т (заку́та), за́меть, зеленя́, каля́ный, курёнок и мн. др. В школьном словаре грамматических трудностей даны личные формы от диалектного глагола заховать2: захова́ю, захова́ет [Гольберг, Иванов 2021: 96]. Есть диалектизмы и в некоторых других словарях ортологического типа, хотя диалектная лексика так же, как просторечная и жаргонная, не должна становиться объектом кодификации с точки зрения норм литературного языка.Однако русский литературный язык на всей территории своего распространения испытывает постоянное влияние местных говоров, что приводит к появлению его локально (регионально) окрашенных вариантов, имеющих некоторые фонетические, акцентологические, интонационные и лексические особенности. Так, в речи носителей русского литературного языка севера России фиксируются рефлексы оканья (произношение гласного [ə] в позиции 1-го предударного слога), еканье, твердость губных на конце слова (се[м], во́се[м]); для юго-западного варианта русского литературного языка характерно сохранение диссимилятивного аканья (тр[ə]ва́, тр[а]вы́), произношение [γ], имеющего глухую пару [х] (сне[х], сне́[γ]а), употребление палатальных [с’’] и [з’’] ([с’’]е́рый, [з’’]емля́); сохраняются в речи городской интеллигенции и некоторые местные слова, подробнее см. [Букринская, Кармакова 2012: 157–158].Проникают в региональные варианты русского литературного языка и диалектные акцентологические особенности. Например, для северо-западной диалектной зоны, а также для северной части юго-западной диалектной зоны характерно распространение форм с ударением на основе глаголов прошедшего времени женского рода: бра́ла, зва́ла, тка́ла, вра́ла, спа́ла и под. [Захарова, Орлова 1970: 90, 102]. На карте 13 показано, что наосновное ударение в формах женского рода прошедшего времени в глаголах с исконно двусложным корнем (типа бра́ла, а́ла, спа́ла и т.п.) характеризует весь западный ареал русского языка – от Петрозаводска на севере до Белгорода на юге; важно отметить, что эта акцентологическая особенность отмечается не только в диалектном узусе, но и в речи местной городской интеллигенции [Букринская, Кармакова 2012: 160].Таким образом, неподвижное наосновное ударение в формах прошедшего времени некоторых глаголов (брал, бра́ла, бра́ло, бра́ли) можно считать чертой, присущей западному региональному варианту русского литературного языка, в частности говору Санкт-Петербурга. Так, петербургский фонетист В.В. Колесов пишет о широком процессе «выравнивания ударений в парадигме типа брал, бра́ло, бра́ла, бра́ли (на месте старой и до сих пор нормативной формы брала́), также да́ла, зва́ла и др. Такое колебание ударения встречает особое сильное сопротивление со стороны специалистов по культуре речи…» [Колесов 2010: 297].Однако московский фонетист Р.Ф. Касаткина пишет о том, что варианты произношения типа бра́ла не характерны для узуса москвичей – носителей русского литературного языка: «В наших материалах случаи наосновного4 ударения в формах женского рода в речи лиц, говорящих на литературном языке, не зафиксированы» [Касаткина 2008: 380]. В московском варианте литературного языка в парадигме указанных глаголов развивается другая тенденция, в результате которой формируется акцентное противопоставление единственного и множественного числа: в ж. и ср. р. ед.ч. ударение падает на флексию, во мн.ч. – на основу (брала́, брало́ – бра́ли) [Каленчук, Савинов (ред.) 2021: 75]. Именно поэтому акцентные варианты бра́ла, да́ла, зва́ла и под., приведенные В.В. Колесовым, и сегодня признаются московскими кодификаторами неправильными.Существует и третья возможность изменения ударения в этих глагольных формах. По данным А.С. Бабаниной, для регионального варианта современного русского языка на Нижнем Поднепровье (Днепропетровская, Запорожская и Херсонская обл.) характерна следующая особенность: «Сохранение ударения на основе глагола в формах единственного числа женского и среднего рода прошедшего времени: взял – взяла, взяло, дал – дала, дало, брал – брала, брало, понял – поняла; переход ударения на глагольную флексию в формах множественного числа: взял – взяли, дал – дали, брал – брали, понял – поняли» [Бабанина 2016: 49].Таким образом, в западном варианте русского литературного языка в этих глагольных формах происходит выравнивание ударения на основе брал, бра́ло, бра́ла, бра́ли, а в восточном и нижнеподнепровском вариантах в парадигме указанных глаголов развивается другая тенденция, в результате которой формируется акцентное противопоставление единственного и множественного числа: в восточном варианте в ж. и ср. р. ед.ч. ударение падает на флексию, во мн.ч. – на основу (брала́, брало́ – бра́ли), в нижнеподнепровском варианте – наоборот: в ж. и ср. р. ед.ч. ударение падает на основу, а во мн.ч. – на флексию (брала и брало – брали́).Особо следует отметить, что многие изменения, происходящие в русской акцентуации, не спонтанны, а подчиняются определенным законам развития языковой системы. Например, у имен существительных появление акцентных инноваций может быть обусловлено актуализацией противопоставления по числу: на смену старым акцентным парадигмам типа доска́, доски́, до́ску, до́ски, доска́м или волна́, волны́, во́лну, во́лны, волна́м постепенно приходят новые, где формы ед. и мн. ч. начинают последовательно противопоставляться ударением: доска́, доски́, доску́ и волна́, волны́, волну́ – до́ски, до́скам и во́лны, во́лнам.Однако в ряде говоров тенденция выравнивания акцентной парадигмы у подобных существительных в единственном числе развивается еще более последовательно: такдля юго-западной диалектной зоны характерно склонение «существительных с подвижным ударением типа рука́, борона́ с ударением на окончании: рука́, руки́, руке́, руку́…» [Захарова, Орлова 1970: 100]. На карте 2 показан диалектный ареал этого явления; подобное произношение также проникает и в узус местной интеллигенции. Так, по данным В.О. Кузнецова, для речи жителей Брянска характерны «формы вин. п. ед. ч. с ударением на окончании у существительных ж. р. типа рукý» [Кузнецов 2012: 93].Видимо, существуют и другие региональные акцентные особенности, в том числе в русских региолектах, распространенных на территории различных национальных республик и других стран. В коллективной монографии «Георусистика» А.Н. Рудяков писал: «К сожалению, мы до обидного мало знаем о том, что из себя представляют “неосновные” национальные варианты русского языка: каковы основные направления их варьирования, какова мера или глубина варьирования… Конечно, вечные стоны о “порче” русского языка, страстные призывы встать на его защиту с точки зрения популярности более привлекательны. К сожалению, они имеют мало общего с реальностью и недопустимы в серьезном языковедческом обиходе» [Рудяков 2010: 13–14].Безусловно, в орфоэпических словарях академического типа необходимо учитывать территориально обусловленные акцентологические варианты, характеризующие узус местной городской интеллигенции, подобное произношение может быть кодифицировано с пометой «допустимо в речи жителей определенного региона». Несмотря на то что изучение локально окрашенной литературной речи имеет давнюю традицию, ведущую начало от А.А. Шахматова, а сами территориальные варианты русского литературного языка являются источником бесценной информации, до сих пор отсутствуют масштабные социолингвистические исследования, описывающие функционирование современного русского языка в различных регионах России и выявляющие особенности и закономерности этого функционирования. Именно отсутствие системно собранного фактического материала обусловливает отказ от кодификации подобных акцентологических вариантов в современных словарях.4. В заключение необходимо подчеркнуть, что включение в нормативные словари русского литературного языка просторечной и жаргонной лексики, а также грамматических форм, характерных для просторечия или жаргонов, приводит к тому, у многих читателей, не имеющих достаточной лингвистической компетенции, складывается ложное впечатление о нормативности употребления подобных слов и их форм в литературном языке в принципе. , академические словари рекомендуют произносить и писать эти слова их формы, некоторые пользователи лексикографических источников воспримут это как руководство к действию. В результате формируется ситуация, которую можно обозначить утверждением «так говорят в определенных социальных группах, но теперь так можно и даже нужно говорить везде». Это совершенно недопустимо, поскольку просторечная и жаргонная лексика находится за пределами литературной нормы: нужно избегать ее употребления как в письменной, так и в устной речи. Очевидно, что в словари ортологического типа подобная нелитературная лексика включатся не может: обязательно должно сохраняться четкое различение между литературной и нелитературной формами речи.作者简介
Dmitry Savinov
Vinogradov Russian Language Institute (Russian Academy of Science)Russian Federation, Moscow
参考
- Бабанина А. С. Лингвистические особенности нижнеднепровского региолекта современного русского языка // Перспективы интеграции науки и практики. 2016. № 3. С. 43–49.
- Букринская И. А., Кармакова О. Е. Языковая ситуация в малых городах России // Исследования по славянской диалектологии. Вып. 15: Особенности сосуществования диалектной и литературной форм языка в славяноязычной среде / Отв. ред. Л. Э. Калнынь. М., 2012. C. 153–164.
- Горбачевич К. С. Современная нормативная лексикография // Вестник АН СССР. 1982. № 1. С. 77–86.
- Еськова Н. А. О принципах составления русского нормативного словаря орфоэпического типа // Вопросы языкознания. 1972. № 3. С. 123–134.
- Захарова К. Ф., Орлова В. Г. Диалектное членение русского языка. М.: Просвещение, 1970. 168 с.
- Иванова О. Е. Орфографические словари // Русский язык: энциклопедия, 3-е изд., исправ. и доп. / Гл. ред. А. М. Молдован. М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2020. С. 433–435.
- Каленчук М. Л. Орфоэпические словари // Русский язык: энциклопедия, 3-е изд., исправ. и доп. / Гл. ред. А. М. Молдован. М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2020. С. 444.
- Каленчук М. Л. Профессиональные произносительные варианты: мифы и реальность // Русская речь. 2022. № 6. С. 63–70.
- Каленчук М. Л., Савинов Д. М. (ред.). Норма произношения в узусе и кодификации. М.: ИРЯ РАН, 2021. 247 с.
- Касаткин Л. Л. (ред.). Русская диалектология. 3-е изд., исправ. и доп. М.: АСТ-ПРЕСС, 2013. 302 с.
- Касаткина Р. Ф. Изменения в просодической системе русского литературного языка // Современный русский язык: Активные процессы на рубеже XX–XXI веков / Отв. ред. Л. П. Крысин. М.: Языки славянских культур, 2008. С. 375–398.
- Ким И. Е. Ортология // Эффективное речевое общение (базовые компетенции). Словарь-справочник. Электронное издание / Под ред. А. П. Сковородникова. Красноярск, 2014. С. 373–374.
- Колесов В. В. Русская акцентология. Т. II. СПб., 2010. 524 с.
- Кузнецов В. О. Виды идиолектов в современном городе (на материале языковой ситуации в Брянске) // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2012. № 2. С. 90–98.
- Николенкова Н. В. Орфографический словарь и кодификация современной нормы: проблемы несогласованности // Вопросы культуры речи. Т. 10. М., 2011. С. 180–185.
- Осипов Б. И. Рец. на: Русский орфографический словарь / Сост. Б. З. Букчина, О. Е. Иванова, С. М. Кузьмина, В. В. Лопатин, Л. К. Чельцова. Отв. ред. В. В. Лопатин. М.: Азбуковник, 1999. XVIII + 1262 с. // Вопросы языкознания. 2001. № 3. С. 126–128.
- Рудяков А. Н. (ред.). Георусистика: Первое приближение. Симферополь, 2010. 152 с.
- Скляревская Г. Н. «Так не говорят», или Еще раз о системе, норме и узусе (взгляд лексикографа) // Труды Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН. 2017. № 13. С. 153–160.