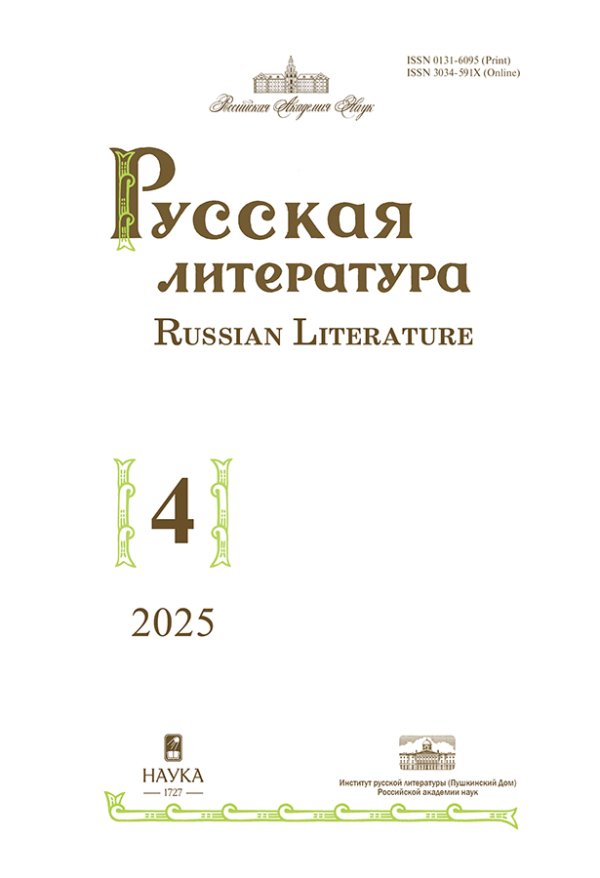«Literature that Teaches how to Escape from Prison»: Doctors in the Prose of A. P. Chekhov of the 1890s
- Authors: Kibalnik S.A.1
-
Affiliations:
- Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences
- Issue: No 2 (2024)
- Pages: 148-156
- Section: Публикации и сообщения
- URL: https://bakhtiniada.ru/0131-6095/article/view/259317
- DOI: https://doi.org/10.31860/0131-6095-2024-2-148-156
- ID: 259317
Full Text
Abstract
In his lifetime, A. P. Chekhov was often reproached by the critics for his pessimism, and yet they were lauding him as «the Russian Maupassant». While borrowing certain techniques and motives of the French writer, Chekhov seemed to have started an undercover polemics with him in the mid-1890s. This occurs in Chekhov’s novella A Woman’s Kingdom (1894), in which the principal character praises Maupassant’s novel Our Heart and his work in general. In addition, A Woman’s Kingdom is a variation on the theme of Maupassant’s novel Life. Yet Chekhov’s character believes that the French writer’s work, same as «all the new literature», is a proof of the death of Human in the modern world. Still, this novella by Chekhov, as well as his 1898 stories A Medical Case and On Official Duty, seems to offer the ways to save the Human.
Full Text
Как только вместо юморесок и фельетонов Чехов начал писать серьезные рассказы и повести, критики стали обвинять его в «пессимизме». А то и даже называть «певцом безнадежности».1 Некоторые его произведения — такие, как повести «Скучная история» (1889) и «Палата № 6» (1892), пьесы «Чайка» (1895–1896) и «Три сестры» (1900) — и в самом деле могут показаться выражением пессимистического восприятия жизни.
Впрочем, были и те, кто доказывал, что это глубокое заблуждение. Как правило, лучше понимали Чехова писатели и режиссеры. Так, например, Л. Андреев, откликаясь на постановку «Трех сестер» в МХТ, писал: «Не верьте, что „Три сестры“ — пессимистическая вещь, родящая одно отчаяние да бесплодную тоску. Это светлая, хорошая пьеса».2 Сам же Чехов, по свидетельству мемуаристов, не только не соглашался с тем, что он пессимист, но даже обижался на это.3 Не разделяли такое представление о творчестве Чехова и большинство хорошо знавших его людей.
Так, К. С. Станиславский подчеркивал, что оно полностью противоречит впечатлениям от общения с ним: «Я вижу его гораздо чаще бодрым и улыбающимся, чем хмурым, несмотря на то, что я знавал его в плохие периоды болезни. Там, где находился больной Чехов, чаще всего царила шутка, острота, смех, даже шалость. Кто лучше его умел смешить или говорить глупости с серьезным лицом? Кто больше его ненавидел невежество, грубость, нытье, сплетню, мещанство и вечное питье чая? Кто больше его жаждал жизни, культуры, в чем бы и как бы они ни проявлялись?»4
И. А. Бунин вспоминал, что в ответ на упреки критиков в пессимизме он говорил: «А какой я нытик? Какой я „хмурый человек“, какая я „холодная кровь“, как называют меня критики? Какой я „пессимист“? Ведь из моих вещей самый любимый мой рассказ — „Студент“. И слово-то противное: „пессимист“...». Наконец, А. И. Куприн обращал внимание на то, что Чехов, «этот „неисправимый пессимист“, — как его определяли, — никогда не уставал надеяться на светлое будущее…».5
По-видимому, аберрация критиков Чехова была связана с его реализмом. Жизнь, которую он наблюдал, была далеко не совершенной. Как писателю-реалисту, ему не оставалось ничего, кроме как изображать ее именно такой: «Жизнь у нас провинциальная, города немощеные, деревни бедные, народ поношенный…».6 При этом «отклонение» современной ему жизни «от нормы» Чехов показывал не просто так, а с определенной целью: «Я хотел только честно сказать людям: „Посмотрите на себя, посмотрите, как вы все плохо и скучно живете!..“ Самое главное, чтобы люди это поняли, а когда они это поймут, они непременно создадут себе другую, лучшую жизнь…».7
Кто же прав: критики или мемуаристы и сам Чехов?
Был ли Чехов «русским Мопассаном»? (повесть «Бабье царство»)
Упреки Чехову в пессимизме нередко шли бок о бок с провозглашением его «русским Мопассаном». Во второй половине 1880-х — первой половине 1890-х годов Ги де Мопассан в России был страшно популярен. Многие русские писатели, в том числе поначалу и Чехов, действительно восприняли от него некоторые мотивы и приемы.
В той же «Чайке», например, так много мопассановских мотивов, что Чехов не только не скрывает, но, напротив, сам их обнаруживает. Персонажи пьесы цитируют Мопассана, прямо на него ссылаясь, а то и даже читают его вслух. Между тем трагизма и своего рода «предэкзистенциального» отчаяния героев у этого французского писателя, как известно, хватает. Эта же атмосфера царит и в «Чайке», хотя и в ней уже есть внутренняя полемика с Мопассаном.8
Рассмотрим под эти углом зрения повесть Чехова «Бабье царство» (1894). Она представляет собой свободную вариацию на тему известного романа Мопассана «Жизнь» («Une vie», 1883), не раз к тому времени переведенного на русский язык.9 Как известно, героиня этого романа Жанна еще совсем незрелой девушкой выходит замуж, но несчастлива в браке; вслед за мужем Жюльеном ее обманывает выросший сын Поль, но в конце, в виде своего рода компенсации за все ее страдания, у нее оказывается оставшаяся без матери его новорожденная дочь.
Героиня «Бабьего царства» 25-летняя Анна Акимовна своей незрелостью похожа на мопассановскую Жанну. Разница в том, что замуж она не вышла, а родителей потеряла. И теперь, неожиданно разбогатев и оставшись одна, она «никак не может придумать, что с собой делать».10 Начитавшийся европейских писателей адвокат Лысевич советует ей: «Вы, милая моя, должны не прозябать, не жить, как все, а смаковать жизнь, а легкий разврат есть соус жизни». Между тем выросшая в рабочей среде героиня стремится к другому: «Я одинока, одинока, как месяц на небе, да еще с ущербом, и, что бы вы там ни говорили, я уверена, я чувствую, что этот ущерб можно пополнить только любовью в обыкновенном смысле» (С. 8; 281, 282). Она отстаивает традиционный идеал любви, который, например, в последнем романе Мопассана «Наше сердце» («Notre cœur», 1889) обосновывает критически настроенный по отношению к главной его героине Мишель де Бюрн писатель Ламарт: «…женщина создана и пришла в этот мир только для двух вещей <…> любовь и ребенок».11
Смысл чеховской повести раскрывается через эксплицитный диалог с Мопассаном. Лысевич рассказывает героине «последнюю вещь» этого французского писателя, которая «опьянила» его. По предположению комментаторов академического издания (см.: С. 8; 501), речь идет как раз о романе «Наше сердце», который и в самом деле был последним романом Мопассана, скончавшегося в 1893 году (незадолго до создания чеховской повести). Между тем роман этот — отчасти своего рода вариация на тему первого романа Мопассана «Жизнь». Ведь героиня романа «Наше сердце» — так же как и героиня «Жизни» — несчастлива в браке. Только в отличие от Жанны де Во, Мишель де Бюрн рано овдовела и на протяжении действия последнего романа Мопассана уже только мстит мужчинам за унижения, перенесенные от покойного мужа.
Сама Анна Акимовна, уже читавшая этот роман раньше, видела в нем «только жизнь, жизнь, жизнь и самое себя, как будто была действующим лицом романа» (С. 8; 286). Троекратно повторенное слово «жизнь» актуализирует в сознании читателя одноименный роман Мопассана, героиня которого похожа на Анну Акимовну гораздо больше, чем героиня «Нашего сердца». И, соответственно, подкрепляет наше предположение о том, что именно роман Мопассана «Жизнь» был одним из основных претекстов «Бабьего царства».
По поводу же «последнего» романа Мопассана Анна Акимовна думала: «…Нет надобности жить дурно, если можно жить прекрасно» (С. 8; 286). Скрытая полемика Чехова с Мопассаном, прорывающаяся в этих словах героини, звучит и в краткой эстетической декларации Лысевича: «Вся новенькая литература, на манер осеннего ветра в трубе, стонет и воет: <…> „Ах, ты непременно погибнешь, и нет тебе спасения!“ Это прекрасно, но я предпочел бы литературу, которая учит, как бежать из тюрьмы» (С. 8; 285). Несмотря на то, что далее Лысевич признается в своей приверженности Мопассану, эта декларация, как и приведенные слова Анны Акимовны, скорее направлены как раз против его романов, в которых глубокий пессимизм еще и обосновывался своего рода «предэкзистенциалистской» картиной мира.
Скрытая чеховская ирония звучит и в безудержных панегириках Лысевича Мопассану: «Вы покоитесь на ландышах и розах, и вдруг мысль, страшная, прекрасная, неотразимая мысль неожиданно налетает на вас, как локомотив, и обдает вас горячим паром и оглушает свистом. Читайте, читайте Мопасана!» При этом сам Лысевич, волею Чехова, не замечает, что читатель подобных произведений в его изложении оказывается, как Анна Каренина в финале одноименного романа Толстого, под колесами поезда. Получается рецепт как раз не спасения, а гибели. Явно скрыто пародиен по отношению и к герою, и к Мопассану отзыв Лысевича и о его последнем романе: «Последняя его вещь истомила меня, опьянила! <…> После длинного вступления, в котором было много таких слов, как демоническое сладострастие, сеть из тончайших нервов, самум, кристалл и т. п., он наконец стал рассказывать содержание романа» (С. 8; 285–286).
Что же касается предпочтения Лысевичем «литературы, которая учит, как бежать из тюрьмы», то в контексте этой повести оно звучит как близкое ее автору. И это стоило учитывать как прижизненным критикам Чехова, обвинявшим его в безыдейности и пессимизме, так и современным сторонникам бахтинского отношения к героям произведений писателя как равно удаленным от позиции автора.12
Необычный диагноз доктора Королева (рассказ «Случай из практики»)
Герою рассказа Чехова «Случай из практики» (1898) приходится остаться ночевать в доме фабрикантши, и он смертельно скучает: «Королеву стало скучно.<…> Он хотел сказать ей, что у него в Москве много работы, что дома его ждет семья; ему было тяжело провести в чужом доме без надобности весь вечер и всю ночь, но он поглядел на ее лицо, вздохнул и стал молча снимать перчатки. <…> „Кажется, ни за что не остался бы тут жить...“ — подумал он…» (С. 10; 78–79).
Эта ситуация близка к зачину написанного следом рассказа «По делам службы» (1898). В ситуацию вынужденного пребывания не у себя дома в нем попадают доктор Старченко и следователь Лыжин: «Им было досадно, что они опоздали. Нужно было теперь ждать до утра, оставаться здесь ночевать» (С. 10; 87–88, 92). Только ординатору Королеву скорее соответствует не доктор Старченко, а судебный следователь Лыжин. Как и он, Королев ощущает в этой новой обстановке нечто, отчасти напоминающее «арзамасский ужас» Л. Н. Толстого, который писатель испытал в 1869 году. В «Записках сумасшедшего», в которых Толстой изобразил его позднее, тоже ведь была и неуютная, мрачная обстановка, и бессонная ночь: «Домик был белый, но ужасно мне показался грустный. Так что жутко даже стало. <…> Мне страшно было встать, разгулять сон и сидеть в этой комнате страшно».
Сюда же примешиваются у Толстого мысли о суетности его попытки улучшить свое материальное положение. Однако главным при этом оказывается страх смерти: «Все заслонял ужас за свою погибающую жизнь. <…> На воздухе и в движении стало лучше. Но я чувствовал, что что-то новое осело мне на душу и отравило всю прежнюю жизнь».13
Герой чеховского рассказа испытывает сходный ужас: «Послышалось около третьего корпуса: „жак... жак... жак...“. <…> И похоже было, как будто среди ночной тишины издавало эти звуки само чудовище с багровыми глазами, сам дьявол, который владел тут и хозяевами, и рабочими, и обманывал и тех и других». Однако это ужас не от ощущения приближающейся смерти, а от условий существования человека на земле: «Он, как медик, правильно судивший о хронических страданиях, коренная причина которых была непонятна и неизлечима, и на фабрики смотрел как на недоразумение, причина которого была тоже неясна и неустранима, и все улучшения в жизни фабричных он не считал лишними, но приравнивал их к лечению неизлечимых болезней» (С. 10; 80–82).14
В этом чеховском рассказе можно было бы видеть полемическую интерпретацию толстовских «Записок сумасшедшего». Однако они были опубликованы только в 1913 году. Между тем писались «Записки сумасшедшего» с 1884-го по 1903 год. Так что они сами, напротив, могли отчасти быть откликом на чеховский рассказ и другие произведения Чехова в этом роде.
Впрочем, сходство этих произведений Чехова и Толстого, по всей видимости, объясняется иначе: у них был общий источник. Это нашумевший рассказ Мопассана «Орля» (1886). Разумеется, ни у Чехова, ни у Толстого прямо не говорится о каком-то разумном, но невидимом сверхъестественном существе, овладевающем волей героя-рассказчика. Однако «дьявол, который владел тут и хозяевами, и рабочими, и обманывал и тех и других», в сознании чеховского героя явлен так, что отдаленно напоминает мопассановского «Орлю»: «чудовище с багровыми глазами», «невольно покоряясь какой-то направляющей силе, неизвестной, стоящей вне жизни, посторонней человеку», «как будто эта неизвестная, таинственная сила в самом деле была близко и смотрела» (С. 10; 81–82).
Это представляется особенно вероятным, поскольку ранее под явным, но незамеченным до сих пор влиянием рассказа Мопассана «Орля» была написана повесть Чехова «Черный монах» (1894). Не говоря уже об общей теме галлюцинаций и сумасшествия, иное, но сходное в отдельных моментах ее решение, а также близость некоторых образов, несомненно, свидетельствуют о том, что мопассановский рассказ был одним из основных претекстов чеховской повести.15
При некотором сходстве образов рассказов Чехова и Мопассана акценты в «Случае из практики» расставлены совсем иначе. Чеховского героя ужасает не угроза потери собственной воли и подчинения какому-то невидимому сверхъестественному существу, а положение людей, живущих и трудящихся в фабричной обстановке, независимо от того, идет ли речь о работниках или хозяевах фабрики. То есть, в отличие от мопассановского героя-рассказчика, Королева приводит в ужас не его собственное положение, а положение других людей.
Соответственно, ощущения дочери фабрикантши Ляликовой Лизы весьма напоминают экзистенциальный ужас героя-рассказчика «Орли»: «Мне почти каждую ночь тяжело. <…> Мне кажется, что у меня не болезнь, а беспокоюсь я и мне страшно, потому что так должно и иначе быть не может. Даже самый здоровый человек не может не беспокоиться, если у него, например, под окном ходит разбойник». Ср. у Мопассана: «У меня не прекращается ужасное чувство грозящей опасности, уверенности в несчастье или в приближающейся смерти… <…> C наступлением вечера мной овладевает непонятное беспокойство, точно будто ночь скрывает от меня какую-то страшную угрозу».16
В отличие от героя-рассказчика Мопассана, Лиза Ляликова, как и доктор Королев, объясняет свое состояние не болезнью, а окружающей обстановкой и одиночеством: «— Я одинока. <…> Одинокие много читают, но мало говорят и мало слышат, жизнь для них таинственна…» (С. 10; 83). При этом, как и в чеховском Королеве, окружающая фабричная обстановка порождает в ней ощущение не просто какого-то невидимого сверхъестественного существа, а дьявола: «…они мистики и часто видят дьявола там, где его нет» (С. 10; 83–84).
Герой-рассказчик «Орли» помечал в своем дневнике: «Я наскоро обедаю, потом пробую читать. Но не понимаю слов и насилу различаю буквы».17 В этом отношении Лиза Ляликова не похожа на него: « — А вы много читаете? — Много. Ведь у меня все время свободно, от утра до вечера. Днем читаю, а по ночам — пустая голова, вместо мыслей какие-то тени» (С. 10; 84). Однако состояние Лизы: «— Вы что-нибудь видите по ночам? — спросил Королев.— Нет, но я чувствую...» (С. 10; 84) — в общем похоже на состояние героя-рассказчика «Орли»: «Тогда я начинаю ходить взад-вперед по гостиной, угнетаемый смутным и непреодолимым страхом: я боюсь сна и постели».18
Коренным образом отличает Королева представление о том, что такое психопатологическое состояние можно преодолеть: «…было ясно, что ей (Лизе. — С. К.) нужно поскорее оставить пять корпусов и миллион, если он у нее есть, оставить этого дьявола, который по ночам смотрит; для него было ясно также, что так думала и она сама и только ждала, чтобы кто-нибудь, кому она верит, подтвердил это…» (С. 10; 84). Между тем герой-рассказчик «Орли» полностью во власти своей душевной болезни. Желая уничтожить невидимого властелина своей души, он поджигает дом, а затем, понимая, что и это не помогло, приходит к выводу, что ему нужно будет покончить жизнь самоубийством.
Так что и обоснование болезни Лизы современными духовными исканиями: «…у родителей наших был бы немыслим такой разговор, как вот у нас теперь; по ночам они не разговаривали, а крепко спали, мы же, наше поколение, дурно спим, томимся, много говорим и все решаем, правы мы или нет», — и неожиданный диагноз, который Королев ставит своей пациентке: «— Что же будут делать дети и внуки? — спросила Лиза. — Не знаю... Должно быть, побросают все и уйдут» (С. 10; 84–85) — все это идет уже не от Мопассана, а представляет собой нечто сугубо чеховское. Именно в этом направлении — осознания психопатологического состояния героини как социально-психологически обусловленного и, следовательно, вполне преодолимого — Чехов и преломляет мопассановскую тему.
Действенный характер диагноза, поставленного Королевым Лизе, показывает, что рассказ «Случай из практики» — как и творчество Чехова в целом — был реализацией стремления писателя к созданию «литературы, которая учит, как бежать из тюрьмы». Между тем нашумевший рассказ Мопассана «Орля» Чехов, судя по всему, относил как раз ко «всей новенькой литературе», которая, при всех ее достоинствах, пророчит современному человеку гибель.
Заключительные строки «Случая из практики»: «…проезжая через двор и потом по дороге к станции, Королев уже не помнил ни о рабочих, ни о свайных постройках, ни о дьяволе, а думал о том времени, быть может, уже близком, когда жизнь будет такою же светлою и радостной, как это тихое, воскресное утро; и думал о том, как это приятно в такое утро, весной, ехать на тройке, в хорошей коляске и греться на солнышке» (С. 10; 85) — на первый взгляд, напоминают концовку чеховских «Огней» (1888). Ср.: «А когда я ударил по лошади и поскакал вдоль линии и когда, немного погодя, я видел перед собою только бесконечную, угрюмую равнину и пасмурное, холодное небо, припомнились мне вопросы, которые решались ночью. Я думал, а выжженная солнцем равнина, громадное небо, темневший вдали дубовый лес и туманная даль как будто говорили мне: „Да, ничего не поймешь на этом свете!“. Стало восходить солнце…» (С. 7; 140).
Концовка «Случая из практики» также имеет своего рода феноменологический характер.19 От обсуждения героями болезненных вопросов, ни один из которых так и не оказывается решен, повествование переключается на изображение окружающего мира таким, каким он проникает в сознание героя, продолжающего переваривать обретенные им впечатления и одновременно скользящего взглядом по тому, что попадает в поле его зрения.
Однако между этими двумя концовками есть существенная разница, отличающая Чехова конца 1890-х годов от Чехова конца 1880-х.20 Владевшее им ранее ощущение принципиальной непознаваемости жизни теперь сменяет надежда на скорое коренное обновление жизни.
На кого из чеховских героев похож доктор Старченко? (рассказ «По делам службы»)
Позднее творчество Чехова весьма автоинтертекстуально. Не редкость в нем даже своего рода ремейки его собственных произведений. Так, например, главные герои повести «Дуэль» (1891) еще раз появились у Чехова — разумеется в преобразованном виде — в его рассказе «По делам службы» (1898). Парадоксальным образом в нем мы находим новое, своего рода «предконцептуалистское» развитие сюжета «Дуэли». «Предконцептуалистское» потому, что «предметный мир» в этом рассказе отступает на второй план, а на первый выдвигается варьирование идеи предыдущего произведения через варьирование его сюжета.21
Фамилия главного героя «По делам службы» Лесницкий по отношению к фамилии героя этой повести: Лаевский — носит прозрачно анаграмматический характер. Рассказ о беспричинном самоубийстве страхового агента Лесницкого — по-видимому, оттого, что «жизнь надоела, тоска» (С. 10; 87) — повествует как бы о том, что могло случиться, если бы Лаевский покончил с собой (что, в принципе, было вполне возможным вариантом финала чеховской «Дуэли»).
На вскрытие приезжают «исполняющий должность судебного следователя» Лыжин — «еще молодой, кончивший только два года назад и похожий больше на студента, чем на чиновника», а также доктор Старченко — «мужчина средних лет, с темной бородой, в очках» (С. 10; 87). В ожидании утра герои проводят вечер, а потом — из-за внезапно разыгравшейся метели — еще и день в усадьбе помещика фон Тауница. Обслуживает их в течение всего этого времени сотский Лошадин.
Фамилия доктора Старченко, внутренне соотнесенного с другим героем «Дуэли» фон Кореном, похожа на фамилию героя написанного Чеховым немногим ранее рассказа «Ионыч» (1898), доктора Старцева. Причем Старченко отличается не меньшей бесцеремонностью и душевной черствостью, чем Старцев последней главки чеховского рассказа (ср.: С. 10; 40–41): «Пришла охота пустить себе пулю в лоб, ну и стрелялся бы у себя дома, где-нибудь в сарае. Он, как был, в шапке, в шубе и в валенках, опустился на скамью; его спутник, следователь, сел напротив. — Эти истерики и неврастеники большие эгоисты…» (С. 10; 87).
Старченко называет Лесницкого «неврастеником» — словом, которое Лаевский применял к самому себе: «…какой я боец? Жалкий неврастеник, белоручка» (С. 7; 356). И высказывается о самоубийце Лесницком в духе «социального дарвинизма» фон Корена: «Он оставил жену и ребенка, — говорил Старченко. — Неврастеникам и вообще людям, у которых нервная система не в порядке, я запретил бы вступать в брак; я отнял бы у них право и возможность размножать себе подобных. Производить на свет нервнобольных детей — это преступление» (С. 10; 98). Фон Корен в разговоре с доктором Самойленко тоже не настаивал на том, в какой именно форме Лаевского надо «обезвредить»: «Уничтожить Лаевского нельзя, ну так изолируйте его, обезличьте, отдайте в общественные работы...» (С. 7; 375).
Между тем у самого Старченко слова то и дело расходятся с делами. Это бросается в глаза в эпизоде возвращения Старченко за Лыжиным: «— Видите, я сам за вами приехал. <…> — А у Тауница, — сказал Старченко, — когда узнали, что вы остались ночевать в избе, то все набросились на меня, почему я это вас с собой не взял» (С. 10; 94). При этом он сам себе противоречит. Объявляет: «…я сам за вами приехал» — и в то же время сообщает, что у Тауница на него «набросились» с упреками. И было за что наброситься: ведь сразу поехать к фон Тауницу Старченко Лыжину не предложил, оставив его ночевать в «земской избе». Этот уездный врач представляет собой нечто среднее между фон Кореном и Ионычем, причем от Ионыча в нем явно больше.
Что же касается фон Тауница, то он смотрит на самоубийцу Лесницкого с сочувствием: «— Несчастный молодой человек, — говорил фон Тауниц, тихо вздыхая и покачивая головой. — Сколько надо прежде передумать, выстрадать, чтобы наконец решиться отнять у себя жизнь... молодую жизнь» (С. 10; 98). И естественно, напоминает этим не фон Корена (что можно было бы предположить по сходству фамилий), а доктора Самойленко. В иной, но подобной ситуации тот увещевал зоолога: «— Я не знаю, Коля, чего ты добиваешься от него, — сказал Самойленко, глядя на зоолога уже не со злобой, а виновато. — Он такой же человек, как и все. Конечно, не без слабостей…» (С. 7; 374).
Так что диалог фон Тауница со Старченко о Лесницком немного похож на спор между Самойленко и фон Кореном о Лаевском. Если бы тот покончил жизнь самоубийством, то сходство это, наверное, стало бы еще большим.
В финале рассказа антагонизм начинающего следователя по отношению к доктору принимает вполне осознанный характер: «И доктор в соседней комнате стал говорить о суровой природе, влияющей на характер русского человека, о длинных зимах, которые, стесняя свободу передвижения, задерживают умственный рост людей, а Лыжин с досадой слушал эти рассуждения...» (С. 10; 100).
Что касается другого героя рассказа «По делам службы», сотского Лошадина, то своей близостью к народной правде он напоминает «дьякона» «Дуэли». Вместе с застрелившимся Лесницким он является Лыжину во сне: они «шли в поле по снегу, бок о бок, поддерживая друг друга; метель кружила над ними, ветер дул в спины, а они шли и подпевали: — Мы идем, мы идем, мы идем. <…> Мы несем на себе всю тяжесть этой жизни, и своей, и вашей...» (С. 10; 98). Так еще пока подсознательно чеховский герой начинает ощущать роль народа в жизни образованных сословий.
Как и застрелившийся Лесницкий, Лыжин в свою очередь тоже отдаленно напоминает Лаевского — только уже Лаевского накануне дуэли, вдруг ощутившего свою собственную вину перед Надеждой Федоровной и всеобщую вину людей друг за друга (см.: С. 7; 437): «И почему агент и сотский приснились вместе? <…> Не идут ли они и в жизни бок о бок, держась друг за друга? Какая-то связь, невидимая, но значительная и необходимая, существует между обоими, даже между ними и Тауницем, и между всеми, всеми… <…> это части одного организма, чудесного и разумного, для того, кто и свою жизнь считает частью этого общего и понимает это» (С. 10; 99).
Рассказ 1898 года, таким образом, оказывается вариацией чеховской повести 1891-го. А осмысление Лыжиным этого сна отмечено отчетливой ориентацией на философию всеобщей вины друг перед другом, развиваемую некоторыми героями Толстого — в частности, Левиным из «Анны Карениной». Ср. у Чехова: «И он чувствовал, что это самоубийство и мужицкое горе лежат и на его совести; мириться с тем, что эти люди, покорные своему жребию, взвалили на себя самое тяжелое и темное в жизни — как это ужасно!» (С. 10; 100).22
Известен реально-биографический прототип сотского Лошадина. Говоря о мелиховском периоде в жизни брата, который был тогда членом «Серпуховского санитарного совета», на него указал М. П. Чехов: «То и дело к нему приходил то с той, то с другой казенной бумагой сотский, и каждая такая бумага звала его к деятельности. Этот сотский, или, как он сам называл себя, „цоцкай“, служил при Бавыкинском волостном правлении, к которому в административном отношении принадлежало Мелихово, и он-то и выведен Чеховым в рассказе „По делам службы“ <...> Это был необыкновенный человек; он „ходил“ уже тридцать лет, все им помыкали» (цит. по: С. 10; 399).
Между тем у сотского Лошадина, очевидно, есть и литературный прототип. Вспомним высказывание Чехова, которое приводит в своих воспоминаниях А. Н. Серебров-Тихонов: «Вот меня часто упрекают — даже Толстой упрекал, — что я пишу о мелочах, что нет у меня положительных героев: революционеров, Александров Македонских или хотя бы, как у Лескова, просто честных исправников. А где их взять?»23
При этом Чехов имел в виду известный рассказ Н. С. Лескова «Однодум» (1879), открывавший цикл его произведений «Праведники». Герой Чехова — такой же самоотверженный человек, служащий общему делу. Только он не такой бессребреник, как лесковский исправник: «Лыжин слушал и думал о том, что вот он, Лыжин, уедет рано или поздно опять в Москву, а этот старик останется здесь навсегда и будет все ходить и ходить; и сколько еще в жизни придется встречать таких истрепанных, давно нечесанных, „нестоющих“ стариков, у которых в душе каким-то образом крепко сжились пятиалтынничек, стаканчик и глубокая вера в то, что на этом свете неправдой не проживешь» (С. 10; 91–92).
Зато чеховский «сотский» — очевидно, более жизненный и более правдоподобный образ, чем лесковский «однодум». Именно этот образ из всех героев рассказа Чехова произвел наиболее сильное впечатление на Л. Н. Толстого — причем как раз своеобразным соединением в нем праведности и грешности. Недаром Толстой провел черту как раз напротив выше приведенной фразы из чеховского рассказа на страницах «Книжек недели», в которых рассказ был опубликован. А позднее, в дневнике от 7 мая 1901 года, записал о чеховском «цоцком»: «Видел во сне тип старика, кот[орый] у меня предвосхитил Чехов. Старик был тем особенно хорош, что он был почти святой, а между тем пьющ[ий] и ругатель. Я в первый раз ясно понял ту силу, к[акую] приобретают типы от смело накладываемых теней» (цит. по: С. 10; 401).
О главном герое этого чеховского рассказа Лыжине Толстой при этом даже не упомянул. Впрочем, он подчеркнул места, в которых «говорится о пробуждении совести Лыжина, где прорывается авторский голос» (С. 10; 401). Так что, скорее всего, близость восприятия жизни чеховским Лыжиным по отношению к своему Левину он заметил.24 Тем более что сам Чехов подчеркнул ее неполной анаграмматичностью фамилии своего героя по отношению к герою «Анны Карениной».
Итак, в рассказе Чехова «По делам службы» можно видеть своего рода «предконцептуалистскую» вариацию мотива взаимной ответственности людей друг за друга, который в «Анне Карениной» связан с сюжетной линией Левина. В этом рассказе — как и в других выше проанализированных произведениях — проявляется отчетливое стремление Чехова к тому, чтобы наметить для современного человека какой-то выход из ограничивающих его свободу социальных, психологических и экзистенциальных пределов.
1 Шестов Л. Творчество из ничего (А. П. Чехов) // А. П. Чехов: Pro et contra. Творчество А. П. Чехова в русской мысли конца XIX — начала XX в. (1887–1914): Антология. СПб., 2002. С. 567.
2 Андреев Л. Три сестры // Леонид Андреев. Избранное. М., 2007. С. 131. Здесь и далее курсив в цитатах, кроме особо оговоренных случаев, наш. — С. К.
3 Станиславский К. С. А. П. Чехов в Художественном театре (Воспоминания) // А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 400.
4 Там же. С. 414.
5 Там же. С. 484, 517.
6 Серебров-Тихонов А. О Чехове // Там же. С. 594–595.
7 Там же.
8 См. об этом: Кибальник С. А. Доктор Дорн против писателя Мопассана // Филологические науки. 2022. № 1. С. 62–72.
9 В 1894 году даже вышло первое собрание сочинений Мопассана на русском языке. См.: Мопассан Г. Собр. соч.: В 12 т. СПб., 1894.
10 Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч.: В 18 т. М., 1985. Т. 8. С. 277. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте сокращенно, с указанием серии, номера тома и страницы.
11 Мопассан Г. Собр. соч.: В 12 т. СПб., 1896. Т. 1. С. 77–78.
12 Критику подобной интерпретации чеховских произведений см. в моей статье: Кибальник С. А. Чехов и бахтинская традиция интерпретации его творчества // Новый филологический журнал. 2024. № 4 (в печати).
13 Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1936. Т. 26. С. 468–469.
14 Возможно, здесь также отозвались образы фабрики купринского «Молоха» (1896). Ср., например: «Казалось, какая-то сверхъестественная сила приковала их на всю жизнь к этим разверстым пастям, и они, под страхом ужасной смерти, должны были без устали кормить и кормить ненасытное, прожорливое чудовище...» (Куприн А. И. Собр. соч.: В 5 т. М., 1982. Т. 1. С. 111). Благодарю за это соображение А. В. Кубасова.
15 В рассказе Мопассана есть даже «монах», который рассказывает герою-рассказчику много «старых преданий и местных легенд», и одна из них, которая его «чрезвычайно поразила», такова: «…запоздалые рыбаки клянутся, что, бродя по дюнам между двумя приливами вокруг маленького городка, заброшенного вдали от мира, они встречали старого пастуха с головой, всегда закрытой плащом…». Далее у Мопассана следует такой текст: «Я спросил у монаха: — Вы этому верите? Он пробормотал: — Не знаю. Я продолжал: — Если бы на земле были еще другие существа, кроме нас, разве могло бы случиться, что бы мы их не знали? Почему бы вам или мне их не видеть? Он отвечал: — Разве мы видим хотя бы стотысячную часть того, что существует? Возьмите хоть ветер: ведь это величайшая сила природы; он валит людей, разрушает строения, вырывает с корнем деревья, поднимает на море горы воды, уничтожает прибрежные скалы и бросает большие корабли на утесы; он убивает, свищет, ревет и стонет, а разве вы его видели и можете его видеть? Однако он существует» (Мопассан Г. Собр. соч. Т. IV. С. 43–44). В чеховской повести Коврин говорит Тане: «Меня сегодня с самого утра занимает одна легенда… <…> Тысячу лет назад какой-то монах, одетый в черное, шел по пустыне, где-то в Сирии или Аравии… <…> легкий вечерний ветерок нежно коснулся его непокрытой головы. Через минуту опять порыв ветра, но уже сильнее… <…> На горизонте, точно вихрь или смерчь, поднимался от земли до неба высокий черный столб. <…> двигался с страшною быстротой, двигался именно сюда, прямо на Коврина… <…> Коврин бросился в сторону, в рожь, чтобы дать ему дорогу, и едва успел это сделать…» (С. 8; 233–234). Образы Мопассана отозвались у Чехова в значительно трансформированном виде. Так, легенда, которую рассказывает монах, превращается под его пером в легенду о монахе, «голова, всегда закрытая плащом», сменяется «непокрытой головой». Слова же монаха о существовании множества невидимых вещей — например, такой мощной силы, как ветер, — порождают у Чехова картину несущегося с огромной скоростью черного монаха и отзываются его диалогом с Ковриным о том, существует ли он сам: « — Значит, ты не существуешь? — спросил Коврин. — Думай, как хочешь, — сказал монах и слабо улыбнулся. — Я существую в твоем воображении, а воображение твое есть часть природы, значит, я существую и в природе» (С. 8; 341). И тем не менее связь между двумя этими произведениями вряд ли может вызывать сомнения.
16 Мопассан Г. Собр. соч. Т. 4. С. 40–41.
17 Там же. С. 41.
18 Там же.
19 См. об этом: Кибальник С. А. Художественная феноменология Чехова // Кибальник С. А. Чехов и проблемы интертекста: Статьи, публикации, заметки. СПб., 2013. С. 48–49.
20 О Чехове этого периода см.: Толстая Е. Поэтика раздражения: Чехов в конце 1880-х — начале 1890-х годов. М., 2002.
21 «…Концептуализм имеет дело с идеями (а чаще всего с идеями отношений), а не с предметным миром….» (Словарь терминов московской концептуальной школы / Сост., предисловие А. Монастырского. М., 1999. С. 5; курсив автора. — С. К.).
22 Сходное убеждение высказывает старец Зосима из «Братьев Карамазовых» и многие другие герои русской литературной классики.
23 А. П. Чехов в воспоминаниях современников. С. 594.
24 Это вовсе не противоречит тому, что герой по фамилии «Лыжин» также есть в романе П. Д. Боборыкина «Перевал», с которым Чехов был знаком. См.: Кубасов А. В. Фридрих Ницше в русской прозе конца XIX века: ироники и адепты (А. П. Чехов и П. Д. Боборыкин) // Уральский филологический вестник. Сер. Русская классика: динамика художественных систем. 2015. № 3. С. 158–174.
About the authors
Sergey A. Kibalnik
Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: kibalnik007@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-5937-5339
Leading Researcher
Russian Federation, St. PetersburgReferences
- Andreev L. Tri sestry // Leonid Andreev. Izbrannoe. M., 2007.
- Chekhov A. P. Poln. sobr. soch. i pisem: V 30 t. Soch.: V 18 t. M., 1985. T. 7, 8, 10.
- Kibal’nik S. A. Chekhov i bakhtinskaia traditsiia interpretatsii ego tvorchestva // Novyi filologicheskii zhurnal. 2024. № 4 (v pechati).
- Kibal’nik S. A. Doktor Dorn protiv pisatelia Mopassana // Filologicheskie nauki. 2022. № 1.
- Kibal’nik S. A. Khudozhestvennaia fenomenologiia Chekhova // Kibal’nik S. A. Chekhov i problemy interteksta: Stat’i, publikatsii, zametki. SPb., 2013.
- Kubasov A. V. Fridrikh Nitsshe v russkoi proze kontsa XIX veka: ironiki i adepty (A. P. Chekhov i P. D. Boborykin) // Ural’skii filologicheskii vestnik. Ser. Russkaia klassika: dinamika khudozhestvennykh sistem. 2015. № 3.
- Kuprin A. I. Sobr. soch.: V 5 t. M., 1982. T. 1.
- Serebrov-Tikhonov A. O Chekhove // A. P. Chekhov v vospominaniiakh sovremennikov. M., 1986.
- Shestov L. Tvorchestvo iz nichego (A. P. Chekhov) // A. P. Chekhov: Pro et contra. Tvorchestvo A. P. Chekhova v russkoi mysli kontsa XIX — nachala XX v. (1887–1914): Antologiia. SPb., 2002.
- Slovar’ terminov moskovskoi kontseptual’noi shkoly / Sost., predislovie A. Monastyrskogo. M., 1999.
- Stanislavskii K. S. A. P. Chekhov v Khudozhestvennom teatre (Vospominaniia) // A. P. Chekhov v vospominaniiakh sovremennikov. M., 1986.
- Tolstaia E. Poetika razdrazheniia: Chekhov v kontse 1880-kh — nachale 1890-kh godov. M., 2002.