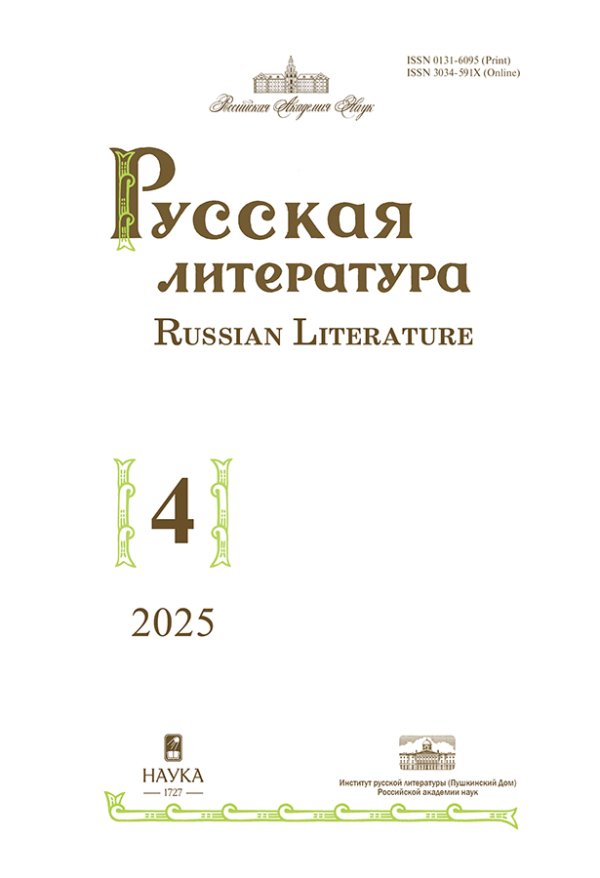Modern Avengers (Dedicated to One of the Essays by N. S. Leskov)
- Authors: Makarevich O.V.1
-
Affiliations:
- Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences
- Issue: No 2 (2024)
- Pages: 143-147
- Section: Публикации и сообщения
- URL: https://bakhtiniada.ru/0131-6095/article/view/259316
- DOI: https://doi.org/10.31860/0131-6095-2024-2-143-147
- ID: 259316
Full Text
Abstract
The article deals with the authorship of the Modern Avengers short essay, published in the Novoye Vremya (New Time) newspaper (1879, August 24 (September, 5), № 1252). The analysis of the approach, theme, style and content renders the evidence confirming that this text was penned by N. S. Leskov who was one of the newspaper’s contributors at the time.
Full Text
В 1252-м номере «Нового времени» от 24 августа (5 сентября) 1879 года была помещена анонимная заметка с интригующим названием «Современные мстители». Ее автор обращался к опубликованной накануне «Судебной хронике» и пытался представить изложенные здесь события как отражение актуальных тенденций в обществе. Единичный, незначительный, на первый взгляд, сюжет, представленный в нужном ракурсе, вел к довольно широким и провокационным обобщениям.
Быстрота публикации — буквально на следующий день после появления на страницах газеты самой «хроники» — наводит на мысль о том, что автор заметки был не только жителем Петербурга, но и лицом если не являвшимся постоянным сотрудником газеты, то весьма близким к редакционному кругу. С нашей точки зрения, написать ее мог Н. С. Лесков, к концу августа уже вернувшийся с летнего отдыха в Карлсбаде.1 Попытаемся проанализировать текст, указав на возможные маркеры, подтверждающие наше мнение.
Сюжет «Современных мстителей» основывается на сопоставлении двух уголовных дел. Объединяет их идея мщения, к которому и отсылает заголовок. Следуя литературной традиции, читатели, вероятно, будут ожидать описания «кровавой катастрофы» в духе романтической поэмы, кульминацией которой должны быть сцены подслушанного свидания и самого убийства.2 Эти ожидания отчасти оправданы: и подозрения юного влюбленного в измене, и абсурдная попытка застрелить возлюбленную в заметке упоминаются. Однако в романтических поэмах, как правило, подчеркивается исступление и беспамятство героя в момент совершения преступления, которые вызваны ревностью, мыслью о предательстве возлюбленной. «Современные мстители» гораздо более хладнокровны: хотя они и мстят из «побуждений чисто рыцарского свойства», полагая себя борцами за «невинность», автор подчеркивает отсутствие у них раскаяния, сожаления в совершенном поступке. Столь же постоянный для романтической поэмы мотив ухода в монастырь / отшельничества / поиска прощения за совершенное убийство заменяется высказанным автором осуждением «многообразно профанируемой религиозности».
Изложенный в заметке сюжет позднее будет интерпретирован Лесковым в одном из рассказов кстати «Два свинопаса» (Новь. 1884. № 2). Оговоримся сразу, что многократное обращение к одному сюжету в целом свойственно лесковскому творчеству.3 Однако повтор для него никогда не был просто пересказом изложенного ранее. Возвращаясь к известным читателю историям, писатель детализировал, уточнял, корректировал свою мысль — и нередко приходил к иным выводам, отмечал иные тенденции. В рассказе «Два свинопаса» гораздо больше мелких деталей и подробностей, которые, возможно, стали известны Лескову уже после публичного суда. И основная его идея — сопоставление искренности «великосветского раскольничества», возглавляемого лордом Редстоком, и южнорусской штунды4 — в значительной степени отличается от авторских интенций «Современных мстителей».
Тем не менее оба текста могут быть рассмотрены как примеры одного жанра — рассказа кстати, или рассказа à propos, к которому Лесков неоднократно обращался в 1880-е годы. В 1886 году вышел сборник с одноименным названием, куда были включены опубликованные ранее (большей частью в «Нови») произведения: «Совместители (Буколическая повесть на исторической канве)» (1884), «Старинные психопаты» (1885), «Интересные мужчины» (1885), «Таинственные предвестия» (1885), «Александрит» (1884), «Загадочное происшествие в сумасшедшем доме» (1884). Ряд не вошедших в книгу текстов также выходил с подзаголовком «Рассказы кстати»: кроме уже названных «Двух свинопасов», можно вспомнить «Умершее сословие» (1888), «Пагубники» (1885) и «Голос природы» (1883). Позднее Лесков признавался Л. Н. Толстому: «Я очень люблю эту форму рассказа о том, что „было“, приводимое „кстати“ (à propos), и не верю, что это вредно и будто бы непристойно, так как трогает людей, которые еще живы. Мною ведь не руководят ни вражда, ни дружба, а я отмечаю такие явления, по которым видно время и веяние жизненных направлений массы».5
Стремление Лескова к типизации общественных явлений видно уже в заглавиях рассказов, которые представляют собой своего рода амплуа, лаконичные определения характерных образов, как, к примеру, «интересные мужчины», «психопаты», «пагубники», — и «мстители» в этот ряд более чем вписываются. Поступок этих «исправителей общественного зла» изображается не как единичный случай, но как тенденция времени: «Странная черта самоуправства, и вот она в очень короткое время повторилась в одном и том же городе два раза, и в оба раза деятелями в ней были молодые люди из образованного круга…»; «…самоуправство <…> входит в практику…»; «повторяемость, <…> кучность однородных дел».
Главным жанрообразующим признаком рассказов кстати можно считать сочетание индивидуализации и типизации. В действующих лицах подчеркиваются отличительные черты, в которых «видно время», — и вместе с тем их индивидуальные черты представляются как типичные для эпохи. П. Г. Жирунов назвал этот принцип изображения персонажей «скрытой бинарной характеристикой».6 Показательно, что авторская оценка юного кадета и его возлюбленной строится на постоянном смешении документальности, достоверных деталей с художественным обобщением, ср., например: «Они должны узнать, что избранным им путем искоренения зла не устанавливается ни нравственность, ни христианская мораль, в интересах которой, говорят, казнил девушку кадет Б., по одному только подозрению, что она и ее родители желают будто заключить недостойную сделку».7
Неоднократно в «Рассказах кстати» Лесков говорит и о «тенденциозности», которая мешает верно увидеть и понять проблему. Причем подразумевается не столько «пристрастность» литературной критики, сколько ошибочность мнений «простых людей». В «Современных мстителях» автор противопоставляет «тенденциозности» мнение «живых людей русского склада», которым «просто „так Бог на сердце кладет“». Ср. в «Пагубниках»: «Понимайте дело, как оно есть, а не так, как его вам представляет в своем вкусе пристрастная тенденциозность, и верное понимание приведет вас к верным и справедливым поступкам».8
В качестве доказательства атрибуции «Современных мстителей» Н. С. Лескову укажем и на саму постановку проблемы. В конце 1870-х — начале 1880-х годов главной темой его творчества становятся «религиозно-бытовые явления», «религиозные движения в обществе».9 Писателя интересуют не столько духовно-нравственные искания русского общества или осмысленность вероисповедания, сколько проблема деятельного пастырства. И его духовные поиски обусловлены не разочарованием в христианском идеале, а «невоплощенностью этического христианского идеала в русской жизни».10 В результате на страницах периодических изданий появляется ряд статей, в которых излагаемая новостная повестка позволяет автору вновь и вновь говорить о невозможности веры без дел (или о невозможности спасения на словах, «одною верою», о чем так любили рассуждать редстокисты). Одним из примеров такого рода материалов можно считать заметку «Турки под Петербургом».11 Лесков рассказывает об организации быта и жизни пленных турецких солдат, оказавшихся в Стрельне. Однако ироничное повествование о пленных, которые «предпочитают ничего не делать», но «желают иметь пшеничные булки вместо ржаного солдатского хлеба, к которому никак не могут привыкнуть», получает совершенно неожиданное заключение. Автор воздерживается от оценки самих турецких подданных, но, зацепившись за краткое упоминание о затруднительности «религиозного состояния пленников», переходит к рассуждениям о неудовлетворительности деятельности «апостолических кавалеров и дам», которые под пастырством «благодушного лорда Редстока» совсем «изленились». Аналогичным образом построена и, к примеру, напечатанная в «Новом времени» заметка в разделе «Листок», посвященная ошибочному диагностированию чумы у дворника Наума Прокофьева.12
Схожую постановку проблемы мы видим и в «Современных мстителях». Два случая убийства с высоконравственными целями не просто получают истолкование в христианском духе. Автор подчеркивает, что декларируемые «мстителями» цели лишь кажутся христианскими, порожденными «влиянием христианской набожности», но не являются таковыми на деле, — и приходит к выводу о «многообразно профанируемой религиозности». Раскрытию темы способствует и аллюзия к библейской метафоре: «Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; а ты кто, который судишь другого?» (Иак. 4: 12). Лейтмотивной становится тема суда: она задается самой исходной ситуацией — осмыслением оправдательного судебного приговора; далее развивается в сопоставлении вердикта присяжных с «народным судом» («так Бог на сердце кладет»), затем находит воплощение в самооценке кадета Б-ва («он самый благочестивый и нравственный судия»), наконец, приводит к теме ошибочности самочинного суда «самовольных фанатиков», которые мнят себя «непогрешимым судьею ближнего». По сути, Лесков вновь напоминает читателям свою излюбленную идею о том, что истинное христианство заключается не в словах и рассуждениях, а в поступках и делах. И никакие высокопарные нравственные максимы не оправдывают «кровавых дел».
Наконец, обратим внимание на стилистические особенности заметки, которые вполне отвечают и поэтике других рассказов кстати, и в целом языку Лескова. Можно обратить внимание на употребление редких, маркированно-выразительных слов-образов, которые писатель часто заимствовал как из книжной, так и из разговорной речи (якшательство, пагубница, подтасовка, самоуправство), а также на использование риторических фигур, в основе которых лежат смысловые и лексические повторы («губила „невинных девушек“, торгуя их невинностию»; «будет ли стрелок оправдан, как оправдан отравитель»; «тут нет никакой подтасовки, никакой „тенденциозности“», и др.). Стоит отметить и синтаксический параллелизм, усиленный анафорами («Он не закоснелый злодей <…> Он исправитель общественного зла…»; «Первый из них уже оправдан, а что ждет другого — еще не знаем, <…> будет ли стрелок оправдан, как оправдан отравитель…»), который приводит к некоторой ритмизации текста.
Все сказанное, по нашему мнению, позволяет с большой долей уверенности предполагать, что автором «Современных мстителей», ставших претекстом рассказа «Два свинопаса», также является Н. С. Лесков. Ниже мы помещаем эту заметку по публикации в «Новом времени» (1879. 24 авг. (5 сент.). № 1252. С. 2). Орфография и пунктуация приведены к современным нормам; опечатки исправлены без оговорок.
Современные мстители
Читатели, вероятно, заметили напечатанный у нас 23-го августа (№ 1251) небольшой судебный отчет о дворянине Изъюрове, который 21-го августа судился в Петербурге за намерение отравить некоторую почетную гражданку Филиппову. Он, как оказалось, действовал под влиянием негодующего чувства за то, что эта г-жа Филиппова губила «невинных девушек», торгуя их невинностию. Словом, Изъюров покусился на преступление не по каким-либо своекорыстным расчетам, а напротив, по побуждениям чисто рыцарского свойства — он хотел уничтожить вредную личность, которая увлекает молодых девушек на путь погибели. Присяжные оправдали Изъюрова, а в публике рукоплескали их вердикту, и все это понятно: причина, вызвавшая мстителя на его покушение извести пагубницу, очень возмутительна, тем более что в якшательстве с этою госпожою упоминаются какие-то «лица», какой-то «князь Урусов», для которого г-жа Филиппова заготовляла «невинную девушку». Понятно, что среди живых людей русского склада всего легче о такой г-же сорвется слово «так ей и надо», и вот вам готов вердикт присяжных. Тут нет никакой подтасовки, никакой «тенденциозности», а просто «так Бог на сердце кладет». Но вот что если не удивительно, то не совсем понятно и во всяком случае достойно внимания, — это повторяемость, так сказать, кучность однородных дел. Изъюров не первый молодой человек, являющийся в наши дни мстителем за невинность: еще раньше его в этом же роде отличился молодой кадет Б-в, который застрелил знакомую молодую девушку, по подозрению, что та хочет пойти к кому-то на содержание с согласия ее родителей. Только этот молодой юноша изводил не виновников заподозренной им сделки, а саму жертву, и он изводил ее так же неудачно, как и отравитель Филипповой: молодая девушка осталась жива и, кажется, о сию пору еще доканчивает свой век с пулею в груди, а охранитель ее девственной чистоты должен будет скоро предстать на суд. И что же мы опять можем ожидать увидеть и услышать на этом суде: увидим мы юношу, слабого, мозглявенького, почти мальчика, который, конечно, будет говорить, что он стрелял в девушку с тем, чтобы охранить ее чистоту… Он не закоснелый злодей; он действовал по побуждениям, которые имеет основания считать нравственными: он ее любил, она хотела идти нехорошим путем, он присудил ее к смерти и привел это решение в исполнение. Он исправитель общественного зла: он самый благочестивый и нравственный судия и энергический исполнитель своих решений, постановляемых им, может быть, помолясь Богу в целях сохранения девичьей души чистою для жизни вечной. Этот мальчик, говорят, очень богомолен, он даже проповедовал и до убийства, и после убийства и, убивая, поступал благочестиво, он пресекал зло там, где его не достигает и не может достичь и покарать никакой закон, т. е. в семействе: девушка делает или только замышляет шаг, который этот благочестивый юноша не одобряет, и он ее стреляет, чтобы сохранить ее чистоту. Странная черта самоуправства, и вот она в очень короткое время повторилась в одном и том же городе два раза, и в оба раза деятелями в ней были молодые люди из образованного круга: один 24-летний дворянин, прошлое которого на суде не выяснено, другой — кадет. Первый из них уже оправдан, а что ждет другого — еще не знаем, но во всяком случае будет ли стрелок оправдан, как оправдан отравитель, мы считаем долгом внимательно следить за тем: как общество в лице своих представителей отнесется к подвигам обоих этих нравственных мстителей, которые признают себя в праве судить и казнить людей смертию, нимало не опасаясь никакой возможности судебной ошибки. Внимание тут необходимо, потому что это самоуправство пошло повторяться с легкой руки кадета и, значит, входит в практику, и оно тем опаснее, чем более деятели этого сорта будут убеждены в правоте их действий, к которым, кажется, нельзя относиться иначе, как с порицанием. Юноши, действующие таким образом под влиянием целей, которые им представляются весьма нравственными, должны понять, что они сами нарушают покой общества, угрожая ему самочинством, которое притом легко может быть основано на очень ошибочных соображениях. Они должны узнать, что избранным им путем искоренения зла не устанавливается ни нравственность, ни христианская мораль, в интересах которой, говорят, казнил девушку кадет Б., по одному только подозрению, что она и ее родители желают будто заключить недостойную сделку. Общество имеет основание не желать умножения подобных самовольных фанатиков, потому что иначе придется жить как под ножом, за который хватается то тот, то другой недоросль, мнящий себя непогрешимым судьею ближнего. И если одно из этих происшествий случилось, как уверяют, под влиянием христианской набожности, то это тем хуже. Многообразно профанируемая религиозность должна быть защищена от этого нового покушения смешать ее с кровавыми делами.
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-01858, https://rscf.ru/project/22-28-01858/, ИРЛИ РАН.
1 О его планах на лето см. письмо к М. Г. Пейкер от 9 июня 1879 года: Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1958. Т. 10. С. 461.
2 О мотиве убийства из ревности в романтической поэме, как и о других сюжетообразующих мотивах этого жанра, см.: Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы. Л., 1978. С. 268–284.
3 В качестве примера можно вспомнить сюжет об управляющем, пытавшемся заменить старые крестьянские орудия на новые европейские сельскохозяйственные машины, использованный в одной из статей цикла «Русские общественные заметки» (1869), в очерке «В саже и копоти» (1884) и рассказе «Загон» (1893).
4 Подробнее см.: Ильинская Т. Б. Простонародное сектантство в интерпретации Н. С. Лескова и Г. И. Успенского («Два свинопаса» и «Несколько часов среди сектантов») // Вестник СПбГУ. Сер. Язык и литература. 2009. Вып. 2. Ч. 1. С. 11–16.
5 Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. Т. 11. С. 568.
6 См. подробнее: Жирунов П. Г. Жанр рассказа в творчестве Н. С. Лескова 80–90-х годов XIX века (Проблемы поэтики): Дис. … канд. филол. наук. Пенза, 2004. С. 65–87.
7 Заметим, что Лесков нередко сополагает в своих произведениях мотивы любви и торга, как правило, в сниженном, ироническом контексте (см. об этом: Федотова А. А. Пушкинский контекст «египетской» повести Н. С. Лескова «Гора» // Ярославский педагогический вестник. 2011. Т. 1. № 2. С. 225–228). В «Современных мстителях» этот мотив также звучит неоднократно («торгуя их невинностию»; «заподозренной им сделки» и др.).
8 Лесков Н. C. Собр. соч.: В 6 т. М., 1993. Т. 3. С. 137.
9 Ильинская Т. Б. Русское разноверие в творчестве Н. С. Лескова. СПб., 2010. С. 13–14.
10 Ильинская Т. Б. Простонародное сектантство в интерпретации Н. С. Лескова и Г. И. Успенского. С. 13.
11 Церковно-общественный вестник. 1878. 17 марта. № 33. С. 2.
12 Новое время. 1879. 16 февр. № 1066. С. 2. Об атрибуции этой заметки Н. С. Лескову см.: Лесков в суворинском «Новом времени» (1876–1880) / Вступ. статья, публ. и комм. О. Е. Майоровой // Лит. наследство. 2000. Т. 101. Неизданный Лесков: В 2 кн. Кн. 2. С. 170–171.
About the authors
Olga V. Makarevich
Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: philologolga@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-0244-5797
Researcher
Russian Federation, St. PetersburgReferences
- Fedotova A. A. Pushkinskii kontekst «egipetskoi» povesti N. S. Leskova «Gora» // Iaroslavskii pedagogicheskii vestnik. 2011. T. 1. № 2.
- Il’inskaia T. B. Prostonarodnoe sektantstvo v interpretatsii N. S. Leskova i G. I. Uspenskogo («Dva svinopasa» i «Neskol’ko chasov sredi sektantov») // Vestnik SPbGU. Ser. Iazyk i literatura. 2009. Vyp. 2. Ch. 1.
- Il’inskaia T. B. Russkoe raznoverie v tvorchestve N. S. Leskova. SPb., 2010.
- Leskov N. S. Sobr. soch.: V 11 t. M., 1958. T. 10, 11.
- Leskov N. S. Sobr. soch.: V 6 t. M., 1993. T. 3.
- Leskov v suvorinskom «Novom vremeni» (1876–1880) / Vstup. stat’ia, publ. i komm. O. E. Maiorovoi // Lit. nasledstvo. 2000. T. 101. Neizdannyi Leskov: V 2 kn. Kn. 2.
- Zhirmunskii V. M. Bairon i Pushkin. Pushkin i zapadnye literatury. L., 1978.
- Zhirunov P. G. Zhanr rasskaza v tvorchestve N. S. Leskova 80–90-kh godov XIX veka (Problemy poetiki): Dis. … kand. filol. nauk. Penza, 2004.