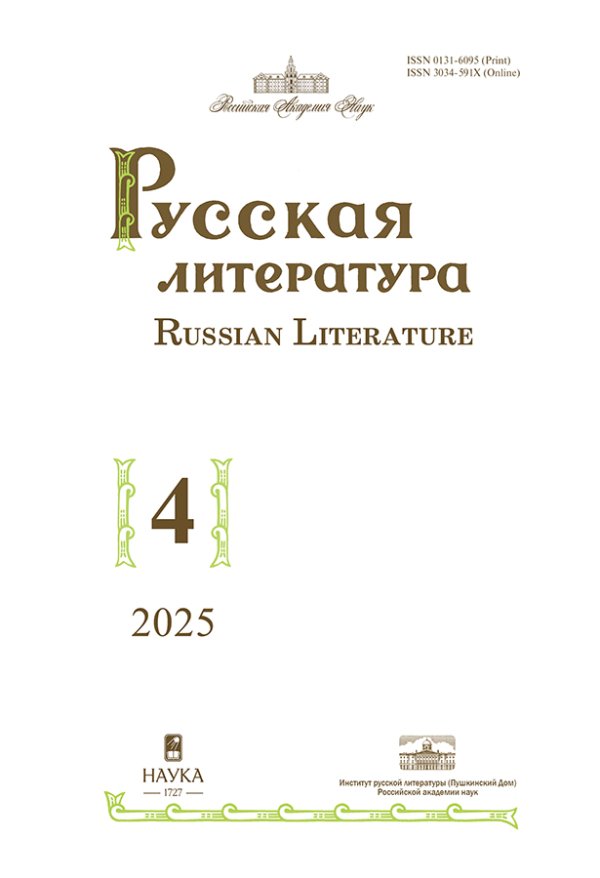Трансформации Второй оды Сапфо в русской поэзии: типологический анализ
- Авторы: Готовцева А.Г.1,2
-
Учреждения:
- Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина
- Институт научной информации по общественным наукам РАН
- Выпуск: № 2 (2024)
- Страницы: 119-136
- Раздел: Публикации и сообщения
- URL: https://bakhtiniada.ru/0131-6095/article/view/259313
- DOI: https://doi.org/10.31860/0131-6095-2024-2-119-136
- ID: 259313
Полный текст
Аннотация
Вторая ода Сапфо стала известна европейцам в середине XVI века благодаря французскому эллинисту и типографу Анри Этьенну, включившему ее в изданный им сборник античных текстов. С тех пор ода прочно заняла место среди базовых текстов европейской культуры. Однако в сложившейся переводческой традиции сапфический любовный треугольник подвергся изменениям как в сторону традиционной ars amatoria, так и других форм любовных взаимоотношений. В статье выстроена типология русских переводов Второй оды, а также проанализированы их литературные контексты.
Ключевые слова
Полный текст
Некоторые предварительные замечания
Так называемая Вторая ода (по нумерации фрагментов Т. Бергка, Э. Диля и др.) или 31-й фрагмент (по нумерации Э. Лобеля и Д. Пейджа, и более современного издания — Е.-М. Фойгт) Сапфо (fr. 2 B = 2 D = 31 LP = 31 V) — самый переводимый в русской литературе древнегреческий текст. Число его переводов и подражаний составляет полсотни единиц.1
В русскую поэзию текст Сапфо проникал двунаправленно. Во-первых, переводы делались с греческого подлинника, включенного в трактат псевдо-Лонгина «О возвышенном». Вот этот текст в эквилинеарном переводе М. Л. Гаспарова:
Видится мне равен богам
Тот мужчина, который напротив тебя
Сидит и изблизи сладкий
Слышит голос
И желанный смех, а от этого мое
Сердце в груди замирает:
Довольно мне быстрого на тебя взгляда, и уже
Говорить я не в силах,
Но ломается мой язык, тонкий
Тотчас пробегает под кожею огонь,
Глаза ничего не видят, шумом
Оглушен слух,
Обливаюсь я пóтом, дрожь
Всю меня охватывает, зеленее травы
Становлюсь, и чтоб умереть, немного,
Кажется, мне осталось;
Но все нужно вытерпеть...2
Во-вторых — и в первую очередь, ибо с него было выполнено большинство русских переводов XVIII–XIX веков, — источником служил французский перевод Н. Буало (Nicolas Boileau-Despréaux, 1636–1711), сделанный им в 1674 году при переводе названного трактата на французский язык.3
Текст Второй оды, по утверждению Е. В. Свиясова, автора монографии, посвященной осмыслению творчества Сапфо в России, — «едва ли не самое иррациональное произведение малых поэтических форм, когда-либо созданное на Европейском континенте»4 — имеет явные гомосексуальные коннотации.
Конечно, сам вопрос о гомосексуальности, тем более женской, для эпохи античности представляется достаточно сложным. Как отмечает современный американский антиковед Г. Мост, «сама Сапфо понятия не имела бы, что люди имеют в виду, когда в наши дни называют ее гомосексуальной».5 Профессор Университета Неймегена (Нидерланды) А. Лардинуа сначала считал, что Сапфо, вероятно, действительно вступала в сексуальные отношения с девушками — членами своего круга, «тех, кто служит музам» (fr. 150 LP=136 B=109 D=150 V), о ком она пела в своих стихах, подобные педерастическим отношениям взрослых мужчин и юношей в рамках обряда инициации (посвящения), распространенного в архаической Греции.6 Здесь, наряду с термином «гомосексуальный», исследователь использует другой термин — «гомоэротический». В своей следующей статье на эту тему, написанной через много лет, он уже предлагает данный термин в качестве основного для описания страстей, изображенных Сапфо, постулируя, что термины «гомосексуальный» или «лесбийский» связаны с некими общественными установлениями, с четкой сексуальной ориентацией, а «Сапфо жила во время и в обществе, где признавалась не строгая противоположность между гомосексуализмом и гетеросексуальностью, а скорее между супружеской любовью, областью Геры, и эротической страстью, областью Афродиты. К последней могли относиться как гомосексуальные, так и гетеросексуальные связи».7 Отметим в скобках, что в одной из традиций восприятия личности Сапфо — традиции аттической комедии — поэтесса изображалась распутной, но гетеросексуальной женщиной, имеющей множество любовников. Описание ее гомосексуальности появилось только в поздней античности.8
В упомянутой работе в полном соответствии с ее названием («Lesbian Sappho revisited») Лардинуа пересмотрел свой изначальный взгляд и стал сомневаться в принципиальном существовании физических гомосексуальных отношений между Сапфо и ее ученицами, сделав вывод, что «гомоэротические описания, которые, безусловно, присутствуют в поэзии Сапфо и во фрагментах партений Алкмана, следует интерпретировать не как свидетельство сексуальных отношений в их сообществах, а как публичное восхваление красоты молодых женщин, присущее как мужчинам, так и женщинам».9
Термин «гомоэротический» представляется наиболее удобным для описания чувств, выраженных Сапфо, поэтому он будет использоваться далее в настоящей статье. В то же время необходимо отметить, что в данном случае рассматривается именно восприятие текста Сапфо не ею самой и ее эпохой, а поэтами более поздними, начиная с эпохи Возрождения. Об этом писал академик И. И. Толстой: «Нередко в стремлении найти объяснение древнему непонятному факту исследователи невольно окрашивали последний в бытовые краски новой, им современной действительности <…> Специфика древнего бытового явления античной Греции VI в. незаметно ускользала из поля зрения, и ложно понятое явление одевалось в обманчивые одежды позднейшего западноевропейского общества».10 Именно эта «современная действительность» «позднейшего западноевропейского общества» и является объектом нашего рассмотрения. Отметим также то, что язык описания — это инструмент, и он всегда так или иначе современен тому, кто осмысляет интересующее его событие или явление. Поэтому использование такого понятия, как «любовный треугольник», в данной статье представляется вполне допустимым.
В любовном треугольнике Сапфо женщина ревнует к мужчине свою подругу, любовные чувства ее при этом получают грубо физиологическое выражение, что лишь оттачивает их трагизм. Последняя, неоконченная 17-я строка является началом новой, утраченной строфы, поэтому она иногда не воспроизводится при переводе.
В I в. до н. э. ода Сапфо была переведена на латинский язык Катуллом, перевернувшим любовный треугольник и приведшим его к традиционному. Страсть Катулла адресована возлюбленной, объекту страсти и ревности, выведенной под именем Лесбии, которая получила псевдоним, давший название стихотворному циклу, благодаря оде Сапфо:
Тот с богами, кажется мне, стал равен,
Тот богов превыше, коль то возможно,
Кто сидит напротив тебя и часто
Видит и слышит,
Как смеешься сладко, — а я, несчастный,
Всех лишаюсь чувств оттого, что тотчас,
Лесбия, едва лишь тебя увижу, —
Голос теряю,
Мой язык немеет, по членам беглый
Заструился пламень, в ушах заглохших
Звон стоит и шум, и глаза двойною
Ночью затмились
Праздность, мой Катулл, для тебя зловредна,
Праздности ты рад, от восторга бредишь;
Праздность в прошлом много царей и славных
Градов сгубила.11
Между переводом Катулла и Сапфо есть еще ряд существенных отличий, хорошо описанных в литературе.12 Римский поэт адаптирует треугольник Сапфо к личной жизненной ситуации, выводя его из гомоэротического контекста, а в ревнующем субъекте безальтернативно виден мужчина. Именно его обращение к Лесбии породило целую традицию осмысления Второй оды.
Кроме этого, в России была широко известна французская переделка Буало Ж. Делилем (Jacques Delille, 1738–1813), сделанная им для книги археолога и лингвиста Ж.-Ж. Бартелеми (Jean-Jacques Barthélemy, 1716–1795) «Путешествие младшего Анахарсиса по Греции».13
Первые французские переводчики
Массовое поэтическое внимание ко Второй оде возникло во Франции в Новое время после публикации ученым и издателем А. Этьенном (Henri Etienne, известный также как Henricus Stephanus, 1528–1598) второго издания греческих текстов в 1556 году,14 куда она вошла. Усилиями поэтов «Плеяды», а также некоторых других ода древнегреческой поэтессы прочно встала в ряд базовых текстов не только французской, но и мировой литературы. Часто тексту предпосылалось название «К возлюбленной/любовнице» или «К подруге».
Необходимо отметить, что самая ранняя европейская публикация была осуществлена в Базеле двумя годами ранее Этьенна деятелем итальянского Возрождения Ф. Робортелло (Francesco Robortello, 1516–1567) в составе «Трактата о возвышенном». Первенство публикации Второй оды оспаривал также М. А. Мюре (Marc-Antoine Muret, 1526–1585), который, впервые обособив текст Сапфо из трактата, вставил его в свой комментарий к 51-му фрагменту Катулла, опубликованному всего через несколько недель после издания Робортелло. В 1555 году П. Мануцио (Paolo Manuzio, 1512–1574), с которым Мюре работал с 1554-го над изданием трактата Псевдо-Лонгина, напечатал его в Венеции. Этьенн, готовя свой сборник, видимо, принял во внимание все имеющиеся на тот момент печатные тексты.15 Он мог учитывать и рукописную итальянскую традицию,16 так как бывал несколько раз на территории Италии и собирал рукописи.
В один год с изданием Этьенна появился и первый французский перевод, принадлежащий участнику «Плеяды» Р. Белло (Remy Belleau, ок. 1533–1577), сделанный с латинского перевода, помещенного в этом издании. Современные исследователи не признают художественных достоинств за этим переводом, кроме собственно первенства.17 Белло, по сути, сохраняет гомоэротический треугольник Сапфо. Поэтический голос остается у женщины:
Je suis en chasse à l’horreur, A la peur. Je suis plus palle et blesmie Que n’est la teste flestrie De l’herbe par la chaleur.18 | Я добыча ужаса, Страха Я более вялая и побледневшая, Чем увядшая верхушка Травы из-за зноя. |
Полтора десятка лет спустя, в 1572 году, Белло издает новый перевод, где отходит от гомоэротического треугольника и передает лирический голос мужчине:
Je frémis tremblant, le frisson me saisist, Palle je blesmis comme l’herbe des champs, Sans chaleur, sans poux, d’amoureuse langueur Presque je transis.19 | Я трясусь, дрожащий, трепет охватывает меня, Вялый, я бледнею, как полевая трава, Без жара, без мурашек от любовной истомы Я почти леденею. |
Таким образом, поэт заложил две различные традиции перевода Второй оды, два разных типа любовного треугольника.
К более позднему времени относятся три переложения Второй оды, сделанные другим «плеядовцем» — Ж. А. Баифом (Jean-Antoine de Baïf, 1532–1589).20 В одном из них очевидно влияние катулловского текста, так как перевод включает мораль, внутренний авторский голос — парафраз последней строфы Катулла. У Катулла — это обращение к себе самому, у Баифа — к Сапфо. Голос внушает ей, что ее страсть, в данном случае гомоэротическая, разрушительна:
L’aise t’ennuie trop, délicate Sappho, Удовольствие слишком досаждает тебе, нежная Сапфо,
L’aise trop te plaît, tu t’y baignes par trop, Удовольствие слишком нравится тебе, ты утопаешь в нем,
L’aise les grands rois et cités détruira. Удовольствие великих королей и города истребит.
L’aise te perdra.21 Удовольствие тебя погубит.
Вообще, такое «слияние» текстов Сапфо и Катулла имело место довольно часто, что позволило исследователям даже говорить о «двойном облике источника» (double visage d’origine).22 Баиф «испытывает нужду дополнить свою версию версией Катулла, более мужским голосом, более резким и, скажем, более моральным».23
В другом переложении Баиф, присваивая лирический голос себе самому, прямо обращается к своей любовнице:
Car sitost que je te voy, Ma maistresse, devant moy Parler, œillader ou rire, Le tout si très doucement, Pasmé d’esbahissement Je ne sçay que je doy dire.24 | Потому что, как только я вижу тебя, Моя госпожа, передо мной Говорящую, строящую глазки или смеющуюся, Все так нежно, Замирающий от изумления, Я не знаю, что я должен сказать. |
Используя Баифа и Белло, мотивы Второй оды ввел в несколько своих стихотворений Ронсар (Pierre de Ronsard, 1524–1585).25 Однако он заимствует действительно только мотивы, вообще отказываясь от треугольника и пользуясь образами Сапфо для изображения любовного переживания в паре. Наиболее близка к тексту гречанки ронсаровская «Песенка» («Chanson»), являющаяся парафразом оды «К возлюбленной». Она начинается следующими словами:
Je suis un Demidieu quand assis vis-a-vis De toy, mon cher souci, j’escoute les devis, Devis entrerompus d’un gracieux sourire, Souris qui me detient le cœur emprisonné…26 | Я полубог, когда сажусь Напротив тебя, мое дорогое беспокойство, я слушаю желания, Желания, прерываемые ласковой улыбкой, Улыбкой, которая держит мое сердце в плену… |
Сохраняет классический сапфический треугольник знаток древних языков Ж. Амио (Jacques Amyot, 1513–1593):
Puis d’un tremblement conquassée Je demeure pasle effacee, Plus que l’herbe jaulne passee. Finablement Je me treuve en ce troublement A demy morte, ensemblement Aiant perdu tout mouvement, Pouls et halene.27 | Затем, охваченная дрожью, Я остаюсь бледная, бесцветная, Более, чем желтая, вылинявшая трава. Наконец Я нахожусь в этом волнении Полумертвая, сразу Полностью потерявшая движение, Пульс и дыхание. |
Его перевод, по мнению исследователей, не слишком удачен, но интересен как свидетельство того, что Амио — переводчик прозаических текстов, стремящийся соперничать с поэтами своего времени, за творчеством которых пристально следил, — испытывал постоянное «искушение поэзией».28
Эпоха Возрождения только начинала осмыслять оду «К возлюбленной», по-разному переворачивая треугольник желания, начерченный греческой поэтессой. При этом, помимо оригинального греческого текста, значительное влияние имел и латинский перевод, сделанный Катуллом, и личное осмысление текста авторами.
Считавшийся лучшим многие десятилетия французский перевод был сделан уже в эпоху Людовика XIV. Никола Буало переложил оду Сапфо в составе «Трактата о возвышенном», опубликованном в 1674 году. Естественно, «Ода к возлюбленной» сохранила гомоэротический любовный треугольник:
Heureux! qui près de toi pour toi seule soupire: Qui joüit du plaisir de t’entendre parler: Qui te voit quelquefois doucement lui sourire. Les Dieux dans son bonheur peuvent-ils l’égaler? <…> Un nuage confus se répand sur ma vue, Je n’entends plus; je tombe en de douces langueurs, Et, pâle, sans haleine, interdite, éperdue, Un frisson me saisit, je tremble, je me meurs.29 | Счастлив, кто рядом с тобой для тебя вздыхает, Кто наслаждается удовольствием слушать твой разговор; Кому порой ты ласково улыбаешься, Боги могут ли быть ему равными в своем счастье? <…> Туманное облако застилает мой взор; Я не слышу более, я падаю в сладостную истому, И, бледная, без дыхания, скованная, растерянная, Дрожь охватывает меня, я трепещу, я умираю. |
Причина, по которой Буало, «законодатель и теоретик классицизма», не приемлющий право женщин заниматься литературой, женоненавистник, «вынужден был отступить от своих рационалистических принципов построения поэтических жанров»,30 переведя «едва ли не самое иррациональное произведение малых поэтических форм», видимо, объясняется попыткой некоей поэтической дискредитации Сапфо и установки определенного взгляда на ее творчество. Действительно, он изобразил Десятую музу иначе, нежели она выглядела в тексте, сохраненном Псевдо-Лонгином. Экспрессия Сапфо превращена из страха, вдохновленного силой любви, в женское безумие. Перевод Буало, «мягкий и плоский», является попыткой ослабить воздействие поэмы.31 Так или иначе, но сапфический треугольник Буало сохранил.
Сапфо, Овидий, Расин
К началу XVIII века в сапфическую традицию Франции входит и другая парадигма: любовный треугольник Сапфо начинает сдвигаться в соответствии с переданной Овидием в XV Героиде позднеантичной легендой о самоубийстве Сапфо из-за любви к прекрасному юноше Фаону.32 Отголоском этой легенды стал сюжет «Федры» Расина, где монолог героини представляет собой переложение Второй оды Сапфо.
Федра
Давно уже больна ужасным я недугом.
Давно... Едва лишь стал Тесей моим супругом
И жизнь открылась мне, исполненная благ,
В Афинах предо мной предстал мой гордый враг.
Я, глядя на него, краснела и бледнела,
То пламень, то озноб мое терзали тело,
Покинули меня и зрение и слух,
В смятенье тягостном затрепетал мой дух.
Узнала тотчас я зловещий жар, разлитый
В моей крови, — огонь всевластной Афродиты.33
Можно также провести параллели между Фаоном (дублетом мифического Фаэтона) и Ипполитом, погибшими сходным образом, упав с колесницы. Профессор Пенсильванского университета Дж. Дежан пишет: «Если судьбу героини Расина сопоставить с судьбой Сапфо Овидия, то обе эти мужские фантазии о женском желании могут рассматриваться как попытки продемонстрировать угрожающую силу этого желания». Исследовательница показывает пути дискредитации Сапфо и как женщины, отказавшейся от любовного чувства к женщине ради мужчины, т. е. подчинившейся традиции мира мужчин, и как поэтессы, потерявшей свой поэтический голос, впавшей в безумие и затем совершившей самоубийство. Признание превосходства традиционного искусства любви, предлагаемого Овидием, над тем, которое она сама раньше проповедовала, привело ее к публичному унижению: по содержанию XV Героиды, Сапфо в порыве безумия прилюдно рвет на себе одежду и обнажает грудь:34
Вместе стыд и любовь не ходят; с грудью наружу,
В порванном платье — такой люди видали меня.35
«В пятнадцатом послании Овидий изображает то, что можно было бы рассматривать как решение проблемы сапфизма: девиантная женская сексуальность была приручена, а женские узы, которые часто представлялись источником вдохновения для сапфического поэтического творчества, были уничтожены <…> Его героиня поняла, что один мужчина предпочтительнее множества женщин, женской общности, которую Сапфо воспевает в своих стихах», — утверждает Дежан, анализируя XV Героиду.36
Героида Овидия и «Федра» Расина — осмысление миром мужчин с Античности до Нового времени поэзии Сапфо и, в частности, оды «К возлюбленной».
Традиция, идущая от Овидия и воплощенная в образе Фаона, прочно закрепилась во Франции. Первым, кто ее воплотил (не считая аллюзии Расина в «Федре»), был Ф. Гакон (François Gacon, 1667–1725), начавший свой опубликованный в 1712 году перевод обращением к «дорогому Фаону»:
Heureuse, cher Phaon, la Beauté jeune et tendre Sur qui tu fais tomber l’eclat de tes beaux yeux! | Счастлива, дорогой Фаон, красавица, юная и нежная, На которую ты роняешь отблеск твоих прекрасных глаз! |
Затем, уже в XIX веке, к этой теме в различных жанрах и родах литературы обращались многие французские поэты и драматурги,38 причем физиологическое описание чувств, переданных во Второй оде, вкладывалось в уста как Сапфо, так и Фаона.
Русская Сапфо: трансформации Второй оды
Е. В. Свиясов, рассматривая творчество Сапфо в целом, конечно, не мог не описывать гендерных трансформаций Второй оды. Однако задача его была гораздо более широкой — показать осмысление в России феномена Сапфо, ее биографии, ее текстов, среди которых послание «К возлюбленной» было хотя и одним из центральных, но все же не единственным. Поэтому интересным представляется проследить историю трансформации именно этого текста.
К моменту проникновения оды в Россию, в Европе (прежде всего, во Франции) сложилась уже весьма солидная традиция ее бытования, было сделано почти два десятка переводов. В то же время в России было, как уже говорилось, всего два основных источника перевода: французский перевод-посредник Буало и непосредственно греческий текст Сапфо. Французская традиция структурирована и многослойна, российская — сумбурна. Те изменения представлений о Сапфо, которые на Западе были следствием поступательного осмысления «неудобной» сексуальности гречаники, в России объяснялись ускоренным освоением западных веяний.
Далее будет предпринята попытка систематизировать гендерные трансформации треугольника оды «К возлюбленной» и их типизации.
Первый перевод на русский язык этого текста Сапфо был сделан А. П. Сумароковым и в 1755 году опубликован в академическом журнале «Ежемесячные сочинения».39 Источником для Сумарокова послужил французский перевод Буало:
Благополучен тот, кто всякий день с тобою,
Всяк час твой слышит глас, твой зря приятный смех;
Каких еще желать на свете сем утех,
Имея завсегда тебя перед собою?
<…>
По телу моему холодный пот лиется:
Бледнею и дрожу, не слышу ничево,
Почти лишаюся я чувствия всево,
И мнится, что в тот час дух с телом расстается.
Сумароков размывает структуру эротического треугольника, отказываясь в последней строфе от эпитетов авторского голоса, присутствующих у Буало, как и от определения пола объекта страсти и ревности.
Однако если предположить, что этот объект все же женщина («приятный смех» — скорее атрибут женский), то авторский голос, он же вершина треугольника, не определен. Возможно, Сумароков, чьи произведения иногда написаны от лица женщины, использовал феминистичность авторского голоса и в данном случае, хотя и неакцентированно.
Через четыре года в журнале того же Сумарокова «Трудолюбивая пчела» появился прозаический перевод оды, принадлежащий Г. В. Козицкому. Здесь треугольник Сапфо сохранен весьма определенно. Тексту дано заглавие, которое подчеркивает пол объекта послания: «На девицу». Авторский голос также женский: «…Как увидела я тебя, гортан мой иссох и голос весь пресекся, язык мой сокрушился, и самый тончайший огнь тот час рассыпался по всему телу: глазами ничего не вижу, и уши мои шумом полны: лиется хладный пот и дрожь всю меня пронимает: бледнее я злака, и немного разнствуя от мертвой, лежу без дыхания».40
Козицкий не трансформирует «треугольник желания», сохраняя его таким, каким он был создан Сапфо.
Еще через десять с небольшим лет на страницах рукописного журнала кружка «Разумных общинников» появилось новое переложение Второй оды, осуществленное членом кружка Н. П. Осиповым. Здесь впервые в русской переводческой традиции авторский голос акцентированно отдается мужчине:
Счастлив, кто близ тебя и для тебя вздыхает,
И слышит с радостью, что хочешь говорить,
Улыбки все твои приятны примечает.
С тем счастьем и богов никак нельзя сравнить.
<…>
Смешенным облаком мой взор теперь покрылся
Не внемлю ничего: пал в сладкую тоску,
Нечувственен стал уж я, и весь переменился,
Дрожу и падаю, и в гроб себя влеку.41
Треугольник выглядит следующим образом:
Собственно, это классический гетеросексуальный любовный треугольник, сцена ревности, описанная Катуллом, который впервые и совершил подобный переворот. Возможно, Осипов знал текст Катулла, но стоит отметить в то же время, что, несмотря на некоторое влияние произведений веронца на творчество Стефана Яворского, Феофана Прокоповича и А. Д. Кантемира,42 в целом почти до конца XVIII века древнеримский поэт в России был известен довольно плохо.43 В данном случае налицо традиционализация чувства и трансформация ревнующего субъекта, с которым отождествляется лирический герой, в мужчину.
Итак, уже в первые пару десятков лет бытования Второй оды Сапфо в русских переводах явно просматриваются три модели ее переосмысления.
Первая модель — синтаксическая нейтральность авторского голоса, традиция, в русской литературе идущая от Сумарокова. Таковы переводы Н. А. Львова (1778), М. Н. Муравьева (1778), Н. Ф. Эмина (1793), С. Н. Марина (1800-е), П. И. Голенищева-Кутузова (1805), Н. И. Бутырского (1806), В. Г. Анастасевича (1806), И. А. Тейльса (1806, восходит к французской переделке Буало Делилем), К. Ф. Рылеева (1818–1820). Большинство этих переводов было сделано с текста Буало, при этом гендер авторского голоса, существующий у Буало, нивелировался, но лишь синтаксически. Семантически он зачастую обусловлен личными любовными переживаниями автора. Как показал Свиясов, с глубоко личными мотивами интерес ко Второй оде был связан у Львова (роман с М. Дьяковой), Марина (любовная история с В. Н. Завадовской), Рылеева (женитьба на Н. М. Тевяшевой).44 Что касается Сумарокова, то, как было сказано выше, его изменение Второй оды было скорее очередной гендерной мистификацией, которую он не раз практиковал.
Вторая модель объединяет переводы, сохраняющие треугольник Сапфо. В XVIII — начале XIX века это переводы собственно с греческого подлинника. При этом на деле могли привлекаться французские переводы-посредники, но сам автор позиционировал их как перевод с греческого.45
Текст Сапфо в этом случае воспринимался как некая цельная структура, не подлежащая изменению, по крайней мере в плане эротического треугольника. Первый такой перевод, как уже говорилось, был осуществлен в прозе Козицким. Затем последовал стихотворный перевод И. И. Виноградова, впервые напечатанный в журнале «Растущий виноград» (1786) и вошедший с некоторыми незначительными изменениями в изданный им в 1792 году сборник «Стихотворения Сафы, лесбийской стихотворицы».
Текст Виноградова позволяет однозначно определить пол участников треугольника и их место в нем:
Богов тот счастьем превышает,
Сидит который пред тобой,
И гласу сладостно внимает,
Вкушая смех прелестный твой.
<…>
Язык совсем онемевает —
Всю пожирает огнь меня,
От глаз моих свет исчезает —
В ушах лишь чувствую шум я.
По телу хладный пот лиется,
Я содрогаюсь, трепещу,
Бледнею вся… Дыханье рвется
И кажется, умреть хощу.46
Интересно, что в предисловии к этому изданию переводчик, излагая апокрифическую биографию своей героини, пересказывает овидиевский сюжет о любви Сапфо и Фаона, без упоминания о гомоэротической страсти Сапфо, с чем переведенный им текст Второй оды резко контрастирует. В переводе Виноградова она выглядит некой неизменной структурой, как будто автор не прочитывает ее смысл. При этом она имеет недвусмысленный заголовок «К девице» (как у Козицкого «На девицу»).
Спустя десяток лет после выхода сборника Виноградова известный знаток античных древностей и переводчик И. И. Мартынов выпустил первый перевод на русский язык трактата Псевдо-Лонгина «О возвышенном». Им была переведена и ода «К возлюбленной» как составная часть трактата, естественно, с сохранением треугольника Сапфо. У Мартынова, как и у Виноградова, характеристикой объекта страсти является «прелестный смех» (у Сумарокова — «приятный смех»), интуитивно определяя женщину:
Тот сходен, кажется, с богами,
Сидит кто, тая пред тобой
И восхищаяся словами
Прелестный смех внимает твой.
<…>
Холодным потом обливаясь,
Бледнею, трепещу я вся…
И как бы с жизнью расставаясь
Кажуся бездыханна я.47
Известен еще один перевод с греческого другого знатока античных языков А. Ф. Мерзлякова, опубликованный еще через двадцать с лишним лет после Мартынова. Мерзляков не только сохраняет сапфический треугольник, но и очень четко подчеркивает пол каждого персонажа оды:48
Равный бессмертным кажется оный
Муж, пред твоими, дева, очами
Млеющий, близкий, черплющий слухом
Сладкие речи, —
<…>
В поте холодном трепет; ланиты
Былий, иссохших зноем, бледнее;
Кажется, смертью, таю, объята;
Я бездыханна!..49
Ко второй половине XIX века в русской литературе накопилось достаточно материала о Сапфо как в виде переводов ее текстов, в том числе и с греческого подлинника, так и в виде апокрифических биографий, поэтому точно определить источник перевода становится довольно сложно, к тому же он мог быть вовсе не единственным.
В 1857 году В. И. Водовозов опубликовал в журнале «Современник» большую статью под названием «Анакреон», где затронул, естественно, поэзию Сапфо и, в частности, ее Вторую оду, которую и перевел прозой с греческого текста. Водовозов был не только талантливым филологом, но и блестящим педагогом, отдавшим многие годы устройству женского образования в России. Возможно, интерес к творчеству древнегреческой поэтессы, которая в европейской традиции, идущей еще от Катулла (сравнивает ученость Сапфо и своего друга поэта Цецилия: Catull. 35, 16–17) и Горация (упоминает музу Сапфо, подражающую Архилоху: Hor. Epist. I 19, 28), считалась эталоном женской учености, был вызван именно профессиональной деятельностью педагога.
В условиях уже появившегося к этому времени в России профессионального антиковедения биография и творчество Сапфо становятся объектом изучения, а не только переосмысления. То, что Козицким, Мартыновым и Мерзляковым нащупывалось интуитивно, у Водовозова получает полное выражение. Он рассуждает, например, о бисексуальности Анакреона, его привязанности к Вафиллу, а также сравнивает его игривую любовь с трагической страстью Сапфо.50 Хотя в самом тексте субъект и объект ревности гендерно не верифицированы. Определяется только пол того, кто «подобится богам», — это мужчина.51
Третья модель приближается к первой с той лишь разницей, что здесь авторский голос однозначно отдается мужчине, как в вышеупомянутом переводе Осипова. Этого типа переводы были сделаны Г. А. Хованским (1795) и Е. П. Люценко (1796). В таком вполне гетеросексуальном треугольнике мужчина ревнует свою возлюбленную к другому мужчине. Здесь еще более отчетливо подчеркивается интимный характер перевода. К этой же категории, очевидно, стоит отнести и переведенную Пушкиным первую строфу «Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный», которая не поддается точной датировке, однако, несомненно, вписывается в общую канву стихотворных набросков любовной лирики 1817–1820 годов52 и посвящена, возможно, Е. А. Карамзиной.53
Четвертая модель связана с бытованием в России идущей от Овидия апокрифической легенды о любви Сапфо к прекрасному юноше Фаону. Первый русский перевод Второй оды, в котором появляется имя Фаона, был осуществлен П. М. Карабановым, переводчиком французских классиков и будущим членом «Беседы любителей русского слова». Он был опубликован в 1792 году в крыловском «Зрителе» и обозначен как «перевод с французского». Источник здесь, очевидно, все тот же Буало.54
Читая текст, можно подумать, что перед нами обычный гомоэротический треугольник Сапфо, где авторский женский голос ревнует свою подругу, перед «небесными красами» которой невозможно быть «спокойной», к некоему мужчине, который «твой сладчайший внемлет глас» и «равен в счастии с богами». Однако заглавие, данное Карабановым своему переводу — «Выражение любви стихотворицы Сапфо к Фаону» — путает все карты. Получается, что адресат стихотворения, собственно, Фаон. Рядом с ним находится «равный в счастии с богами», т. е. тоже мужчина. Конструкция как будто гомоэротическая, только уже гомоэротическая мужская.55
Однако если убрать из тандема, находящегося в основании треугольника, грубо сексуальную составляющую, формируется достаточно тривиальная ситуация, когда в мужском сообществе появляется женщина, пытающаяся завоевать сердце одного из членов этого сообщества. То есть героиня-женщина, авторский голос, ревнует любимого мужчину к некоему мужскому сообществу. Причем ревность эта может возникнуть еще до близкого знакомства с мужчиной, олицетворяемым Фаоном.
Именно такая ситуация прочитывается в книге К. Саси (Claude Louis Michel de Sacy, 1746–1794) «Les amours de Sapho et de Phaon», вышедшей в Амстердаме в 1769 году (переизд. 1775). Ее русское издание увидело свет в 1780-м под названием «Любовь Сафои и Фаона», без указания авторства.
По содержанию книги, Сапфо (она названа Сафоей) вначале видит картину с изображением Фаона: «…под тению младых сплетенных лип изображен был пастух с лирою в руках, которою, казалося, увеселял он слух своих сотоварищей…». Затем она слышит рассказ о нем «почтенного старика», случайного собеседника, и испытывает при этом чувства, при описании которых автором книги явно использовались реминисценции Второй оды: «Во время сих речей чувствы Сафоины объяты были некоторым восхищением, уши ее с неизреченною приятностию внимали речам старцовым, очи ее, на картину устремленные, не могли зрением своим насытиться. „Счастлива будет, — говорила она, — счастлива будет та пастушка, которая влияет в душу сего пастуха приятной пламень чистой и непорочной любви!“». Старец же рассказывает Сапфо, что юноша на картине достоин «разделять с самими богами почитание». Он сообщает также о Фаоне: «Музы избрали себе жилище в приятном его уединении, они наградили его высоким знанием стихотворения и сами управляют пером его; он при первом стремлении своего разума сочинениями своими удивил наиславнейших наших стихотворцов <…> Сотоварищи его слушают его с жадностию; он их царь и они почти за бога его почитают…». Чтобы понравиться Фаону, Сапфо переодевается в юношу-пастуха, потому что Фаон «к прелестному полу <…> хранит <…> вечную ненависть».56 В конце концов, она добивается его приязни и лишь затем открывается ему. Последующие события укладываются в овидиевскую легенду о самоубийстве Сапфо из-за измены Фаона, хотя и приправлены многочисленными дополнительными сюжетными перипетиями.
Фаон, таким образом, является лидером некоего мужского сообщества, не допускающего внутрь себя женщин. В античности подобные сообщества — андреоны (андрии), также гетерии, фидитии, сисситии, изначально часто связанные с общественным приемом пищи — создавались с целью образования и воспитания юношей.57 При этом одним из элементов взросления, инициации во взрослую жизнь, была гомоэротическая связь со своим учителем, обладающим непререкаемым авторитетом и всевозможными нравственными добродетелями, эстетическими, военными, гражданскими. Сообщество это было принципиально закрытым, культивирующим особый тип отношений между старшими и младшими, мужчинами и юношами. Историк античности А. И. Марру замечает: «Создание замкнутой мужской среды, недоступной для другого пола, имеет педагогическое значение и словно бы вдохновлено педагогическими целями: так выражается преувеличенная здесь до абсурда и безумия, но глубоко присущая мужчинам потребность возможно полнее реализовать задатки, свойственные их полу, стать мужчинами в наивысшей возможной степени. Сущность педерастии — не в извращенных сексуальных отношениях <...> Это прежде всего определенный эмоциональный и душевный настрой, женоненавистнический идеал совершенной мужественности».58 Замечу в скобках, что историки античности описывают также и подобные женские общества (фиасы, тиасы), называя при этом в первую очередь имя Сапфо и ее «обитель муз».59
Книга Саси, конечно, была хорошо известна в литературных кругах Петербурга, и ее связь с моделью гендерной игры, представленной Карабановым, кажется очевидной.
В рамки этой же модели вполне вписывается перевод Жуковского. Работая над ним, поэт в первом варианте следует традиции гетероэротической модели:
Счастлив, кто близ тебя одной тобой пылает,
Кто сладостью твоих речей одушевлен,
Кого твой ищет взор, улыбка ободряет,
С богами он сравнен!
<…>
Лежу у милых ног, горю огнем желанья,
Блаженством страстного волненья утомлен,
Лью слезы, трепещу без сил и без дыханья,
И с жизнью разлучен!60
Однако затем появляется второй вариант (в нашем случае это — третья модель), вводящий в ткань перевода образ Фаона. Измененный текст, собственно, и был озаглавлен «Ода Сафы к Фаону». От заглавия Жуковский по каким-то причинам впоследствии отказался, назвав свой перевод просто «Сафина ода»:
Блажен, кто близ тебя одним тобой пылает,
Кто прелестью твоих речей обворожен,
Кого твой ищет взор, улыбка восхищает, —
С богами он сравнен!
<…>
Лежу у милых ног, — горю огнем желанья!
Блаженством страстныя тоски утомлена!
В слезах, вся трепещу, без силы, без дыханья!
И жизни лишена!61
По мнению Н. Реморовой, Жуковский мог встретить имя Фаона в опубликованной в альманахе «Аглая» повести Н. М. Карамзина «Афинская жизнь»,62 включающей основанную на овидиевской традиции песню Сапфо. Укажем в скобках, что этот текст также содержит реминисценции Второй оды.
Однако гораздо вероятнее в данном случае другой источник. В библиотеке Жуковского имелся немецкий перевод «Героид» Овидия,63 также у него в руках мог быть и крыловский «Зритель» с переводом Карабанова и книга Саси.
К этой же традиции следует отнести кантату «Сапфо»,64 принадлежащую перу П. А. Катенина, в состав которой вошли оба известные на тот момент фрагмента Сапфо — «Гимн Афродите» и «Ода к возлюбленной». По содержанию кантаты Сапфо вначале испытывает неопределенное и неперсонифицированное чувство любви («…знойное лето настало / И сердце любви пожелало»). Затем она просит Афродиту помочь ей распознать это странное чувство и удовлетворить его («Чем я скорблю — вопрошала и для чего в горести / С неба зову, / Что есть желанье мое, и чего, исступленная, / В помощь ищу для души, и о чем умоляю, / В сетях любви истомившаясь…»). И лишь затем она видит Фаона на пиру, устроенном в ее доме (здесь незримо присутствуют боги, в том числе Афродита), и влюбляется в него. Вторая ода Сапфо по содержанию кантаты оказывается первым признанием Сапфо Фаону:
Как он блажен, равен богам,
Тот, кто сидит против тебя,
Слышит вблизи звуки речей,
Видит улыбку!
<…>
Выступит пот хладный в лице,
Трепет меня всю проберет;
Блекну, как злак; близится смерть,
Дух замирает.
Затем она удовлетворяет свою страсть: «Певица ожила в объятиях Фаона / И счастие вкусила с ним». Далее события развиваются согласно XV Героиде Овидия. Возможно, на Катенина при создании кантаты оказала влияние книга Саси, по сюжету которой Сапфо испытала любовь к Фаону раньше, чем увидела его.
Травестийному осмыслению легенда о любви Сапфо и Фаона подверглась в шуточной речи С. С. Уварова («Речь члена Старушки»), произнесенной им при вступлении в литературное общество «Арзамас». Здесь в одном из семантических пластов изображены сексуализированно творческие отношения Сапфо, Певицы, Девы (А. П. Буниной), Фаона, «старого деда» (А. С. Шишкова) и Батилла (А. А. Ширинского-Шихматова). Отношения эти подчеркнуто не позиционированы как любовный треугольник: «Седой дед, обнимая одною рукою пламенеющую деву, другою играл власами поющего отрока. Счастливый Фаон вкушал все наслаждения утонченной роскоши. Дева и отрок наперерыв старались угождать всем прихотям его литературного сладострастия. Они между собою не знали ревности».65 «Речь члена Старушки» была прекрасно откомментирована А. О. Проскуриным.66 При этом гомоэротические отношения («Старец втайне предавался греческой любви!») Фаона и Батилла (Шишкова и Ширинского-Шихматова), изображенные Уваровым в том же ключе, что отношения Шишков — Бунина, хотя и гораздо более кратко, не получили отражения в комментарии. Однако, пользуясь предыдущими рассуждениями, можно осторожно наметить некоторые дополнительные смысловые оттенки уваровского текста — в частности, соотнесение шишковской «Беседы любителей русского слова» с древнегреческим мужским союзом (женщины в «Беседе» были не действительными, а лишь почетными членами) и пародирование творческих связей беседовцев с помощью эротизации, как это сделано в случае описания отношений Шишкова и Буниной.
Державин и Вторая ода
Отдельно нужно сказать о переводах Второй оды, выполненных Г. Р. Державиным. Им было сделано два перевода (как с Буало, так и с подстрочника, переведенного с древнегреческого). Их текстология и строфика достаточно хорошо изучены.67 Несмотря на то, что в большинстве редакций первого перевода (с подстрочника) авторский голос не определен,68 во всех редакциях второго (с Буало) он отдан женщине.69 Можно говорить о том, что в поэтическом сознании Державина любовный треугольник Второй оды всегда оставался гомоэротическим.
Хотя переводы Сапфо и послужили для Державина отзвуком собственных чувств (как это уже не раз было у русских писателей при переводе Второй оды), однако простое заимствование описаний любовного переживания у гречанки для передачи собственных переживаний оказывается для Державина неприемлемым. И это объяснимо: интерес к античной поэзии появляется у него уже в начале творческого пути, «дух Анакреона витал в поэзии Державина еще в 70-е годы».70 Анализ многочисленных редакций и вариантов Второй оды показывает, что Державин выступает в них, действительно, как поэт-переводчик, тщательно оттачивающий свое мастерство. В этом смысле очень показательны два другие стихотворения Державина: «Невесте» и «Сафе».
Первое из них Державин посвятил своей помолвке с первой женой. Оно имело заключительную строфу, сохранившуюся в рукописи и не попавшую в публикацию. Строфа эта представляла собой не что иное, как переложение последней строфы Второй оды:
О сладостный восторг! Как изъяснить? не знаю
[То хлад по мне бежит], то весь горю в огне.
Пленира! — [склабишь взор], [даешь] ты руку мне.
Счастливый смертный я! . . лобзаю! . . обмираю…71
Таким образом, когда Державин хотел использовать Сапфо для описания своих чувств, он не позиционировал эти стихи, как переводы Сапфо, а использовал реминисценции. К тому же в печатный текст эта строфа не попала, но более слабые аллюзии в стихотворении все равно остались:
Как счастлив смертный, кто с тобой проводит время!
Счастливее того, кто нравится тебе.
В благополучии кого сравню себе,
Когда златых оков твоих несть буду бремя?72
Стихотворение «Сафе», опубликованное как в «Аонидах», так и в сборнике «Анакреонтические песни» сразу вслед за первым переводом Второй оды, начинается описанием классического сапфического треугольника с точки зрения стороннего наблюдателя:
Когда брала ты арфу в руки
Воспеть твоей подруги страсть…
Наблюдатель-автор поражен талантом Сапфо:
Смерть бледный хлад распространяла,
Я умирал игрой твоей.
Но сам он может ассоциировать себя лишь с Фаоном, не примеряя страсть Сапфо на себя:
О! если бы я был Фаоном
И пламень твой мою б жег кровь, —
Твоим бы страстным, пылким тоном
Я описал свою любовь.
Тогда с моей всесильной лиры
Зефир и гром бы мог лететь:
Как ты свою, так я Плениры
Изобразил бы жизнь и смерть.73
Смерть первой жены, несомненно, вдохновила это стихотворение, однако и здесь Державин не решается напрямую излагать свои чувства словами Сапфо. Ему нужен сторонний опосредующий субъект, которым становится Фаон. Кроме этого, языком Сапфо поэт собирается описывать не столько себя, сколько свою умершую жену (Плениру). Длительное время проявлявший интерес к античной поэзии, Державин, называемый современниками русским Анакреонтом, Горацием, Пиндаром, а также Алкеем и Вергилием,74 по-видимому, просто не считал возможным полностью переводить на себя описание чувств, изначально сделанное женщиной.
Сапфо, Майков и Давид
Завершая обзор, обратимся к еще одному переводу. Он интересен тем, что не похож на другие. Это перевод А. Н. Майкова (1875):
Он — юный полубог, и он — у ног твоих!..
Ты — с лирой у колен — поешь ему свой стих,
Он замер, слушая, — лишь жадными очами
Следит за легкими перстами
На струнах золотых...
А я?.. Я тут же! тут! Смотрю, слежу за вами —
Кровь к сердцу прилила — нет сил,
Дыханья нет! Я чувствую, теряю
Сознанье, голос... Мрак глаза мои затмил —
Темно!.. Я падаю... Я умираю...75
Авторский голос не принадлежит Сапфо. Она объективируется, находясь рядом со своим возлюбленным, именно на нее направлена авторская страсть. Это стихотворение смотрится как легкая игрушка, даже шутка. Уже само трансформирование чувств, испытываемых Сапфо, в чувства, Сапфо вызванные, несколько травестирует ситуацию. Имя Фаона не называется, но этот персонаж подразумевается, представляется, что именно ему принадлежит авторский голос (Державин, как было показано выше, также намекает на подобную трансформацию). В майковском цикле «Подражания Сапфо» есть стихотворение «Зачем венком из листьев лавра» (1841), представляющее собой, видимо, некое переосмысление XV Героиды Овидия. Оно имело в черновике не вошедшее в итоге в публикацию название «Фаону».76 Майков, безусловно, поддерживал овидиевскую традицию восприятия греческой поэтессы, поэтому видеть за голосом автора Фаона вполне логично.
При внимательном прочтении майковский текст приобретает вполне конкретные очертания, как будто помимо Второй оды в основе его находится еще какой-то, возможно невербальный, источник.
Майков, сын академика живописи, в юности мучительно выбиравший между поприщем художника и литератора, впоследствии сравнивал поэзию с живописью, отмечая, что и в том и в другом случае «самое важное — это найти надлежащий тон».77 Осторожно предположу, что искомый источник — картина Жака Луи Давида (Jacques-Louis David, 1748–1825) «Сапфо и Фаон». Она была заказана художнику для своей коллекции знаменитым дипломатом и меценатом Н. Б. Юсуповым (1750–1831). В период, когда ее мог видеть Майков, картина находилась в Юсуповском дворце на набережной реки Мойки в Петербурге, где Б. Н. Юсуповым (1794–1849), сыном основателя коллекции, была организована картинная галерея.78 Отец Майкова, Николай Аполлонович, очевидно, был хорошо знаком с семьей Б. Н. Юсупова, во всяком случае, известно, что одной из лучших работ Майкова-старшего являются плафоны в особняке на Литейном проспекте, принадлежащем вдове князя, Зинаиде Ивановне, урожденной Нарышкиной (1809–1893).79 На картине мы видим и лиру у колен Сапфо, и «юного полубога» Амура у ее ног, в которого трансформировался некто, кто «блажен» и «равен богам», и Фаона, которому принадлежит авторский голос.
Гендерные трансформации стали характерным атрибутом переводов и переложений Второй оды Сапфо еще во Франции. В России процессы происходили не так последовательно, зачастую весьма эклектично. В данной статье сделана попытка построить некоторую типологию вариантов перевода и прочитать причины выбора автором того или другого из них.
Поэтическое выражение любви и ревности, однажды описанное знаменитой гречанкой, заставляло поэтов, писателей и ученых возвращаться к этому вечному тексту, имеющему почти магическую притягательную силу, осмыслять его, создавая новые образы и отражая себя в собственном произведении.
1 Свиясов Е. В. Сафо и русская любовная поэзия XVIII — начала XX веков. СПб., 2003. С. 14.
2 Гаспаров М. Л. Видится мне, равен богам // Катулл Г. В. Книга стихотворений / Изд. подг. С. В. Шервинский, М. Л. Гаспаров. М., 1986. С. 239 (сер. «Литературные памятники»).
3 [Boileau-Despréaux N]. Œuvres diverses du sieur D***, avec le Traité du sublime ou du merveilleux dans le discours / Trad. du Grec de Longin. Paris, 1674. P. 26 (pagin. II).
4 Свиясов Е. В. Сафо и русская любовная поэзия… С. 24–25.
5 Most G. W. Reflecting Sappho // Bulletin of the Institute of Classical Studies. 1995. Vol. 40. Iss. 1. Р. 27. Здесь и далее перевод с английского и французского наш. — А. Г.
6 Lardinois A. Lesbian Sappho and Sappho of Lesbos // From Sappho to De Sade: Moments in the History of Sexuality. London, 1989. P. 15–34.
7 Lardinois A. Lesbian Sappho revisited // Myths, Martyrs, and Modernity: Studies in the History of Religions in Honour of J. N. Bremmer. Leiden; Boston, 2010. P. 14 (Studies in the History of Religions; vol. 127).
8 Lardinois A. 1) Lesbian Sappho and Sappho of Lesbos. P. 22–24; 2) Lesbian Sappho revisited. P. 23.
9 Lardinois A. Lesbian Sappho revisited. P. 29.
10 Толстой И. И. Сапфо и тематика ее песен // Толстой И. И. Статьи о фольклоре. М.; Л., 1966. С. 129.
11 Катулл Г. В. Книга стихотворений. С. 31 (пер. С. В. Шервинского). Впервые текст Катулла был издан в Венеции в 1472 году.
12 Пояркова А. А. Переводческий метод Катулла на примере сравнительного анализа фрагмента 31 Сапфо и стихотворения 51 Катулла // Вестник МГЛУ. 2013. Вып. 5 (665). С. 139–149; Wills G. Sappho 31 and Catullus 51 // Greek, Roman, and Byzantine studies. 1967. Vol 8. № 3. P. 167–197.
13 Barthélemy J.-J. Voyage du jeune Anacharsis en Grèce dans le milieu du quatrième siècle avant l’ère vulgaire: En 4 vol. Paris, 1788. T. 1. P. 291.
14 Anakreontos, kai allōn tinōn lyrikōn poiētōn Melē: Anacreontis et aliorum lyricorum aliquot poetarum odae / In easdem Henr. Stephani observationes, eaedem latinae. Parisiis, 1556. P. 69; Об источниках текста Этьенна см.: Morrison М. Henri Estienne and Sappho // Bibliothéque d’Humanisme et Renaissance. 1962. T. 24. № 2. P. 388–391.
15 Morrison М. Henri Estienne and Sappho. P. 391.
16 О начале бытования трактата в ренессансной Италии см.: Refini E. Longinus and Poetic Imaginationin Late Renaissance Literary Theory // Translations of the Sublime. The Early Modern Reception and Dissemination of Longinus’ Peri Hupsous in Rhetoric, the Visual Arts, Architecture, and the Theatre. Leiden; Boston, 2012. P. 34–37.
17 Aulotte R. Sur quelques traductions d’une ode de Sappho au XVIe siècle // Bulletin de l’Association Guillaume Budé: Lettres d’humanité. 1958. № 17. P. 109–111.
18 L’égal des dieux: Cent et une versions d’un poème / Recueillies par Ph. Brunet; preface de K. Haddad-Wotling. Paris, 2009. P. 27. Здесь и далее курсив в цитатах, кроме особо оговоренных случаев, наш. — А. Г.
19 Ibid. P. 30.
20 Ibid. P. 33–35.
21 Ibid. P. 34.
22 Aulotte R. Sur quelques traductions d’une ode de Sappho… P. 117; Brunet Ph. Avant-propos // Sappho. Poèmes et fragments / édition bilingue. [Lausanne], 1991. P. 19–20.
23 Aulotte R. Sur quelques traductions d’une ode de Sappho… P. 117.
24 L’égal des dieux. P. 35.
25 Aulotte R. Sur quelques traductions d’une ode de Sappho… P. 113–115.
26 L’égal des dieux. P. 29.
27 Ibid. P. 31–32.
28 Aulotte R. Sur quelques traductions d’une ode de Sappho… P. 117.
29 L’égal des dieux. P. 38.
30 Свиясов Е. В. Сафо и русская любовная поэзия… С. 24–25.
31 DeJean J. Fictions of Sappho. 1546–1937. Chicago, 1989. P. 85 (Women in culture and society).
32 Самое раннее из сохранившихся упоминаний Фаона — у Менандра во фрагменте под названием «Левкадия».
33 Расин Ж. Трагедии / Изд. подг. В. А. Жирмунская, Ю. Б. Корнеев. Л., 1977. С. 256 (сер. «Литературные памятники»; пер. М. А. Донского).
34 DeJean J. Fictions of Sappho. P. 86–90, 88, 67–68.
35 Публий Овидий Назон. Элегии и малые поэмы. М., 1973. С. 141 (сер. «Библиотека античной литературы»; пер. С. А. Ошерова).
36 DeJean J. Fictions of Sappho. P. 68.
37 L’égal des dieux. P. 44.
38 Л. Горсс (Louis Gorsse, 1779–1826), Ж. Шове (Joseph Joachim Victor Chauvet, 1788–1842), А. Эмпи и И. Курноль (Adolphe-Simonis Empis, 1795–1868; Hippolyte Cournol, 1795–1885), Ф. Буайе (Philoxéne Boyer, 1825–1867), Габриэль Фор (Gabriel Faure, 1877–1962), Н. Казанова (Nonce Casanova, 1873–1957), Р. Патри (René Camille Patris d’Uckermann, 1897–1992), М. Филд (Michel Field, né 1954).
39 [Сумароков А. П.]. Перевод второй Сафиной оды // Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие. 1755. Ч. II. Август. С. 148–149.
40 Козицкий Г. К. На девицу // Трудолюбивая пчела. 1759. Ноябрь. С. 677–678. В «Трудолюбивой пчеле» стоит обратить внимание еще на две публикации, связанные со Второй одой и вышедшее ранее: «Баснь о Фаэтоне. Из овидиевых превращений» (Март. С. 131–154) и «Из трактата Лонгинова о важности слов. С перевода Буалова» (Апрель. С. 219–224).
41 Кокорев А. В. «Труды разумных общинников» (Рукописный журнал Н. А. Львова и др.) // Ученые записки Московского областного педагогического ин-та им. Н. К. Крупской. 1960. Т. 86. Труды кафедры русской литературы. Вып. 7. С. 34–35.
42 Любжин А. И. Римская литература в России в XVIII — начале XX века. М., 2007. С. 60–61.
43 Кибальник С. А. Античная поэзия в России. XVIII — первая половина XIX века: Очерки. СПб., 2012. С. 21 (сер. «Новая и старая русская классика»).
44 Свиясов Е. В. Сафо и русская любовная поэзия… С. 67–72, 66, 177–179.
45 См., например: Лаппо-Данилевский К. Ю. «Стихотворения Сафы, лесбийския стихотворицы» (1792) И. И. Виноградова и их французский источник // Летняя школа по русской литературе. 2018. Т. XIV. № 1. С. 19–23.
46 Виноградов И. И. Стихотворения Сафы, лесбийской стихотворицы, переведенные с греческого языка Иваном Виноградовым. СПб., 1792. С. 16.
47 Мартынов И. И. О высоком или величественном. Творение Дионисия Лонгина / Пер. с греч., с прим. переводчика. СПб., 1803. С. 74–75.
48 См. об этом: Свиясов Е. В. Сафо и русская любовная поэзия… С. 162.
49 Мерзляков А. Ф. Подражания и переводы. М., 1826. Ч. 2. С. 59.
50 См. об этом: Свиясов Е. В. Сафо и русская любовная поэзия… С. 268–270.
51 Водовозов В. И. Анакреон // Современник. 1857. Т. 64. № 8. Отд. II. С. 153–154.
52 Пушкин А. С. Счастлив, кто близ тебя, любовник упоенный // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 2004. Т. 2. Кн. 1. С. 550–552 (комм. М. Н. Виролайнен).
53 Свиясов Е. В. Сафо и русская любовная поэзия… С. 191–197.
54 Карабанов П. М. Выражение любви стихотворицы Сапфо к Фаону / Пер. с фр. // Зритель. 1792. Ч. 1. № 4. С. 182.
55 Е. В. Свиясов квалифицирует такие конструкции, как «Блажен подобно тот богам» или «Блажен / счастлив, кто близ тебя <…> с богами он сравнен», в качестве гендерно нейтральных (Свиясов Е. В. Сафо и русская любовная поэзия… С. 94–95; 172). Однако с этим затруднительно согласиться. Языковые средства позволяют подчеркнуть изображение женщины. И это прекрасно видно во французской традиции: например, в уже цитированном переводе Гакона вместо heureux (как у Буало) используется heureuse, а в написанном на основе Второй оды дуэте Сапфо и Фаона в лирической трагедии «Сапфо» Курноля и Эмпи реплика каждого из персонажей звучит в зависимости от объекта обращения — Фаон обращается к Сапфо heureuse, Сапфо к Фаону — heureux (L’égal des dieux. P. 62–63). В 1729 году в Париже был издан текст Второй оды, положенной на музыку клавесинистом Б. Бюреттом (Bernard Burette, около 1670 — после 1726), обучавшим игре на клавесине знаменитую Луизу-Анну де Бурбон, мадемуазель Шароле (Louise Anne de Bourbon, Mlle de Charolais, 1695–1758). Собственно, именно ей эта песенка и была посвящена. Ноты предваряло уведомление о том, что «эта ода была переведена с греческого французскими стихами г-на Буало Депрео». Но текст Буало был изменен так, чтобы убрать провокационную гомоэротическую составляющую: heureux было заменено на heureuse. Также в буаловский текст были внесены еще несколько характерных изменений, в частности обращение «cher Phaon» и заголовок «à Phaon» (см.: Burette P.-J. Sapho, à Phaon, ode, mise en musique par Mr Burette. Paris, 1729).
56 [Саси К.]. Любовь Сапфои и Фаона. СПб., 1780. С. 26–28, 33.
57 См.: Андреев Ю. В. Мужские союзы в дорийских городах-государствах (Спарта и Крит). СПб., 2004; Марру А. И. История воспитания в античности (Греция). М., 1998. С. 49–61.
58 Марру А. И. История воспитания в античности (Греция). С. 53.
59 См., например: Там же. С. 58–60; Ковалев П. В. Гетерия Алкея и фиас Сапфо на Лесбосе VII–VI вв. до н. э. // Textum Historiae: Исследования по теоретическим и конкретно-историческим проблемам всеобщей истории. Н. Новгород, 2005. С. 52–68.
60 Резанов В. А. Из разысканий о сочинениях Жуковского. СПб., 1906. Вып. 2. С. 360–361.
61 Жуковский В. А. Сафина ода // Вестник Европы. 1807. Ч. 32. № 5. Март. С. 44.
62 Жуковский В. А. Сафина ода // Жуковский В. А. Полн. собр. соч.: В 20 т. М., 1999. Т. 1. Стихотворения 1797–1814. С. 461–462 (прим. Н. Реморовой).
63 Библиотека В. А. Жуковского (Описание) / Сост. В. В. Лобанов. Томск, 1981. С. 249, № 1800.
64 Катенин П. А. Избр. произведения. М.; Л., 1965. С. 236–250 (Библиотека поэта. Большая сер.).
65 Арзамас: Сб.: в 2 кн. / Вступ. статья В. Вацуро; сост., подг. текста и комм. В. Вацуро, А. Ильина-Томича, Л. Киселевой и др. М., 1994. Кн. 1. Мемуарные свидетельства; Накануне «Арзамаса»; Арзамасские документы. С. 309.
66 Проскурин О. А. Литературные скандалы пушкинской эпохи. М., 2000. С. 152–187.
67 Ильинский Л. К. Из рукописных текстов Г. Р. Державина // Известия Отделения русского языка и словесности. 1917. Т. 22. Кн. 1. С. 325–338; Алексеева Н. Ю. Русская ода: развитие одической формы в XVII–XVIII веках. СПб., 2005. С. 353.
68 Державин Г. Р. Анакреонтические песни. М., 1986. С. 59, 200–202 (сер. «Литературные памятники»). Несколько особняком стоит здесь первая публикация первого перевода — в альманахе «Аониды» (1797. Кн. 2. C. 244–245), где авторский голос, как в оригинале, отдан женщине.
69 Державин Г. Р. Анакреонтические песни. С. 100, 218–219.
70 Ильинский Л. К. Из рукописных текстов Г. Р. Державина. С. 326–327.
71 Державин Г. Р. Анакреонтические песни. С. 225. См. также: Державин Г. Р. Соч. / С объяснительными прим. Я. Грота: В 9 т. СПб., 1874. Т. 1. С. 58–59 (прим. Я. К. Грота).
72 Державин Г. Р. Анакреонтические песни. С. 103. См.: Свиясов Е. В. Сафо и русская любовная поэзия… С. 85.
73 Державин Г. Р. Анакреонтические песни. С. 60.
74 Свиясов Е. В. Сафо и русская любовная поэзия… С. 79–80.
75 Майков А. Н. Из Сапфо // Майков А. Н. Избр. произведения. Л., 1977. С. 174 (Библиотека поэта. Большая сер.).
76 Там же. С. 66, 797 (прим. Л. С. Гейро).
77 Уманец С. И. Из воспоминаний об А. Н. Майкове // Исторический вестник. 1897. Т. 68. № 5. С. 462.
78 Савинская Л. Ю. Коллекция живописи князей Юсуповых — феномен художественной культуры России второй половины XVIII — начала ХХ века. М., 2017. С. 464, 468.
79 Памятники архитектуры Ленинграда. [2-е изд., перераб. и доп.]. Л., 1969. С. 341; Крюковских А. П. Дворцы Санкт-Петербурга. СПб., 1997. С. 220.
Об авторах
Анастасия Геннадьевна Готовцева
Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина; Институт научной информации по общественным наукам РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: brunhilda@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-6738-1720
профессор; ведущий научный сотрудник
Россия, Москва; МоскваСписок литературы
- Алексеева Н. Ю. Русская ода: развитие одической формы в XVII–XVIII веках. СПб., 2005.
- Андреев Ю. В. Мужские союзы в дорийских городах-государствах (Спарта и Крит). СПб., 2004.
- Арзамас: Сб.: в 2 кн. / Вступ. статья В. Вацуро; сост., подг. текста и комм. В. Вацуро, А. Ильина-Томича, Л. Киселевой и др. М., 1994. Кн. 1. Мемуарные свидетельства; Накануне «Арзамаса»; Арзамасские документы.
- Библиотека В. А. Жуковского (Описание) / Сост. В. В. Лобанов. Томск, 1981.
- Гаспаров М. Л. Видится мне, равен богам // Катулл Г. В. Книга стихотворений / Изд. подг. С. В. Шервинский, М. Л. Гаспаров. М., 1986 (сер. «Литературные памятники»).
- Державин Г. Р. Анакреонтические песни. М., 1986 (сер. «Литературные памятники»).
- Жуковский В. А. Полн. собр. соч.: В 20 т. М., 1999. Т. 1. Стихотворения 1797–1814.
- Катенин П. А. Избр. произведения. М.; Л., 1965 (Библиотека поэта. Большая сер.).
- Катулл Г. В. Книга стихотворений / Изд. подг. С. В. Шервинский, М. Л. Гаспаров. М., 1986 (сер. «Литературные памятники»).
- Кибальник С. А. Античная поэзия в России. XVIII — первая половина XIX века: Очерки. СПб., 2012 (сер. «Новая и старая русская классика»).
- Ковалев П. В. Гетерия Алкея и фиас Сапфо на Лесбосе VII–VI вв. до н. э. // Textum Historiae: Исследования по теоретическим и конкретно-историческим проблемам всеобщей истории. Н. Новгород, 2005.
- Кокорев А. В. «Труды разумных общинников» (Рукописный журнал Н. А. Львова и др.) // Ученые записки Московского областного педагогического ин-та им. Н. К. Крупской. 1960. Т. 86. Труды кафедры русской литературы. Вып. 7.
- Крюковских А. П. Дворцы Санкт-Петербурга. СПб., 1997.
- Лаппо-Данилевский К. Ю. «Стихотворения Сафы, лесбийския стихотворицы» (1792) И. И. Виноградова и их французский источник // Летняя школа по русской литературе. 2018. Т. XIV. № 1.
- Любжин А. И. Римская литература в России в XVIII — начале XX века. М., 2007.
- Майков А. Н. Избр. произведения. Л., 1977 (Библиотека поэта. Большая сер.).
- Марру А. И. История воспитания в античности (Греция). М., 1998.
- Памятники архитектуры Ленинграда. [2-е изд., перераб. и доп.]. Л., 1969.
- Пояркова А. А. Переводческий метод Катулла на примере сравнительного анализа фрагмента 31 Сапфо и стихотворения 51 Катулла // Вестник МГЛУ. 2013. Вып. 5 (665).
- Проскурин О. А. Литературные скандалы пушкинской эпохи. М., 2000.
- Публий Овидий Назон. Элегии и малые поэмы. М., 1973 (сер. «Библиотека античной литературы»).
- Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 2004. Т. 2. Кн. 1.
- Расин Ж. Трагедии / Изд. подг. В. А. Жирмунская, Ю. Б. Корнеев. Л., 1977 (сер. «Литературные памятники»).
- Савинская Л. Ю. Коллекция живописи князей Юсуповых — феномен художественной культуры России второй половины XVIII — начала ХХ века. М., 2017.
- Свиясов Е. В. Сафо и русская любовная поэзия XVIII — начала XX веков. СПб., 2003.
- Толстой И. И. Сапфо и тематика ее песен // Толстой И. И. Статьи о фольклоре. М.; Л., 1966.
- Aulotte R. Sur quelques traductions d’une ode de Sappho au XVIe siècle // Bulletin de l’Association Guillaume Budé: Lettres d’humanité. 1958. № 17.
- Brunet Ph. Avant-propos // Sappho. Poèmes et fragments / édition bilingue. [Lausanne], 1991.
- DeJean J. Fictions of Sappho. 1546–1937. Chicago, 1989 (Women in culture and society).
- L’égal des dieux: Cent et une versions d’un poème / Recueillies par Ph. Brunet; preface de K. Haddad-Wotling. Paris, 2009.
- Lardinois A. Lesbian Sappho and Sappho of Lesbos // From Sappho to De Sade: Moments in the History of Sexuality. London, 1989.
- Lardinois A. Lesbian Sappho revisited // Myths, Martyrs, and Modernity: Studies in the History of Religions in Honour of J. N. Bremmer. Leiden; Boston, 2010 (Studies in the History of Religions; vol. 127).
- Morrison М. Henri Estienne and Sappho // Bibliothéque d’Humanisme et Renaissance. 1962. T. 24. № 2.
- Most G. W. Reflecting Sappho // Bulletin of the Institute of Classical Studies. 1995. Vol. 40. Iss. 1.
- Refini E. Longinus and Poetic Imaginationin Late Renaissance Literary Theory // Translations of the Sublime. The Early Modern Reception and Dissemination of Longinus’ Peri Hupsous in Rhetoric, the Visual Arts, Architecture, and the Theatre. Leiden; Boston, 2012.
- Wills G. Sappho 31 and Catullus 51 // Greek, Roman, and Byzantine studies. 1967. Vol. 8. № 3.