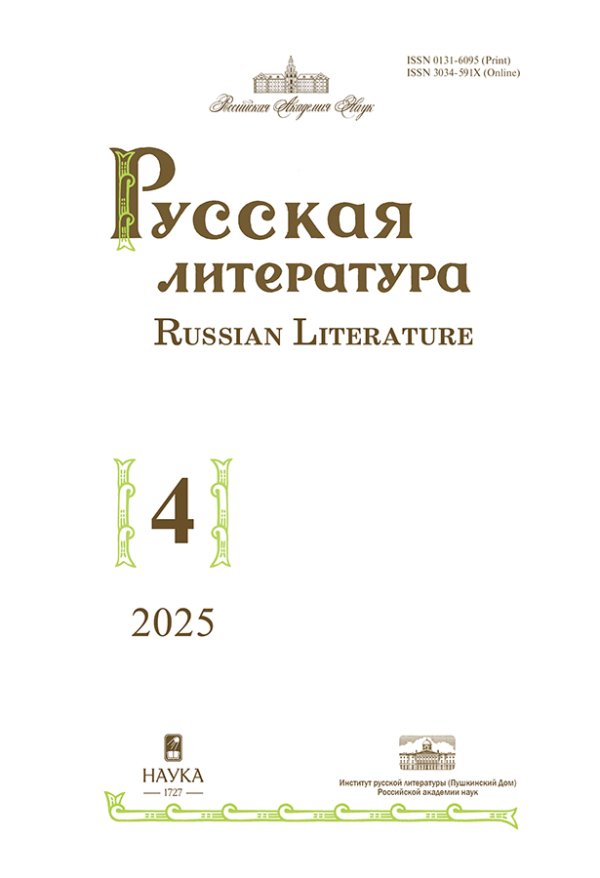Eugene Onegin Beyond the Pushkin Era: Tracing the History of Reception (1844–1999)
- Authors: Virolainen M.N.1
-
Affiliations:
- Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences
- Issue: No 2 (2024)
- Pages: 48-71
- Section: A. S. Pushkin, 225th Anniversary
- URL: https://bakhtiniada.ru/0131-6095/article/view/259304
- DOI: https://doi.org/10.31860/0131-6095-2024-2-48-71
- ID: 259304
Full Text
Abstract
The article traces two lines of reception of Pushkin’s novel Eugene Onegin up to the year 1999. One of them, shaped in the post-Golden Age period of the 19th century, in the era of prose, goes back to V. G. Belinsky and F. M. Dostoevsky, while the other one, proclaimed in the 20th century, is associated with the theoretical constructions of the Formalists and M. M. Bakhtin.
Keywords
Full Text
«Евгений Онегин» — произведение, по которому могла бы быть реконструирована, в случае утраты всех других стихотворных текстов эпохи, поэтическая культура русского Золотого века. Если бы история его восприятия могла быть описана во всей полноте, это стало бы воссозданием истории взаимодействия позднейших эпох с главными литературными достижениями пушкинского времени. В рамках статьи такая задача, естественно, поставлена быть не может. Здесь будут описаны лишь две тенденции, связанные с истолкованием природы пушкинского произведения. За пределами рассмотрения останутся строго сосредоточенные на фактографии историко-литературные труды (изучение творческой истории в ее хронологии, выявление источников, реминисценций, критических откликов и т. п.), а также текстологические и стиховедческие исследования. Две линии рецепции (две традиции восприятия) будут намечены лишь пунктирно, через описание наиболее репрезентативных образцов каждой из них. Обзор всех трудов, следующих той или иной из этих традиций, в задачу статьи не входит, как и анализ всего круга «онегинских» работ тех авторов, о которых в ней пойдет речь.
Используя терминологию теории литературы ХХ века, одну из этих традиций можно условно обозначить как следующую представлениям о референциальности литературы, о том, что ее основой является мимесис (подражание внешнему миру), другую — как сосредоточенную на автореференциальности (семиозисе) поэтического слова.1 Первая из двух традиций восприятия пушкинского романа оформилась в XIX веке — но, что существенно, — за чертой Золотого века, с наступлением эпохи прозы; вторая, тесно связанная с теоретическими построениями формалистов и М. М. Бахтина, — только в ХХ веке. При этом на протяжении полутора веков предметом интерпретаций служил поэтический мир, для которого в пушкинскую эпоху принцип автореферентности («цель поэзии — поэзия») был одним из наиболее значимых. Из сказанного не следует, однако, что преимущество сразу должно быть отдано второму направлению. Оба они прошли сложную историю развития, по ходу которой менялось не только восприятие романа, но и понимание природы той внетекстовой действительности, с которой он соотнесен.
Далеко не всякая эпоха способна к непредвзятому рассмотрению текста. Точнее было бы сказать — редкая эпоха способна к такому взгляду, требующему осознанного самоотречения. Чем более выраженной является культурная индивидуальность эпохи, тем менее возможно безотносительное к такой индивидуальности рассмотрение феномена, принадлежащего другой культуре. Ракурс рассмотрения, который выглядит как навязанный тексту, может оказаться фактором исторического диалога культур, по ходу которого осуществляется иногда сознательная, иногда неосознанная переинтерпретация материала: он усваивается новой эпохой в том качестве, какого сам по себе не содержал. Искажение материала и его историческое освоение часто идут рука об руку.
Именно таково было первое фундаментальное исследование, посвященное «Евгению Онегину» — восьмая и девятая статьи работы В. Г. Белинского «Сочинения Александра Пушкина». Появившиеся в 1844–1845 годах, эти статьи, казалось бы, не так далеки по времени своего возникновения от тех лет, к которым относится пушкинское творчество. Однако между Пушкиным и зрелым Белинским пролегла граница эпох, которая развела созданное каждым из них на две почти не пересекающиеся зоны. Пушкинские статьи Белинского писались за порогом Золотого века, в лице критика мы встречаем реакцию эпохи прозы на культуру поэзии. Любопытен и выразителен здесь один факт. Если поэты пушкинского круга остро чувствовали наступление новой эпохи, разрушительное для созданной ими культуры, то новое поколение, и Белинский прежде всего, к этим переменам оставалось как будто бы нечувствительным. Изменяющаяся система ценностей не трактовалась как обновление — она выдвигалась как единственно возможная.
Белинский — критик и аналитик одновременно. Более того: на кратком отрезке развития русской литературы Нового времени он выступает и в качестве историка. И все же доминирующим оказывается критический метод, который обращен к настоящему и легко вовлекает в его зону то, что принадлежит к недавнему прошлому, экстраполируя законы настоящего на втянутый в его орбиту материал. В результате происходит неосознаваемое искажение материала. Белинский трактует «Онегина» безотносительно к тому, что перед ним — поэтический мир, имеющий собственные законы. Проза, в 1840-х годах вытеснившая поэзию с авансцены культуры, в статьях Белинского о Пушкине торжествует вдвойне. Она получает главенство, не только расширив собственную территорию, но и упразднив законы поэзии на территории поэтического текста. «Магический кристалл» устранен, границы поэтического мира сняты, содержание текста и жизни объединяются в общий контекст. Характер мимесиса определен очень четко: «Онегин» объявлен «поэтически воспроизведенной картиной русского общества»,2 но попыток уяснить природу «поэтического воспроизведения» не предпринято, акцент перенесен на «верность действительности»,3 которая и становится для Белинского главным критерием оценок. Залог успеха переинтерпретации романа заключается в том, что пушкинский текст, как кажется критику, с блеском удовлетворяет этому критерию.
Белинский заявляет, что Пушкин «взял эту жизнь как она есть»,4 и постепенно, шаг за шагом снимает всякие опосредования между романом и жизнью. Он приступает к анализу характера Онегина, начав с рассмотрения его реакции на смерть дяди. Оценивая чувства героя, критик сопоставляет их с разными типами поведения людей, оказавшихся в схожих обстоятельствах, и незаметно перемещает персонажа из литературного в жизненный контекст. Подобный ход вновь и вновь повторяется по ходу обеих «онегинских» статей. Сказав, что Онегин — «страдающий эгоист», Белинский переходит к типологии эгоистов, которых ему доводилось наблюдать. Обратившись к Татьяне, он описывает современные ему женские психологические типы, и это описание служит ему опорой для дальнейшего анализа характера героини. Текст постоянно поверяется житейскими воззрениями критика. Даже композиция романа (отсутствие в нем определенной развязки) кажется ему мотивированной тем, что «в самой действительности бывают события без развязки».5 Не случайно и то, что в центре анализа оказываются именно характеры (Онегина, Ленского, Татьяны) — т. е. тот элемент романной ткани, который проще всего отождествляется с миром живых людей.
Пересказы фрагментов сюжета и описания того, что встречается в жизни, продолжая друг друга, сливаются в новое смысловое единство. Между обширными стихотворными цитатами появляются прозаические связки, которые превращаются в своего рода перевод поэтической речи на язык аналитической прозы. Смешение жизни и текста иногда приводит к тому, что представление критика о героях начинает строиться безотносительно к сказанному у Пушкина: Белинский, не замечая того, домысливает характер, основываясь на воображаемой психологии героя. Так, о чувстве Онегина к замужней Татьяне он пишет: «…в глазах Онегина любовь без борьбы не имела никакой прелести, а Татьяна не обещала ему легкой победы».6 Не прожитая возможная биография Ленского, заданная Пушкиным вариативно, в глазах Белинского подлежит обсуждению, в ходе которого должен быть сделан однозначный выбор. Художественный смысл вариативности ускользает, и критик решительно склоняется в пользу того, что героя ждал «обыкновенный удел». Тем более неприемлема для Белинского та вопросительная модальность, в какой описан Онегин. Сама множественность противоречащих друг другу определений героя превращается в пересказе в перечень отрицаний, по исчерпании которых остается одна непротиворечивая характеристика: «Онегин — не Мельмот, не Чайльд-Гарольд, не демон, не пародия, не модная причуда, не гений, не великий человек, а просто — „добрый малый, как вы да я, как целый свет“».7
Из всего этого никак нельзя, однако, заключить, что Белинский остался глух к пушкинскому произведению. В его статьях рассыпаны ценнейшие замечания о романе — например, указание на то, что «Евгений Онегин», в котором нет ни одного исторического лица и изображена современность, — роман, тем не менее, исторический. Но сейчас важно было оценить не отдельные суждения Белинского, а сам метод его обращения с пушкинским материалом.
Белинский осуществил перевод произведения, принадлежащего поэтической культуре Золотого века, на язык прозаической культуры следующей эпохи.8 Переинтерпретация была прежде всего связана с пониманием природы мимесиса: между художественным словом и реальностью установились отношения прямого подобия друг другу, не опосредованного законами поэтической формы, многочисленные отсылки к которым даны в тексте романа и выражены в его поэтике. Совершённая акция не была отрефлексирована критиком — но, может быть, в силу этого оказалась тем более действенной. Статьи Белинского подготовили почву для того, чтобы пушкинский роман в стихах превратился в модель для прозаических романов русской классики. Это могло произойти только при условии утраты поэтической компоненты «Онегина». Но именно нечувствительность Белинского к тому, что его интерпретация упускает из виду целые пласты и уровни текста, помогла его трактовке пушкинского романа стать той формой, в которой «Евгений Онегин» был усвоен поколениями, чуждыми культуре Золотого века.
Если статьи Белинского были работами критика, то речь о Пушкине, произнесенная Достоевским, была выступлением публицистическим, идеологический пафос звучал в ней гораздо громче, чем у Белинского. 19 мая 1880 года, т. е. в самый разгар работы над речью,9 Достоевский писал К. П. Победоносцеву: «…дело идет о самых дорогих и основных убеждениях. <…> Мою речь о Пушкине я приготовил <…> в самом крайнем духе моих <…> убеждений».10 Убеждения относились к русской идее, понятой как идея всемирности и всечеловечности. Высказывались они неоднократно — и в связи с Пушкиным, и безотносительно к нему. Так, в декабрьском выпуске «Дневника писателя» за 1877 год Достоевский писал: Пушкин «нашел великий и вожделенный исход для нас, русских, и указал на него. Этот исход был — народность, преклонение перед правдой народа русского».11 В более раннем, январском, выпуске «Дневника» за тот же год смысл этой правды был указан вполне определенно: «Национальная идея русская есть, в конце концов, лишь всемирное человеческое единение».12 Проповедью идеи национального как всечеловеческого проникнута и речь о Пушкине, которая была, однако, не только идеологическим выступлением — Достоевский сообщал в ней о Пушкине художественную правду.13
«Верность действительности», к которой призывал Белинский, для Достоевского была необходимым, но не достаточным основанием искусства. На современность накладывались проекции прошлого и будущего, национальная история собиралась в единство, злободневность подавалась сквозь призму мифа и только в таком качестве обретала свой смысл. В посвященных Достоевскому заметках Н. Я. Берковского сказано об «исторических прототипах, прототипах-мифах, стоящих у колыбели людей, делающих современность. Они присутствуют в картине, но они, как выражался сам Достоевский, в ней стушеваны». Нам предъявлена «маска жизни только часа сего — между тем как охвачены здесь большие протяжения времени». «У Вяч. Иванова взят миф космический.14 А весь Достоевский лежал не столько в космосе, сколько в истории, и в особенности в истории национальной. Миф из глубин времени, интерпретирующих для нас воочию происходящее».15 В существенных отношениях все это может служить ключом к пушкинской речи: в ней создавался пушкинский миф, необходимый для «жизни часа сего».
Если Белинский в анализе «Онегина» бессознательно игнорирует особенности пушкинской поэтической культуры, то Достоевский сознательно берет из Пушкина то, что откликается современности, а также и то, что, как он надеется, откликнется в чаемом будущем. Достоевский строит пушкинский миф, выражающий национальную правду, которая заключена для писателя не в букве, не в факте, не в какой бы то ни было данности — будь это даже данность пушкинской художественной формы. Пушкинский миф Достоевского призван интерпретировать «воочию происходящее». Как только мы перестаем это воспринимать, предложенная писателем трактовка «Онегина» начинает обнаруживать свою некорректность по отношению к пушкинскому тексту.
Пусть по другим причинам, чем для Белинского, но так же, как для него, содержание «Онегина» имеет для Достоевского самостоятельное, отдельное от поэзии значение. Оба они — люди прозы, принадлежащие другой культуре, чем культура Золотого века, и не восприимчивые к особенностям ее языка. Выразительно заявление Достоевского о Татьяне: «Она глубже Онегина и, конечно, умнее его».16 Идея взвешивать, которое из двух поэтических созданий умнее, и с уверенностью делать вывод могла прийти в голову только автору больших психологических романов, с непременным для них созданием иллюзии достоверности. Едва упомянутый в «Онегине» муж Татьяны превращается под пером Достоевского в полнокровно выписанную фигуру, наделенную и определенным складом ума, и определенной психологией: Татьяна «верна этому генералу, ее мужу, честному человеку, ее любящему, ее уважающему и ею гордящемуся».17 И дальше эта характеристика с уверенностью повторяется, оказывается, что муж Татьяны — «честный старик, муж молодой жены, в любовь которой он верит слепо, хотя сердца ее не знает вовсе, уважает ее, гордится ею, счастлив ею и покоен».18 Ничего подобного в тексте романа нет.19 Достоевский попросту домысливает эту фигуру, потому что для него ничто, сказанное в романе в стихах, не замкнуто в поэтическую речь и содержание романа выходит за пределы стихов. С той же легкостью достроена фигура Онегина: «В глуши, в сердце своей родины, он конечно не у себя, он не дома. <…> Правда, и он любит родную землю, но ей не доверяет. Конечно, слыхал и об родных идеалах, но им не верит. Верит лишь в полную невозможность какой бы то ни было работы на родной ниве…».20
Для Белинского онегинский мир продлевается непосредственно в жизнь, для Достоевского — в новое художественное слово, формирующее национальное предание, подчиняя себе «чужое слово». Предметом изображения, к которому обращен пушкинский роман, в речи Достоевского по-прежнему объявлена русская действительность, но теперь уже взятая в том ее мифологическом основании, из которого выводится национальная идеологема. «Онегин» (как и творчество Пушкина в целом) использован как посредник между тем и другим.
Разделенные тремя с половиной десятилетиями, статьи Белинского и речь Достоевского составили общий фундамент для особой литературоведческой традиции ХХ века, образцы которой будут представлены ниже. Отличительными особенностями этой традиции станут: рассмотрение пушкинского сюжета как имеющего автономное значение, не спаянное с поэтикой и стихотворным миром произведения; домысливание сюжета; наделение его привнесенным идейным содержанием; истолкование текстового содержания как слепка с действительности (отсюда — версия о реалистической природе романа) — но и возможность разного понимания природы самой действительности, в состав которой могут входить и культура, и идеология. Перейдем к разбору некоторых образцов этого направления исследований.
Статья Иванова-Разумника «Евгений Онегин» (1909) предназначалась для 3-го тома Собрания сочинений Пушкина под редакцией С. А. Венгерова как монографически выстроенное разностороннее освещение романа.21 В соответствии с этой задачей исследователь уделил внимание творческой истории произведения, хронологии его создания и публикации, иногда обращался к черновикам, кратко осветил рецепцию романа, соотнес историю его создания с фактами биографии Пушкина и с меняющимся контекстом его творчества, с культурно-историческим фоном. Позднее статья была включена в 5-й том Сочинений Иванова-Разумника, имеющий подзаголовок: «Пушкин и Белинский: Статьи историко-литературные».22 Метод, таким образом, был назван самим автором, и его исследование свидетельствует о том, как трудно историки литературы удерживаются в рамках фактографии.
Иванов-Разумник очевидным образом наследует некоторым идеям Белинского и Достоевского. Представленная в статье концепция «лишнего человека» восходит к постулату Белинского о влиянии среды (по Белинскому — «общества»23). Вслед за критиком и писателем Иванов-Разумник рассуждает о том, почему Татьяна не приняла любви Онегина, домысливая, как и они, то, что осталось не сказанным в пушкинском тексте. «…С Онегиным их пути разошлись навсегда…» — уверенно пишет Иванов-Разумник, «закрывая» открытый финал романа. Впрочем, он стремится судить независимо от двоих своих великих предшественников, указывая, что оба они комментировали финал романа с точки зрения этической, тогда как последние слова Татьяны «должны быть поняты прежде всего на почве психологической».24 Так закрепляется привнесенное из послепушкинской литературной эпохи представление о том, что в романе присутствует психологизм.
Поэтическая природа произведения, по большому счету, по-прежнему остается вне рассмотрения, однако, в отличие от Белинского и Достоевского у Иванова-Разумника возникает (не вполне последовательное) разграничение некоторых уровней самого текста и соотносимых с ним кругов реальности. «Жизнь Пушкина и жизнь Онегина тесно переплетаются, и распутать эту связь — значит сделать первый шаг к пониманию всего романа».25 Выдвинув данный тезис, Иванов-Разумник ставит перед собой задачу различить время автора и время героя. Не употребляя этих терминов, исследователь называет их Пушкиным и Онегиным — разница, казалось бы, небольшая, но она не позволяет Иванову-Разумнику отделить изображенный в романе авторский образ от самого автора. Зато он восстанавливает внутреннюю хронологию событий романа, анализирует онегинский «календарь» (как известно, к составлению подобного «календаря» впоследствии обращались Н. Л. Бродский, С. М. Бонди, В. В. Набоков, А. Е. Тархов, Ю. М. Лотман, В. С. Баевский и др.), что требует пристального внимания к собственно тексту.
В заключительной части статьи Иванов-Разумник намечает вехи духовной биографии Пушкина в период работы над романом в стихах. Это — время автора, анализируемое не в том виде, в каком оно воплощено в романе, а на основании писавшихся параллельно ему поэтических текстов. Внутренний мир романа и духовный мир Пушкина различены, но и соотнесены. В результате анализа Иванов-Разумник приходит к выводу, что Пушкин, создавая роман, преодолевал в себе Онегина (а также и Ленского).
И все же во всех своих построениях Иванов-Разумник исходит из представления о том, что пушкинский роман — это «проявление и отражение русской жизни определенной эпохи».26 «Теория отражения» распространяется им на литературу как таковую, а также на центральный предмет исследовательского интереса — на литературный тип, который является, как сказано в статье, «только фиксированием жизни, закреплением ее в художественном творчестве».27 Тем не менее, выясняя происхождение онегинского типа, Иванов-Разумник различает его историческую и литературную генеалогию (так же, как затем он различает исторических и литературных «потомков» Онегина). Возникает определенная двойственность взгляда. Первый ряд «предков» Онегина исследователь обнаруживает в реальной истории XVIII века, но их психологические портреты рисует, опираясь на тексты «<Арапа Петра Великого>» и «Капитанской дочки». Под «Онегиным» же он понимает одновременно и пушкинского героя, и тот человеческий тип, который в нем воплощен. Другой — литературный — ряд «предков» восходит к байроновским героям и уже гораздо теснее связан с романной обрисовкой персонажа.
Все эти отграничения литературной реальности от жизненной остаются в статье довольно слабо намеченными, они обращают на себя внимание лишь на фоне предшествующей традиции. Главным центром притяжения остается для Иванова-Разумника не литературная, а жизненная реальность, осмысляемая прежде всего с социально-исторических позиций. Отождествив онегинский тип с типом «лишнего человека», Иванов-Разумник определяет последний, используя понятия «мещанство» и «индивидуализм»,28 отработанные в его двухтомном труде «История русской общественной мысли. Индивидуализм и мещанство в русской литературе и жизни XIX в.» (СПб., 1907), где социологическая и историческая проблематика была по преимуществу рассмотрена на материале литературы и критики. В статье «Евгений Онегин» происходит обратное: литературный материал рассматривается сквозь призму социально-исторических наблюдений и выводов. В обоих случаях литература и жизнь сплавляются в некое единство — с той немаловажной оговоркой, что «жизнь» взята не в ее непосредственном качестве, а в виде осмысленной и классифицированной социальной истории.
«Евгению Онегину» посвящен большой раздел книги Д. Д. Благого «Социология творчества Пушкина». Социологический метод, подчеркнутый в заглавии, сочетается здесь с методом историко-литературным, который, однако, остается вспомогательным инструментом.
Поэтика романа не вовсе обойдена вниманием. Так, в частности, исследователь задерживается на отношениях «автор–герой», отмечая, что «поэт с самого начала отделяет себя от героя, оставляя его, однако, в тесной связи с собой».29 Благой не настаивает на том, что социологическая тематика покрывает все смысловое целое произведения, но, сосредоточившись именно на ней, то и дело сбивается на интерпретацию социальной темы как ключевой и центральной для романа, все пространство которого, по словам Благого, занимает «изображение дворянской России», выполненное «поэтом-дворянином».30 Понятно, что такая постановка вопроса предполагает безусловную веру в «теорию отражения».
Социальное положение самого Пушкина, которое, по Благому, определяло и его социальные взгляды, исследователь характеризует как принадлежность к родовитому оскудевшему дворянству, «сходившему со своих командных классовых высот» и «вливавшемуся в среду разночинной трудовой интеллигенции».31 Подобное положение Благой неоднократно характеризует как «деклассированное».32 Вполне очевидно, что здесь сказалось стремление совпасть с пафосом начавшейся советской эпохи.
Во всем, что касается анализа самого произведения, Благой не позволяет себе такой тенденциозности. Он разворачивает свое исследование с постоянной опорой на текст романа и контекст пушкинского творчества, что, казалось бы, исключает всякое домысливание произведения.33 Но для создания непротиворечивой концепции ему приходится искать законченную социальную (и даже социально-экономическую) характеристику Онегина за пределами романа в стихах — в «Моей родословной», «Родословной моего героя» и некоторых других прозаических произведениях и статьях Пушкина, написанных уже после романа.
Так возникает ретроспективный взгляд на произведение, подкрепленный методологическим тезисом: «…исследователю позволительно проходить путь поэта в обратном направлении, с самого начала освещая его тем светом, который сам поэт обретает только в его конце».34 В дальнейшем выясняется, что это свет «классового самосознания», «окончательное прояснение» которого происходит, по Благому, Болдинской осенью 1830 года.35
Осуществив социальную дифференциацию дворянства, изображенного в романе, Благой указывает на близость родовитого дворянства самому Пушкину, на резко негативное отношение поэта к «чиновной аристократии» и, наконец, на якобы имеющуюся у Пушкина особую концепцию провинциального дворянства. Эксплицируя эту концепцию, Благой опирается не на онегинский текст, а на «<Роман в письмах>». В дело опять идет ретроспективный метод, на сей раз куда менее оправданный, чем при определении родословной Онегина, поскольку в данном случае творческая история накладываемых друг на друга произведений не дает оснований говорить о внутренней общности замыслов. Тем не менее границы между текстами снимаются. В «<Романе в письмах>» Благой усматривает «целую стройную социально-экономическую теорию», суть которой заключается в том, что «дворянство сильно, поскольку оно сидит на земле, — источнике его классово-экономической мощи, — живет в своих поместьях, вотчинах, — прочно держится на хозяйственно-экономических корнях».36 Подтверждаемый текстом «<Романа в письмах>», такой взгляд Пушкина переносится Благим в смысловое пространство «Онегина», где смыкается с «почвеннической» трактовкой Татьяны, восходящей к Достоевскому. Но если писатель говорил о последствиях духовного отрыва от «почвы», то Благой переводит разговор на последствия социально-экономические и решительно подчиняет содержание романа избранной социологической трактовке.
Самый показательный пример — построение, относящееся к интерпретации характера главного героя. Благой обращается к чрезвычайно трудной проблеме мотивировки этого характера. Немотивированность байронического характера на русской почве — особая тема, продолжающаяся в романное творчество Лермонтова, Достоевского и Андрея Белого. Не углубляясь сейчас в нее, подчеркнем лишь закономерность и одновременно ошибочность утверждений, что байронизм Онегина — всего лишь «поза» (таково было, в частности, мнение Иванова-Разумника). Благой разрешает указанное затруднение тем, что переводит связанную с ним проблематику в социологическую плоскость.
Трактуя отказ Онегина Татьяне как свидетельство отсутствия «озабоченности в отношении продолжения своего рода», обреченного, таким образом, пресечься (явно досочиненный сюжетный элемент), Благой утверждает, что «биологическое вымирание и классовый, экономический ущерб» служат прямой причиной «преждевременной старости души» героя.37 Он — «последний в роде», «живой мертвец».38 Здесь сюжет романа очевидным образом домыслен, но еще важнее, что атрофия родового инстинкта объясняется классовым вырождением, которое и выдвигается в качестве мотивировки характера: «…стараясь объяснить „сознание“ своего героя, Пушкин вынуждается обратиться к его классово-экономическому „бытию“». Далее следует программная фраза: «Психология на наших глазах оборачивается социологией».39 Так происходит подчинение избранному методу, который постепенно перестает быть одним из «языков» интерпретации произведения и претендует на захват всего смыслового поля, включая и те его фрагменты, которые остаются нарочито незаполненными у Пушкина. В новых исторических условиях Благой закрепляет то, что было намечено Ивановым-Разумником, пусть и резко смещая акценты. Подводя промежуточный итог, можно сказать, что к 1930-м годам предметом пушкинского романа стала считаться реальность социально- психологическая.
Глава «Евгений Онегин» в книге Г. А. Гуковского «Пушкин и проблемы реалистического стиля» (1948) написана в характерном для ученого историко-литературном ключе. Однако и в данном случае такое определение метода, при всей его справедливости, не исчерпывает природы исследования. Несомненно талантливое, основанное на множестве точных наблюдений над поэтическим текстом, оно подчинено нескольким предвзятым идеям, которые доказываются по ходу анализа.
Одна из центральных идей сводится к следующему. Начиная со второй половины 1820-х годов Пушкин встал на путь историзма. Историзм же является мостом от романтизма к реализму. «Евгений Онегин» стал «первой победой реализма на его первой ступени — исторической» и одновременно — «первым реалистическим романом мировой литературы», знаменующим, кроме того, «победу реализма в поэзии».40 Идея эта ничем не подкреплена даже с историко-литературной точки зрения. Проигнорированным остается тот факт, что историзм был характерной чертой романтической культуры. Историзм объявлен достижением реализма и рассматривается как несомненный признак реалистичности произведения. Более того: историзм объявлен «методом», «применяемым» Пушкиным: «…обнаружив истину, метод, новое видение действительности, Пушкин применяет все это почти во всех возможных направлениях».41 Автор «Евгения Онегина» предстает едва ли не теоретиком, который «обосновывает» своим «методом (методом историзма. — М. В.) истолкование центральных проблем общественного мировоззрения своей эпохи».42 Гуковский пишет даже о «методологическом значении любовной тематики в романе» Пушкина.43
Ученый крепко связывает все свои построения с идеей прогресса, и «исторический» реализм уже содержит в себе, с его точки зрения, зерно социального реализма. Продолжая традицию, восходящую к Белинскому, Гуковский пространно рассуждает о взаимоотношениях личности и среды, личности и «строя жизни» (читай: социального строя). Заявляя, что «понятия среды и типа — едва ли не главные понятия реализма», Гуковский выводит из этого, что они-то и составляют у Пушкина «основу его реалистического метода».44 Объявляя это открытием Пушкина, Гуковский пишет, что с момента этого открытия «изображению, истолкованию, а затем и суду подлежал» в его творчестве «не столько человек, сколько среда».45 Само собой разумеется, что, исходя из таких постулатов, исследователь широко разворачивает рассуждения об Онегине как «лишнем человеке».
Во всем этом проявляется взгляд из исторической ретроспективы, причем ретроспекция возникает как наложение на исследуемый текст целой системы оценок и предпочтений, сложившихся далеко за пределами пушкинской эпохи и настойчиво приписываемых исследователем пушкинскому сознанию.
Так, высшая ценность «объективного бытия», объявленная эпохой Гуковского, заставляет его игнорировать особенности поэтики романа и утверждать, что главные герои «совершенно отделились от автора, приобрели объективное бытие и обоснование», а автор «равен им в качестве такого же объективного лица, также возникшего из той же исторической среды».46 Показательно, что, отвлекшись от этого тезиса и перейдя к проблемам, связанным с поэтикой, Гуковский пишет уже о «сложном образе» автора-повествователя: «В нем мы увидим и черты, близкие Татьяне, и черты, близкие Онегину…».47
Идею Достоевского об отрыве Онегина от родной почвы Гуковский трактует в духе собственного времени, впадая в почти фельетонную стилистику (в этой связи он постоянно употребляет, например, слово «иностранщина»). Повторяя многократно сказанное до него, Онегину он противопоставляет Татьяну как тип народный и национальный, выстраивая эти два понятия в определенную иерархию: оказывается, что Пушкин «углубляет понятие национального до понятия народного».48
Такого рода построения сопровождаются замечательными наблюдениями, рассеянными по тексту главы об «Онегине». Достаточно указать на тезис об исключительности типического,49 на положение о том, что «Евгений Онегин» «дал художественную формулу» русского романа,50 на анализ стиля, на трактовку Онегина и Татьяны как «суженых друг другу»: «Как личности-потенции они равны друг другу, они достойны друг друга, они оба прекрасны; они даже тайно и глубоко близки друг другу».51 Но от рассуждения о личностях-потенциях Гуковский переходит к разговору об исторической реализации, о влиянии среды — т. е. опять же к одной из предвзятых идей, искажающих здесь, как и во множестве иных случаев, глубокое суждение о романе.
Работа Гуковского демонстрирует те негативные последствия, которые возникают в литературоведении, следующем за Белинским. Именно эта работа в ее профанированном виде составила, как представляется, основание расхожих школьных трактовок пушкинского романа. Важно, однако, понимать, что ее «советский» колорит лишь по-новому окрашивает ту тенденцию, которая сложилась задолго до наступления советской эпохи.
Нарушим хронологический порядок обзора, чтобы пунктирно наметить дальнейшее развитие той линии интерпретаций, которая восходит к Белинскому и Достоевскому. Это направление весьма органично выходит за рамки литературоведения, возвращаясь к основаниям публицистики. Наиболее яркий пример тому — поздние пушкинские работы В. С. Непомнящего (в частности, его книга «Пушкин. Русская картина мира» (1999)), в которых филолог берет на себя функции проповедника. Эта установка позволяет определить филологический метод Непомнящего термином, предложенным А. Н. Хоцем и введенным в оборот С. Г. Бочаровым: «религиозная филология».52 Впрочем, тот раздел упомянутой книги, в который автор включил все, что им было написано об «Онегине» к тому времени,53 почти свободен от проповеднической установки, а потому в рамках данного исследования обсуждать этот аспект, по счастью, не имеет смысла.
Что же касается метода, примененного здесь к пушкинскому роману, можно рискнуть определить его как метод экзегетический. Не случайно в книге приведена обширная цитата из «Пира» Данте, содержащая классическое различение четырех уровней истолкования текста (уровни буквального, аллегорического, морального и анагогического смыслов). Думается, эта выписка нужна была Непомнящему для опоры на традицию, которой он пытается следовать.
Одним из древнейших герменевтов называют иногда Аарона: его устами говорил косноязычный Моисей, получивший откровение — но не дар речи.54 Однако Непомнящий говорит о Пушкине. Какого же рода герменевтический акт (не будем сейчас отличать его от экзегетического) может быть осуществлен по отношению к тому, чьим даром является именно слово? Герменевтические усилия получают в данном случае прямо противоположную направленность. Их цель состоит не в том, чтобы пробиться из сферы неизреченного в сферу речи, но в том, чтобы вернуться из области слова в область неизреченного. «Четвертый смысл называется анагогическим, — цитирует Непомнящий «Пир» Данте (II, I), — <…> он <…> через вещи означенные выражает вещи, причастные вечной славе…».55 Поэтический мир Пушкина — «вещи означенные». Как «причастная вечной славе» истолкована в книге духовная биография Пушкина. Она-то и служит основным предметом внимания, истолкования, экзегезы.
Как видим, в работе Непомнящего тоже происходит выход к внетекстовой действительности, тоже осуществляется домысливание текста. Но делается это вполне осознанно, и направление домысливания задано вполне определенно.
Главы «Онегина» прочитаны в книге как тексты, по которым реконструируется история духовной жизни поэта. Возникает совершенно особый, весьма редкий тип биографии.56 История жизни прослеживается не через факты — скорее они получают свое истолкование через поэтический текст. Возникает нечто вроде альтернативы возобладавшему в пушкинистике к концу XIX века биографическому методу.
Духовная жизнь Пушкина прочитывается и реконструируется Непомнящим по законам драматургии: исследователю важно увидеть то драматическое событие, которое совершается, запечатлеваясь в тексте. В статье «Время в его поэтике» Непомнящий пишет: «Если обычное лирическое стихотворение есть лирический акт, то пушкинское стихотворение — лирический процесс».57 Пушкинское «я» меняется — «претерпевает, переживает или разрешает некую внутреннюю коллизию» — прямо по ходу стихотворения. И это сближает «законы пушкинской лирики с законами драмы: и там, и там — коллизия, разрешающаяся во времени; лирический процесс пушкинского стихотворения есть, в этом смысле, драматический процесс».58
«Онегин» тоже прочитан Непомнящим как текст, в основе поэтики которого — процесс, движение, становление, не запрограммированное заранее, но организуемое «на каждом шагу», по мере писания, вместе с ходом и движением жизни. Особое значение придано поглавному изданию романа. Каждая глава — самозначимый, отдельный этап. Продолжение следует, но оно не предрешено, к моменту выхода очередной главы будущее романа открыто, как и будущее его автора.
Непомнящий подчеркивает лирическую основу романа, сплетенность «повествовательного сюжета» (сюжет героев) с «поэтическим сюжетом» (сюжет автора). В результате звенья сюжета героев осмысляются как инобытие сюжета внутренней жизни автора. И если лирические отступления «отступают» от «повествовательного сюжета», то последний, в свою очередь, может быть воспринят как отступление от сюжета лирического.
Тезис о процессуальности текста вызывает, однако, одну серьезную методологическую трудность. Непомнящий утверждает, что «процесс романа» рассматривается им «не как эмпирическая реальность истории создания текста, а как структурный принцип самого произведения, реализуемый в беловом тексте».59 Между тем основной предмет внимания исследователя здесь, как и в разделах о лирике, — «история души», запечатленная в романе. Непомнящий постоянно сознает, что перед ним — поэтическая форма, но его экзегетические усилия направлены прежде всего на внетекстовую реальность, которая реконструируется, исходя из показаний текста. Понятно, что природа реальности, выход к которой ищет исследователь, совсем иная, чем в тех работах, о которых до сих пор шла речь.
Обзор интерпретаций, в которых происходит выход за пределы пушкинского текста и его достраивание критиком или исследователем, будет неполным, если мы не представим еще один способ такого подхода к «Онегину»: книгу А. Б. Пеньковского «Нина: Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении» (1999). Этот объемный труд можно было бы вообще рассматривать особняком, как выпадающий из всего ряда «онегинской» литературы, если бы его автор, погружаясь в пушкинский текст, не ставил себе уже знакомой нам и по-разному решаемой задачи: домыслить то, чего в тексте не сказано. Осуществляется это, однако, на совершенно самостоятельных позициях, не совпадающих ни с одним из рассмотренных случаев.
Книга Пеньковского построена на сочетании лингвистического, антропонимического и мифопоэтического прочтения романа. Под мифологическим слоем текста Пеньковский понимает не отсылки к существующим архаическим мифологемам, а некое смысловое и сюжетное целое, формирующееся на любом (по-видимому) отрезке исторического времени. Во всяком случае, эксплицируемый им миф сложился в культуре Золотого века. Это миф об определенном женском типе и о судьбе, на которую он обречен. «Не подчиняющаяся никаким доводам разума, не знающая границ и свободная от „предрассуждений“ света роковая страсть и неизбежная нравственная или также и физическая гибель как расплата и возмездие, но одновременно и как оправдание и возвышение, вызывающее поэтому смешанную реакцию осуждения и сочувствия, — вот обязательные слагаемые этого мифа».60 Его архетипические основания тоже указаны — это идея изначального единства Эроса и Танатоса. Однако самый миф реконструируется исключительно по данным культуры первой половины XIX века. Исследовано функционирование имени Нина в поэзии той эпохи, и из совокупности этих данных выведен миф о Нине. «Как это вообще характерно для мифов нового времени, — пишет исследователь, — миф о Нине не имеет основного текста. Лишь с некоторой долей условности на эту роль может претендовать лишь „Бал“ Баратынского. Миф живет виртуальной жизнью в воздухе культуры, в культурном сознании своего времени, воплощаясь во множестве частных текстов (текстов литературы и искусства, но также и текстов жизни!), которые группируются вокруг имени Нина как организующего начала и центра, и втягивают в себя подходящий материал из множества разновременных, разнонациональных и разноименных источников».61
Подкрепленная многообразием примеров, развернутая на обширнейшем материале, концепция Пеньковского, при всей ее непривычности для традиционной филологии, выглядит весьма убедительно. При более строгом взгляде становится видно, что целое мифа о Нине складывается только на основании сюжета «Бала». Но в то же время характеры нареченных этим именем лирических героинь такому целому не противоречат. Быть может, несколько преуменьшена роль имени Нинон де Ланкло, на которое, возможно, и ориентированы имена многочисленных героинь русской традиции (во всяком случае, имя великой французской куртизанки не случайно появляется в тексте «Бала»62). Но Пеньковский, по-видимому, как раз не желал отталкиваться от такого кристаллизующего центра, ему дорого представление о растущем из самого себя мифе, стихийно захватывающем фрагменты жизненной и литературной реальности и лишь однажды сконденсированном у Баратынского.
Анализ поэтических текстов, оперирующих именем Нина, предшествует анализу романа в стихах. Эпизодическое явление Нины Воронской в восьмой главе «Онегина» Пеньковский трактует как ключ к сюжету. Он видит в Нине «утаенную любовь» Онегина, ту его страсть, которая определяет его поведение на протяжении всего романа. Антропонимике в этом анализе отведено самое значительное место. Исходя из характера Онегина (а точнее, из приведенной выше интерпретации его характера Белинским63), Пеньковский утверждает, что его возлюбленная могла называться не иначе, как Ниной, т. е. она должна была соответствовать тому типу, который обозначен этим именем в культурной традиции. Отсюда — перипетии, уготованные героине, которая звалась Татьяной (не-Ниной). Возникает представление об «антропонимической предопределенности» сюжета.64
Все построения Пеньковского можно было бы квалифицировать тем же словом «домысливание», которым многое определяется в интерпретациях Достоевского, Гуковского и некоторых других. Но путь, которым движется исследователь, в данном случае совершенно иной. Пеньковского действительно интересует то, что прямо не названо в романе, в этом он отдает себе полный отчет и, кроме того, на это же обращает внимание своих читателей, предпосылая анализу романа ряд эпиграфов, указывающих на данное обстоятельство. Главное же заключается в способе домысливания. Материал для него не привносится извне, из языка, традиций или идеологии, не соприкосновенных с пушкинскими. Напротив того, предпринято глубинное погружение в язык Золотого века, в пушкинское словоупотребление. Все, что домыслено, буквально соткано из пушкинской словесной материи. А приписанный роману сюжетный ход, связанный с утаенной любовью главного героя, непосредственно связан с генеалогией этого героя, восходящей к «Кавказскому пленнику».
В книге Пеньковского мы находим удивительный случай продолжения романной жизни не за пределами романа, но внутри созданного Пушкиным словесного поэтического пространства, которое, как организм, оказывается способным к самодвижению и саморазвитию — в частности, к саморазвитию заложенной в нем вариативности сюжета.65
У истоков принципиально иного направления исследований, обращенных прежде всего к поэтике пушкинского романа, стоит незавершенная статья Ю. Н. Тынянова «О композиции „Евгения Онегина“». Несмотря на то, что она писалась в 1921–1922 годах,66 о прямом ее влиянии на работы по поэтике «Онегина», появившиеся в 1960-е — первой половине 1970-х годов, говорить не приходится, поскольку статья увидела свет только в 1975 году.67 В ней, однако, намечены многие принципиальные положения, опубликованные при жизни исследователя не только в трудах, непосредственно посвященных Пушкину и его эпохе, но и в работах теоретического характера (в частности — в книге «Проблема стихотворного языка», 1924). Таким образом, общее влияние тыняновского метода на пушкинские штудии второй половины ХХ века несомненно. И поскольку предметом данного исследования является не история науки, а обзор рецепций романа в стихах, позволительно будет обратиться непосредственно к «онегинской» статье Тынянова, которая чрезвычайно показательна для того принципиального поворота в отношении к пушкинскому тексту, который произошел благодаря усилиям формалистов. Различение систем поэтического и прозаического языков, с самого начала определившее методы их работы, выдвинуло на первый план изучения поэтическую природу «Евгения Онегина», десятилетиями пребывавшую в забвении. Стиховая речь и поэтика романа попали, наконец, в центр внимания.
В качестве главного своего тезиса Тынянов выдвигает именно разграничение прозы и поэзии. «…Мы не вправе относиться к семантическим элементам стихотворной речи так же, как к семантическим элементам речи прозаической, — пишет он. — Смысл поэзии иной по сравнению со смыслом прозы».68 Ученый вводит понятие «деформации», которой подвергаются прозаические элементы, попадающие в стиховой контекст.69 Это теоретическое положение окажется, как увидим, наиболее продуктивным для всех последующих работ по поэтике «Евгения Онегина».
Практически во всех критических и историко-литературных разборах «Евгения Онегина», относящихся к XIX — началу ХХ века, в центре внимания были герои романа, становившиеся предметом анализа в качестве характеров или типов. И именно в связи с интересом к герою Тынянов указывает на необходимость учитывать фактор «деформации»: «Крупнейшей семантической единицей прозаического романа является герой — объединение под одним внешним знаком разнородных динамических элементов. Но в ходе стихового романа эти элементы деформированы; сам внешний знак приобретает в стихе иной оттенок по сравнению с прозой. Поэтому герой стихового романа не есть герой того же романа, переложенного в прозу. Характеризуя его как крупнейшую семантическую единицу, мы не будем забывать своеобразной деформации, которой подверглась она, внедрившись в стих. Таким стиховым романом был „Евгений Онегин“; и такой деформации подверглись все герои этого романа».70 Данный тезис подхватывается в последней из написанных главок статьи: «Деформация романа стихом выразилась и в деформации малых единиц, и в деформации больших групп — и наконец, деформированным оказался в итоге весь роман; из слияния двух стихий, из их взаимной борьбы и взаимного проникновения родилась новая форма. Деформирующим элементом в „Евгении Онегине“ был стих; слово как элемент значащий отступило перед стиховым словом, было затемнено им».71
Тынянов отмечает, что стиховая форма довлела над Пушкиным, постоянно колебавшимся в определениях жанра между поэмой и романом, а в определениях частей произведения — соответственно между песнью и главой. Выбор в пользу романа усиливал «деформацию», сталкивая элементы поэзии и прозы, «смещая» последние в контексте стиховой речи. Уже одно это задавало двупланный характер произведения, поддержанный тем, что персонажи поданы как пародийные тени старых романов. «Онегин» в значительной мере строится как «воображаемый роман», а главные персонажи «воображают» себя героями текстов-предшественников.
Не удивительно, что интерес Тынянова к столкновению стиха и прозы обращает его пристальное внимание на вторжение разговорных интонаций в стих. В этих случаях «деформация» стихом прозы особенно очевидна. Указаны и другие варианты подобной «деформации»: «преобращение» тех элементов, где семантика была организующим принципом, в элементы фонические; выдвижение слов второстепенного значения на степень полноправных слов и др. То конспективный, то развернутый анализ подобных случаев — едва ли не единственная часть статьи, где выдвигаемые методологические принципы подкрепляются основательными доказательствами.
Другие принципы остаются в незавершенной работе скорее на уровне деклараций. К числу важнейших из них относится следующий: «Пушкин сделал все возможное, чтоб подчеркнуть словесный план „Евгения Онегина“. Выпуск романа по главам, с промежутками по нескольку лет, совершенно очевидно разрушал всякую установку на план действия, на сюжет как на фабулу; не динамика семантических значков, а динамика слова в его поэтическом значении. Не развитие действия, а развитие словесного плана».72 Этот тезис побуждает Тынянова обратить особое внимание на пропущенные строфы романа. Он трактует их как композиционный прием, указывающий на то, что главнейшее для Пушкина — не план, не фабула, а «словесная динамика произведения».73
И еще один тезис, оставшийся не развернутым, но имеющий чрезвычайное значение и со всей очевидностью указывающий на автореферентный характер поэтики произведения, — это тезис о том, что предметом романа «Евгений Онегин» является сам роман, что с этой точки зрения произведение Пушкина — «роман романа».74
Незавершенная статья Тынянова была революцией в прочтении пушкинского текста. Но должно было пройти еще несколько десятилетий, прежде чем такой взгляд на «Онегина» начал завоевывать позиции в филологии. Как уже говорилось, исследования, в которых он проявился, стали выходить в свет еще до публикации тыняновской статьи — сказалось влияние других трудов Тынянова75 и общие завоевания формального метода.
Одна из наиболее ранних работ такого рода — статья В. М. Марковича «Из наблюдений над композицией „Евгения Онегина“». Опубликованная в 1963 году,76 всего через шесть лет после издания книги Гуковского, она принадлежит совершенно иной ментальной эпохе. Ученый, переживший период сталинизма, и исследователь, начавший свой путь в период оттепели, находятся в несопоставимых условиях, поэтому оценочное сравнение их подходов к пушкинскому тексту должно быть сразу вынесено за скобки. Однако свобода от предвзятых идей, продемонстрированная в работе Марковича, должна быть отмечена не только как знамение времени. Такого рода идеи в совершенно разные эпохи направляли мысль Белинского, Достоевского, Иванова-Разумника, Благого и даже Тынянова, который исходил из общего положения о необходимости различать стиховую и прозаическую речь. Свобода от пресуппозиций имеет в случае Марковича именно методологическое значение, поскольку именно она позволяет исследователю предпринять имманентный анализ текста.
Имманентный анализ предполагает, что исследователь остается с текстом один на один и, не навязывая ему своих мыслей, вслушивается и всматривается в него до тех пор, пока его ключевые особенности не проявятся со всей очевидностью. Имманентный подход не может миновать анализа поэтики, поскольку законы поэтики формируют плоть текста, и ее игнорирование равнозначно отвлечению от произведения. Не удивительно поэтому, что метод имманентного анализа и изучение поэтики идут рука об руку.
Статья Марковича целиком построена на внимании к особенностям поэтики романа: к совмещению разнородных стилевых элементов, затем — к совмещению разнородных жанровых элементов, затем — к смысловой многоплановости. Следует важный вывод: «Мысль уже не привносится в роман в виде заданной идеологической установки, а вырабатывается в нем самом»77 через искания главных героев. С каждым из них связана определенная концепция бытия, в рамках которой и ищутся ответы на «последние вопросы»: концепция «мировой скорби» (Онегин), концепция романтического идеализма (Ленский), концепция сентиментализма, слившаяся со стихией органической народности (Татьяна). «Трем типам сознания соответствуют три плана или аспекта изображения»,78 которые в образно-речевой структуре романа преломляются в авторском слове. «В результате лирического слияния „автора“ с его персонажами система повествования начинает дробиться».79 «Изобразительная многоплановость рождает многоплановость речевую: возникает то характерное сочетание разнороднейших языковых элементов, которое составляет наиболее яркую особенность стиля „Евгения Онегина“».80 Переход из одной субъективной сферы в другую влечет за собой смену стилей и актуализированных жанровых элементов (последние тоже связаны со «сферами» трех главных персонажей). Финал романа «оказывается не всеобъемлющим смысловым итогом, а лишь одним из моментов изображения. В результате ни один из идейных аспектов романа не отменяет других».81
В статье описан эквивалент выделенного Тыняновым приема «деформации» прозы стихом. У Марковича это не названо ни приемом, ни деформацией, он обходится без терминологии формалистов и анализирует уже не отношения стиха и прозы, а тот способ организации словесного материала, который обеспечивает пушкинский полифонизм: авторское повествование попеременно преломляется через восприятие главных героев, внутренний мир персонажей «вовлекается в систему повествования; в свою очередь повествование словно погружается в сферы сознания героев».82
Центральным выводом статьи становится вывод о полифоническом принципе композиции романа, которому сопутствуют стилевая и жанровая полифония. О стилистической полифонии «Евгения Онегина» говорил и А. Л. Слонимский,83 на которого ссылается Маркович. Но лишь в статье последнего полифонический принцип трактуется как ключевая характеристика пушкинского романа.
В работах «тыняновского» направления идеи полифонии и диалогизма будут впоследствии возникать неоднократно.84 Между методологическими взглядами Тынянова и Бахтина имеется глубинное общее основание. Теория «деформации», по сути дела, обращена к «диалогу» различных семантических систем внутри одного текста. «Деформация» прозаической речи речью стиховой (центральный предмет интереса Тынянова) — частный случай подобного «диалога». Показательно, что, разрабатывая общую теорию многоголосого (и пародийного) романного слова, Бахтин то и дело приводит примеры из «Евгения Онегина».85 Полифонический принцип является одной из важнейших сущностных характеристик пушкинского поэтического слова.
Еще раз отступив от хронологического порядка, отметим подтверждение сказанному на «онегинских» страницах книги О. А. Проскурина, к которой только что была дана отсылка. Не принимая тезиса Бахтина о монологичности поэтического слова в противоположность романному диалогическому слову, Проскурин идет вслед за Тыняновым, но вносит в его теорию существенные поправки, демонстрирующие, в частности, диалогичность поэтического слова. Если Тынянов говорил о поэтическом языке как «деформации» языка практического (прозаического, коммуникативного), то Проскурин демонстрирует «деформирующую» обращенность поэтического слова пушкинского романа на поэтическое же слово предшествующей традиции. «Становление важнейших структурных принципов „романа в стихах“ связано <…> с развитием структурных принципов, оформлявшихся в поэтических жанрах».86 Проскурина интересует «деформирующее» столкновение разных жанровых образцов. Оно обозначено термином «деконструкция», основным предметом которой, как показано в работе, является элегическое слово Батюшкова. Последний раздел главы, посвященной «Евгению Онегину», — блестящий историко-литературный этюд, в котором эксплицирован поэтический «диалог» между пушкинским романом и «Балом» Баратынского.
Статья С. Г. Бочарова «Стилистический мир романа («Евгений Онегин»)» также представляет собой образец имманентного анализа, обращенного к поэтике произведения. За отправную точку взято положение о необходимости различать языки поэзии и прозы. Но этот исходный пункт анализа, по всей видимости возникший не без влияния формальной школы, обоснован Бочаровым с опорой на пушкинский текст, а именно — на заметку 1822 года, в которой сквозь противопоставление прозы и стихов проступает противопоставление «простого» и перифрастического стилей. Эту заметку Бочаров рассматривает как «своего рода теоретическую предпосылку стилистических построений „Онегина“».87 Можно предположить, что Бочаров сознательно противопоставлял свой метод и предмет исследования Д. Д. Благому и шире — социологическому подходу к пушкинскому материалу. Названия двух книг этих авторов явно напрашиваются на сопоставление: «Социология творчества Пушкина: Очерки» — «Поэтика Пушкина: Очерки».
Внутреннее движение работы Бочарова — это ход от стилистики пушкинского романа к гносеологии Пушкина. Перифрастический и простой («прозаический») стили, постоянно оспаривающие друг друга в первой главе романа, рассмотрены как полюса, соответствующие разным кругам реальности: аристократической жизни столицы и жизни ее простого люда. Полюса эти не остаются ни разобщенными, ни противопоставленными. Они лишь в первой главе поданы как контрастные друг другу. Но даже и там, где они разведены, «образ реальности возникает в сопоставлении двух разнонаправленных стилистических вариантов ее выражения; образ реальности возникает как ее „контрапункт“; два полюса выражения наводят на содержание, не заменяя его; сама реальность помещается „между“ этими разнонаправленными способами ее выражения».88
Бочаров выделяет в романе осознанную авторскую разностильность и бессознательную разностильность (мира Ленского, например). Стиль, таким образом, истолкован как носитель смысла. В пушкинском тексте обнаруживается высокая степень рефлексивности (поданная, если вернуться к различению языков прозы и поэзии, средствами поэзии). Вывод этот не акцентирован Бочаровым, но с очевидностью вытекает из его исследования.
Трактовка стиля как смысла естественным образом приводит к проблемам гносеологическим: «В отношениях между словами воспроизводится структура отношения слова к миру, гносеологическая структура действительности».89 Опорным понятием в разрешении этой проблемы становится в статье Бочарова понятие «перевода» (в определенном смысле оно является вариантом тыняновской «деформации»): «„Переводы“ являются творческой силой пушкинского романа, текст которого, мир которого созидается, строится „переводами“, переключениями с одного стилистического языка на другой, а в пределе — со всех и всяких „субъективных“ языков как бы на „объективный“ язык самой жизни. Строению мира романа в целом, таким образом, адекватно понятие „перевода“».90 Слово «перевод» характеризует многоязычность романа. А языковые отношения — это отношения «стилевых» языков к «простому» («прозаическому», «нестилевому») слову и «отношение вообще словесного выражения к реальности как содержанию. Настоящим и как бы последним подлинником является сама жизнь».91 Для слова, однако, возможно только «наведение» на этот подлинник, который обнаруживается при пересечении языков и стилей. «Простому», «голому» «прозаическому» слову нигде не дано доминировать, создавая иллюзию его тождества, совпадения с реальностью. Исследователь демонстрирует, что если такое слово утверждается в одном из фрагментов романной реальности, то оно почти непременно будет «переведено» на другой поэтический язык в какой-либо иной точке романного пространства.
Так имманентный анализ выходит к проблеме «объективной реальности», трактуя ее как данность, опосредованную художественным словом. Из всего смысла статьи явствует, что только в таком — опосредованном — виде реальность и подлежит рассмотрению, только в таком качестве о ней можно говорить как о предмете подражания.
Исследование Ю. М. Лотмана «Роман в стихах Пушкина „Евгений Онегин“: Спецкурс. Вводные лекции в изучение текста» было опубликовано в 1975 году. Оно внутренне связано с методологией структурализма, в частности с положениями, высказанными автором в статье «Динамическая модель семиотической системы» (1974), где речь идет о соотношении диахронического и синхронического аспектов семиотических систем, а также о соотношении их системных и внесистемных элементов. Однако, обращаясь к конкретному произведению, Лотман практически переводит эту терминологию на обычный язык литературоведения. В начале и в конце исследования он говорит о «рассмотрении внутренней организации текста», или о «внутритекстовом анализе» (в рамках настоящей работы этот метод обозначен как имманентный анализ), и об анализе историческом (т. е. историко-литературном). Внутритекстовый анализ обращен к синхронному срезу и системным элементам, исторический анализ — к элементам внесистемным и к диахронии. Ученый подчеркивает, что только сочетание этих двух подходов открывает дорогу к тексту.
Центральная мысль Лотмана заключается в том, что Пушкин, создавая «Евгения Онегина», стремился преодолеть литературность как таковую (а не какие-либо формы литературности) — на это и направлены всевозможные средства поэтики романа: заведомо оставленные в нем многочисленные противоречия, обыгрывание литературных трафаретов, авторская ирония, многообразные формы включения «чужой» речи, разнообразие форм авторской речи, содержащей метаструктурный пласт (авторское повествование об авторском повествовании), смешение точек зрения, столкновение прозаизмов с перифрастическим стилем, смена стилевых аспектов, сочетание непринужденности повествования («болтовни») со строгой строфической оформленностью текста, перемена местами персонажей из внетекстового мира и героев, напоминания, что герои — плод фантазии автора и др. В целом все это может быть охарактеризовано как нарушение структурных инерций.
По Лотману, художественная модель пушкинского романа «воспроизводит такую важную сторону действительности, как ее неисчерпаемость в любой конечной интерпретации».92 Поясняя в очередной раз главный тезис своего исследования, Лотман пишет: «Так возникает задача построения художественного (организованного) текста, который имитировал бы нехудожественность (неорганизованность), создания такой структуры, которая воспринималась бы как отсутствие структуры. <…> Эффект упрощения достигался ценой резкого усложнения структуры текста».93 Резкое усложнение структуры может, по мысли Лотмана, имитировать действительность именно потому, что законы ее организации неисчерпаемы. В другом месте работы исследователь формулирует свою основную мысль так: «Пушкин <…> поставил перед собой, по сути дела, невыполнимую задачу — воспроизвести не жизненную ситуацию, пропущенную сквозь призму поэтики романа и переведенную на его условный язык, а жизненную ситуацию как таковую».94 Это побуждает ученого выделить в романе «метатекстовый» пласт, возникающий в тех случаях, когда объектом изображения становится само изображение (подразумевается, что для собственно «текста» объектом изображения служит действительность). Речь в конечном счете идет о саморефлексии текста, о его обращенности на самое себя, о симеозисе.
Мысль Лотмана о «воспроизведении жизненной ситуации как таковой» заставляет вспомнить Белинского, как и мысль о том, что внутренняя организация романа воспроизводит неисчерпаемость интерпретаций действительности.95 Эти точки сближения позволяют особенно ясно определить фундаментальную разницу в их воззрениях. В обоих случаях речь идет о мимесисе, о подражании текста действительности (в конце концов, неслучайно Лотман говорит о «пушкинском реализме в „Онегине“»96). Но для Белинского действительность — область, непосредственно открытая наблюдению и переживанию. Лотман порой определяет ее так же, однако главное подобие, устанавливаемое между реальностью и текстом, имеет для исследователя совершенно иную природу. Лотмана более всего интересует структурное сходство поэтического мира романа с некоторыми законами организации того, что мы называем действительностью. Можно было бы сказать, что роман по-прежнему понимается как ее модель, хотя моделируемыми оказываются отнюдь не внешние ее проявления.97 Этому, однако, мешает целый ряд замечаний исследователя. Одно из них звучит так: «Пушкинская задача <…> была <…> превращать не жизнь в текст, а текст в жизнь. Не жизнь выражается в литературе, а литература становится жизнью».98
Мы вновь встречаемся с упразднением границ между текстом и жизнью, но осуществляется оно принципиально иначе, чем в XIX столетии, и не столь безоглядно, как тогда. Утверждая, что Пушкин хотел создать текст, который воспринимался бы не как текст, а как его противоположность — внетекстовая действительность, Лотман время от времени пытается несколько смягчить свою мысль, подчеркивая, что речь идет всего лишь об иллюзии действительности, создавая которую произведение должно оставаться литературой.99 Выразительно, однако, само колебание между этими двумя позициями: моделируемая в романе структура действительности понимается то как ее собственная составная часть, то как всего лишь ее подобие, принадлежащее иному уровню бытия. И если вторая позиция так или иначе традиционна, то первая традицию резко нарушает.
В 1999 году вышли две книги Ю. Н. Чумакова: «„Евгений Онегин“ А. С. Пушкина: В мире стихотворного романа» и «Стихотворная поэтика Пушкина», где объединены статьи, писавшиеся на протяжении трех десятилетий — с 1969 по 1999 год. Большая половина второй из названных книг — статьи, посвященные «Евгению Онегину». Подход к пушкинскому роману, намеченный Тыняновым, находит у Чумакова свое «полное развитие» и одновременно — принципиальную трансформацию, идущую в том же направлении, что и в исследовании Лотмана, но еще более решительную.
Тыняновское соположение стихов, прозы и графических эквивалентов текста отливается в книге Чумакова в формулу «Eвгений Онегин» «написан стихами, прозой и значимой пустотой».100 Разворачивая эту предельно сжатую формулировку, Чумаков обнаруживает целую жанровую традицию, идущую от «Онегина» вплоть до начала ХХ века («Дневник девушки» Е. Растопчиной, «Двойная жизнь» К. Павловой, «Младенчество» Вячеслава Иванова, «Первое свидание» Андрея Белого и др.). Уже в одном этом видна характерная для Чумакова черта: то, что сжато почти в точку, может быть распространено на самое широкое пространство.101 Но и обратно: обширный круг поэтических явлений может быть, как к своему внутреннему закону, сведен к формуле. Эта почти математическая манера осмысления материала, сопровождающаяся многочисленными физико-математическими метафорами, далеко не случайна.
Метафорический язык часто противопоставляют языку строгому и точному — «научному». Между тем потребность в метафоре возникает подчас именно тогда, когда точно схваченное мыслью явление теряет свои уникальные очертания при описании его стершимися словами, тем более — «бывшими в употреблении» терминами, направляющими сознание по заезженному пути. А большинство привычных и четких терминов по своему генезису представляет собой не что иное, как слова с однажды сдвинутым метафорическим значением.
Взгляд Чумакова на текст отличается как раз той особенной остротой зрения, которая схватывает незамеченное, а потому и неназванное, не имеющее готовых имен и определений. Тогда-то ученый и прибегает к метафорам. Говоря тыняновским языком, здесь происходит «деформация» привычной терминологии, которая соответствует разнообразным «деформациям», происходящим в поэтическом мире пушкинского романа. Как кажется, в том, что самые органичные для Чумакова метафоры черпаются из языков физики и математики, — не только стремление приблизиться к строгости «точных дисциплин», но и нечто гораздо большее, связанное с пониманием природы того предмета, который избран исследователем.
Лотман видел в «Онегине» модель неисчерпаемой структуры действительности — Чумаков воспринимает поэтический мир романа как обладающий тем же онтологическим статусом, что и любой другой ее фрагмент. «Eсли для нас „Евгений Онегин“ — аналог универсума, а универсум покоится сам в себе, то это представление должно быть как-то перенесено на роман. <…> В „Онегине“ все строится на включениях и взаимовключениях. Мы находимся внутри мироздания, а не рядом с ним. Картина мира, которую мы рассматриваем, — это тоже метафора. На самом деле мы всегда в картине».102 Онегинский мир воспринят Чумаковым как особый космос, обустроенный по определенным законам, со своими, созданными внутри него и действительными только в его рамках предметами и явлениями, а также своим собственным, действительным только в его рамках языком. Поскольку в размере и ритме, в рифмах и созвучиях проявляется числовая и музыкальная основа стиха, поэтическая речь имеет музыкальный и одновременно математический рисунок, а потому точно так же, как физическая организация космоса, она может быть описана через математические законы. Ритм, который придает стиху живое дыхание, живую пульсацию, — тоже мировая универсалия, не случайно его называют иногда пульсацией вселенной. Чумаков пишет: «Существует гипотеза пульсирующей вселенной. Она приложима к „Евгению Онегину“ как микрокосму».103
Определение поэтического романного мира как микрокосма если и можно трактовать как метафору, то только как призванную передать точный смысл. Предложенное в 1999 году понимание онегинского текста как микрокосма, встроенного в макрокосм и подобного ему, как кажется, на данный момент завершает историю сущностных трактовок природы пушкинского романа. На этой концепции, как и на других, тоже лежит печать времени, но не собственно конца 1990-х. Скорее в ней можно видеть предвосхищение теперь уже вплотную подступившей к нам эпохи, когда виртуальные миры обретут онтологическое равноправие с остальной реальностью. Воздержимся от оценки такой перспективы и отметим другое: взгляд на поэтический мир как на микрокосм, который может быть воспринят и описан с помощью тех же физико-математических понятий, что и мир природный, объединяет обе прослеженные здесь линии рецепции пушкинского романа.
В заключение необходимо сказать следующее. При всем полярном различии тенденций, доминирующих в каждой из двух описанных линий рецепции, ни одна из них не чуждалась тех интересов, которые были характерны для другой. Адепты первого направления оставили множество замечательных наблюдений о художественном мире романа, адепты второго так или иначе решали вопрос о референтных связях поэтического мира с тем, что ему внеположно. При всей емкости терминов «мимесис» и «семиозис», различить с их помощью эти две тенденции можно лишь с долей условности. «Действительность», «отраженная» в «Онегине», практически всякий раз представала как заведомо проинтерпретированная (идеологически, мифопоэтически, социально) — т. е. как уже «означенная», и лишь сами интерпретаторы чаще всего склонны были отождествлять предложенные ими «значения» с самой реальностью. С другой стороны, в исследованиях, основанных на представлении об автореференциальности поэтического слова, ему, как правило, подыскивалась «пара», не обладающая этим признаком. В качестве таковой могло рассматриваться и прозаическое (коммуникативное, практическое) слово, и мир, принципиально не поддающийся исчерпывающему определению через какую бы то ни было систему значений.
Каждое из двух направлений осуществляло «перевод» пушкинского романа на язык собственной культуры, и у каждого были свои преимущественные заслуги. Первое ввело «Онегина» в следующую литературную эпоху XIX столетия, а затем послужило идеологическим эскортом, сопровождавшим его вхождение в советскую эпоху в качестве классического текста, благодаря чему был сохранен его ценностный статус. Механизм такой адаптации был связан с размыканием, размыванием, иногда — упразднением границ поэтического мира.104 Второе направление, не получившее столь резонансного отклика, восстановило эти границы, а вместе с ними — собственную жизнь поэтического слова, и в частности — ту его автореферентную природу, которая важна для поэзии Золотого века. Так же, как первое, оно пользовалось системой различений, неведомой и даже чуждой культуре пушкинского времени, но открывающей новые способы взаимодействия с ней.
1 Об этих двух концептуальных подходах к литературе и полемиках между их сторонниками см., например: Компаньон А. Демон теории: Литература и здравый смысл / Пер. с фр. С. Зенкина. М., 2001. С. 113–162.
2 Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1955. Т. 7. С. 432.
3 Там же. С. 441, 445.
4 Там же. С. 440.
5 Там же. С. 469.
6 Там же. С. 467.
7 Там же. С. 457.
8 Существенно, что к моменту работы над онегинскими статьями в число литературных впечатлений критика уже входил «Герой нашего времени».
9 Пушкинская речь была начата 13–14 мая и завершена 21–22 мая 1880 года.
10 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1988. Т. 30. Кн. 1. С. 156.
11 Там же. Т. 26. С. 114.
12 Там же. Т. 25. С. 20.
13 Под свежим впечатлением от только что произнесенной речи Достоевского П. В. Анненков сказал Н. Н. Страхову: «Вот что значит гениальная художественная характеристика!» (Страхов Н. Н. Пушкинский праздник (Из «Воспоминаний о Ф. М. Достоевском») // Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1964. Т. 2. С. 351).
14 Речь идет о трактовках Ивановым романного мира Достоевского.
15 Берковский Н. Я. <О Достоевском> // Звезда. 2002. № 6. С. 136–137.
16 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 140.
17 Там же. С. 142.
18 Там же.
19 Для наглядности выпишем все, что сказано Пушкиным о муже Татьяны: «…Какой-то важный генерал…»; «…Кто? толстый этот генерал?..»; «…За нею важный генерал…»; «…и всех выше / И нос и плечи подымал / Вошедший с нею генерал…»; «…Князь на Онегина глядит / <…> Князь подходит / К своей жене и ей подводит / Родню и друга своего…»; «Приходит муж. Он прерывает / Сей неприятный tête-à-tête; / С Онегиным он вспоминает / Проказы, шутки прежних лет. / Они смеются…»; «…Что муж в сраженьях изувечен, / Что нас за то ласкает двор…»; «…Но шпор незапный звон раздался, / И муж Татьянин показался…» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: [В 16 т.]. М.; Л., 1937. Т. 6. С. 162, 163, 171, 171–172, 173, 187, 189).
20 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 140.
21 См.: Пушкин А. С. Собр. соч. СПб., 1909. Т. 3. С. 205–234.
22 Иванов-Разумник. Соч. [Пг.], 1916. Т. 5.
23 «Создает человека природа, но развивает и образует его общество. Никакие обстоятельства жизни не спасут и не защитят человека от влияния общества» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. 7. С. 485).
24 Иванов-Разумник. Соч. Т. 5. С. 87.
25 Там же. С. 53.
26 Там же. С. 52.
27 Там же. С. 51.
28 «Массы людей всегда приспособляются к среде и составляют ту плотную стену духовного мещанства, перед которой иногда опускаются в бессилии руки даже самых сильных людей. Эти сравнительно немногие сильные духом люди, представители индивидуализма, представители настоящей интеллигенции, не примиряются с пассивным приспособлением к среде; их задача обратная — приспособление среды к вечно новым запросам человеческого духа. А между этими двумя берегами мещанства и индивидуализма <…> находятся люди, не умеющие ни приспособиться к среде, ни приспособить ее. Их можно назвать вообще „лишними людьми“; их можно найти всюду и везде — во всех веках, у всех народов» (Там же. С. 63).
29 Благой Д. Социология творчества Пушкина: Этюды. М., 1929. С. 138.
30 Там же. С. 70.
31 Там же. С. 73.
32 К деклассирующейся дворянской интеллигенции Благой относит также «многих лучших передовых людей» того времени: Батюшкова, Николая Тургенева, Чаадаева и др. (см.: Там же. С. 102).
33 Выразительно, что статья В. О. Ключевского «Евгений Онегин и его предки» (впервые: Русская мысль. 1887. № 2. С. 291–306), безоговорочно принятая Ивановым-Разумником, у Благого вызывает нарекания, связанные с тем, что Ключевский «вышивает по своей собственной исторической канве, не только не считаясь с рядом конкретных указаний пушкинского текста, но иногда <…> и прямо ему противореча» (Благой Д. Социология творчества Пушкина. С. 77).
34 Там же. С. 77.
35 Там же. С. 140.
36 Там же. С. 104.
37 Там же. С. 83.
38 Там же. С. 97.
39 Там же. С. 105.
40 Гуковский Г. А. Пушкин и проблемы реалистического стиля. М., 1957. С. 129, 130.
41 Там же. С. 131.
42 Там же. С. 139.
43 Там же. С. 196.
44 Там же. С. 168.
45 Там же. С. 170.
46 Там же. С. 143, 144.
47 Там же. С. 188.
48 Там же. С. 166.
49 См.: Там же. С. 146.
50 Там же. С. 130.
51 Там же. С. 172.
52 Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 585–600.
53 Указано Непомнящим — см.: Непомнящий В. С. Пушкин: Русская картина мира. М., 1999. С. 7.
54 См.: Pepin J. L’herméneutique ancienne: Les mots et les idées // Poétique: Revue de théorie et d’analyse littéraires. 1975. № 23. P. 292–293.
55 Непомнящий В. С. Пушкин: Русская картина мира. С. 156.
56 Близкое направление развивается в ряде ярких пушкинских работ И. З. Сурат.
57 Непомнящий В. С. Пушкин: Русская картина мира. С. 67–68.
58 Там же. С. 69.
59 Там же. С. 154–155. Непомнящий, правда, не удерживается в рамках белового текста, вольно или невольно он привлекает к анализу фрагменты творческой истории романа, параллельно писавшиеся стихотворения и письма.
60 Пеньковский А. Б. Нина: Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении. 2-е изд., доп. М., 2003. С. 77.
61 Там же. С. 70.
62 Баратынский называет свою героиню «питомицей прямой / И Эпикура, и Ниноны» (Баратынский Е. А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1989. С. 252 (Библиотека поэта. Большая сер.)).
63 Напомним: «…в глазах Онегина любовь без борьбы не имела никакой прелести…».
64 См., например: Пеньковский А. Б. Нина. С. 95.
65 Об этом свойстве онегинского сюжета и шире — пушкинской сюжетики как таковой см.: Бочаров С. Г. О возможном сюжете: «Евгений Онегин» // Бочаров С. Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 17–77.
66 См.: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 415 (комм. А. П. Чудакова).
67 В сб. «Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник. 1974» (М., 1975).
68 Тынянов Ю. Н. О композиции «Евгения Онегина» // Тынянов Ю. Н. Поэтика. Истории литературы. Кино. С. 56.
69 О «деформации» в связи с «Евгением Онегиным» говорится в том же смысле, что и в работе «Проблема стихотворного языка», обсуждая которую в письме к Г. О. Винокуру от 7 ноября 1924 года, Тынянов справедливо замечал, что более предпочтительным было бы использовать термин «трансформация» (см.: Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. С. 517 (комм. А. П. Чудакова, М. О. Чудаковой и Е. А. Тоддеса)).
70 Тынянов Ю. Н. О композиции «Евгения Онегина». С. 56.
71 Там же. С. 75.
72 Там же. С. 64.
73 Там же. С. 60.
74 Там же. С. 58.
75 Так, например, в статье «Пушкин», опубликованной в составе сборника «Архаисты и новаторы» (1929), подчеркивались роль стиховой природы пушкинского повествования, внесюжетное построение романа, его двупланность в самых ответственных фабульных пунктах, многократные переключения из одного плана в другой, «пародическое скольжение по многим замкнутым жанрам одновременно», в частности, пародическое использование элегии (см.: Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1968. С. 155–158).
76 Известия Академии наук Казахской ССР. Сер. общественных наук. Алма-Ата, 1963. Вып. 1. С. 84–94.
77 Маркович В. М. Из наблюдений над композицией «Евгения Онегина» // Маркович В. М. О Пушкине: Работы разных лет. СПб., 2023. С. 17.
78 Там же. С. 19.
79 Там же. С. 22.
80 Там же. С. 26.
81 Там же. С. 25.
82 Там же. С. 20.
83 См.: Слонимский А. Мастерство Пушкина. М., 1959. С. 337.
84 Сопоставление взглядов Бахтина и Тынянова на пушкинский роман в стихах см.: Проскурин О. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. М., 1999. С. 141–143. См. также: Лотман Ю. М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин»: Спецкурс. Вводные лекции в изучение текста // Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя. Статьи и заметки 1960–1990. «Евгений Онегин»: Комментарий. СПб., 1995. С. 411.
85 См., например: Бахтин М. М. Слово в романе // Бахтин М. М. Собр. соч. М., 2012. Т. 3. С. 82, 83, 103, 153, 175, 176.
86 Проскурин О. Поэзия Пушкина, или Подвижный палимпсест. С. 148.
87 Бочаров С. Г. Стилистический мир романа («Евгений Онегин») // Бочаров С. Г. Поэтика Пушкина: Очерки. М., 1974. С. 26.
88 Там же. С. 61–62. Выдвигая это положение, смыслообразующее для статьи, Бочаров ссылается на Н. Я. Берковского, писавшего, что «пушкинский образ „наводит“ на предмет, а не заменяет и не упраздняет его» (Берковский Н. Я. О «Повестях Белкина» // Берковский Н. Я. Статьи о литературе. М., 1962. С. 288).
89 Бочаров С. Г. Стилистический мир романа («Евгений Онегин»). С. 66–67.
90 Там же. С. 71.
91 Там же. С. 84.
92 Лотман Ю. М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин»: Спецкурс. С. 428.
93 Там же. С. 419–420.
94 Там же. С. 434.
95 Ср. приведенное выше уподобление Белинским сюжетной незавершенности «Онегина» жизненным событиям, не имеющим развязки.
96 Лотман Ю. М. Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин»: Спецкурс. С. 453. О реалистической манере, реалистическом стиле романа см. также: Там же. С. 411, 427.
97 Отметим разницу между моделью и отражением.
98 Там же. С. 453.
99 См.: Там же. С. 427, 444.
100 Чумаков Ю. Н. Стихотворная поэтика Пушкина. СПб., 1999. С. 63.
101 Ср. название посвященной исследователю книги: «Точка, распространяющаяся на все…»: К 90-летию профессора Ю. Н. Чумакова. Новосибирск, 2012.
102 Чумаков Ю. Н. «Евгений Онегин» А. С. Пушкина: В мире стихотворного романа. М., 1999. С. 69.
103 Там же.
104 Подчеркнем разницу между преодолением или пересечением границ и их отменой.
About the authors
Maria N. Virolainen
Institute of Russian Literature (Pushkinskij Dom), Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: virolainen@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0892-5556
Chief Researcher
Russian Federation, St. PetersburgReferences
- Bakhtin M. M. Slovo v romane // Bakhtin M. M. Sobr. soch. M., 2012. T. 3.
- Baratynskii E. A. Poln. sobr. stikhotvorenii. L., 1989 (Biblioteka poeta. Bol’shaia ser.).
- Belinskii V. G. Poln. sobr. soch.: V 13 t. M., 1955. T. 7.
- Berkovskii N. Ia.
// Zvezda. 2002. № 6. - Berkovskii N. Ia. O «Povestiakh Belkina» // Berkovskii N. Ia. Stat’i o literature. M., 1962.
- Bocharov S. G. O vozmozhnom siuzhete: «Evgenii Onegin» // Bocharov S. G. Siuzhety russkoi literatury. M., 1999.
- Bocharov S. G. Siuzhety russkoi literatury. M., 1999.
- Bocharov S. G. Stilisticheskii mir romana («Evgenii Onegin») // Bocharov S. G. Poetika Pushkina: Ocherki. M., 1974.
- Chumakov Iu. N. «Evgenii Onegin» A. S. Pushkina: V mire stikhotvornogo romana. M., 1999.
- Chumakov Iu. N. Stikhotvornaia poetika Pushkina. SPb., 1999.
- Dostoevskii F. M. Poln. sobr. soch.: V 30 t. L., 1983–1988. T. 25; 26; 30. Kn. 1.
- Gukovskii G. A. Pushkin i problemy realisticheskogo stilia. M., 1957.
- Kompan’on A. Demon teorii: Literatura i zdravyi smysl / Per. s fr. S. Zenkina. M., 2001.
- Lotman Iu. M. Roman v stikhakh Pushkina «Evgenii Onegin»: Spetskurs. Vvodnye lektsii v izuchenie teksta // Lotman Iu. M. Pushkin: Biografiia pisatelia. Stat’i i zametki 1960–1990. «Evgenii Onegin»: Kommentarii. SPb., 1995.
- Markovich V. M. Iz nabliudenii nad kompozitsiei «Evgeniia Onegina» // Markovich V. M. O Pushkine: Raboty raznykh let. SPb., 2023.
- Nepomniashchii V. S. Pushkin: Russkaia kartina mira. M., 1999.
- Pen’kovskii A. B. Nina: Kul’turnyi mif zolotogo veka russkoi literatury v lingvisticheskom osveshchenii. 2-e izd., dop. M., 2003.
- Pepin J. L’herméneutique ancienne: Les mots et les idées // Poétique: Revue de théorie et d’analyse littéraires. 1975. № 23.
- Proskurin O. Poeziia Pushkina, ili Podvizhnyi palimpsest. M., 1999.
- Pushkin A. S. Poln. sobr. soch.: [V 16 t.]. M.; L., 1937. T. 6.
- Slonimskii A. Masterstvo Pushkina. M., 1959.
- Strakhov N. N. Pushkinskii prazdnik (Iz «Vospominanii o F. M. Dostoevskom») // F. M. Dostoevskii v vospominaniiakh sovremennikov: V 2 t. M., 1964. T. 2.
- «Tochka, rasprostraniaiushchaiasia na vse…»: K 90-letiiu professora Iu. N. Chumakova. Novosibirsk, 2012.
- Tynianov Iu. N. O kompozitsii «Evgeniia Onegina» // Pamiatniki kul’tury. Novye otkrytiia. Ezhegodnik. 1974. M., 1975.
- Tynianov Iu. N. Poetika. Istoriia literatury. Kino. M., 1977.
- Tynianov Iu. N. Pushkin i ego sovremenniki. M., 1968.