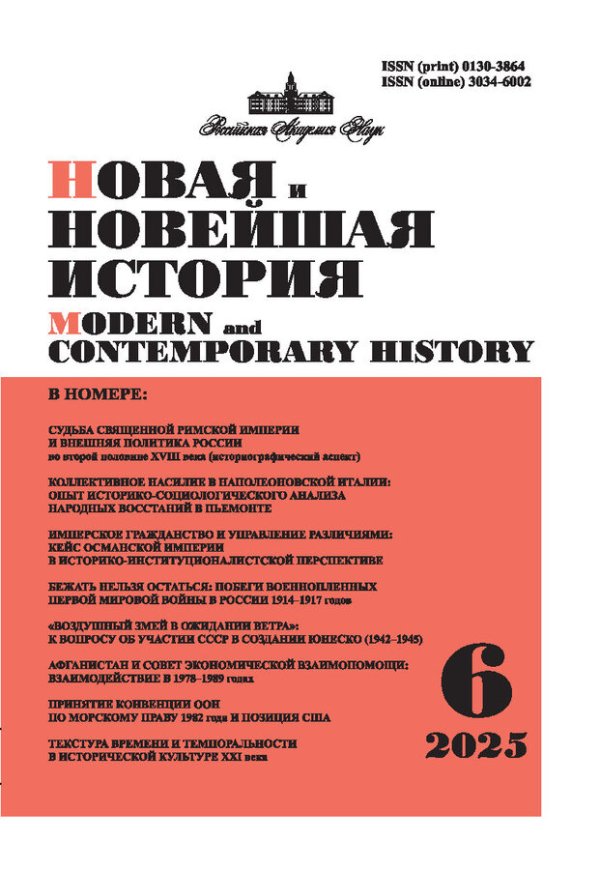What happened before the “kremlin meeting”? formation of the soviet leadership’s “new deal” policy towards the Russian orthodox church in 1941–1943
- Authors: Beglov A.L.1
-
Affiliations:
- Institute of World History Russian Academy of Sciences
- Issue: No 6 (2024)
- Pages: 164-178
- Section: 20th century
- URL: https://bakhtiniada.ru/0130-3864/article/view/273522
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0130386424060138
- ID: 273522
Cite item
Full Text
Abstract
In the article, the author examines the formation of the “New Deal” policy towards the Russian Orthodox Church during the initial two years of the Great Patriotic War. From the author’s perspective, the conventional interpretation of the Soviet authorities’ ‘new deal’ policy towards the country’s religious associations entails the rejection of mass repression against believers (with the potential for targeted repression against hierarchs and church activists) and the consideration of the interests of religious organisations by the Soviet authorities. In the initial two years of the war, elements of the new religious policy existed concurrently with repression. The author examines three pivotal moments in the crystallisation of this policy, drawing on the correspondence of the rector of the Catholic parish in Moscow, Fr. Leopold Braun, and his communications with the United States and the Vatican. The first of them occurred in the autumn of 1941 and was connected with the efforts of the anti-Hitler coalition allies to demonstrate to the Soviet leadership the necessity of implementing changes in the religious sphere in order to address the issue of the USSR joining the Lend-Lease programme. The second occurred in the spring of 1942, when Soviet diplomacy explored the potential for improving relations with the Vatican. The third took place in 1943 and was characterised by public actions undertaken by the Soviet authorities towards the Orthodox Church. The author concludes that the mechanisms of instrumentalisation of the religious factor were known to the Soviet political system; however, the consistent replacement of the repressive course by a course of instrumentalisation became possible only in the context of the military-political crisis of 1941–1942. The forced mobilisation of religious leaders by the Soviet authorities was accompanied by steps towards the church from the second half of 1942 onwards. These steps became public in early 1943, in connection with the collection of church funds for a tank column named after Dmitry Donskoy. From the autumn of 1943, the “new deal” entered the public sphere and became a conscious strategy of the Soviet leadership.
Full Text
Становление политики советского руководства в отношении Русской православной церкви (РПЦ), а затем и других религиозных объединений в СССР, получившей в историографии наименование «нового курса»1, по-прежнему вызывает споры и вместе с тем повышенный интерес среди историков. Этот интерес неслучаен. «Новый курс» – это яркий пример перехода от курса на уничтожение религиозных сообществ к курсу на их инструментализацию2. Его изучение на конкретном историческом материале ставит ряд вопросов. Ключевой из них касается соотношения внутренних для советской политической системы и внешних по отношению к ней факторов, определивших данный переход. Иными словами, мы можем поставить вопрос: чем этот переход был обусловлен, был ли он следствием развития внутреннего потенциала советской политической системы или он был вызван внешними по отношению к этой системе причинами? Был ли он неизбежным в условиях мировой войны, и какова роль конкретных исторических фигур в этом переходе?
В зависимости от ответа на эти общие вопросы стоят ответы на вопросы более частные, но не менее значимые. Например, о периодизации «нового курса». Среди исследователей до сих пор нет общего мнения, с какого момента следует вести отсчет этой политики. Большинство признает, что одним из ключевых событий в истории «нового курса» стала встреча в Кремле советских руководителей и высших иерархов РПЦ 4 сентября 1943 г.3 По мнению одних авторов, эта встреча ознаменовала начало политики «нового курса». По мнению других, она стала важным этапом в развитии этой политики, тогда как ее начало следует отнести к 1941 или даже к 1939 г.4
Как бы мы ни оценивали роль событий 1943 г., не вызывает сомнений, что у них была своя предыстория. Однако первые два года Великой Отечественной войны с точки зрения деталей эволюции политики советского государства в отношении церкви и других религиозных объединений представляют собой своеобразную «серую зону». Мы знаем о «патриотической позиции» церкви в 1941–1942 гг., о новых тенденциях в церковной жизни на оккупированных территориях5, но плохо представляем себе, что происходило в политике советской власти в этот период, какие цели в отношении церкви власть преследовала, т. е. мы плохо представляем себе предысторию широко известных событий 1943 г. Во многом это объясняется ограниченной источниковой базой. Массив документов, созданных после встречи в Кремле, разительным образом отличается от известных нам единичных документов первых двух лет Великой Отечественной войны.
Основные события 1941–1943 гг. были описаны О.Ю. Васильевой еще в конце 1990-х годов. Речь идет о контактах митрополита Николая (Ярушевича) с представителями британского посольства в Куйбышеве в сентябре 1942 г., о выходе в свет книги «Правда о религии в России» в середине 1942 г., о включении в начале 1943 г. церковной тематики в поле зрения советской внешней разведки, о подготовке визита англиканской делегации осенью 1943 г.6 В настоящей статье мы постараемся прибавить к этому несколько дополнительных штрихов. В результате можно будет реконструировать если не все обстоятельства возникновения «нового курса», то, по крайней мере, логику и мотивацию действий советского руководства на «религиозном фронте» в первые два года Великой Отечественной войны, увидим с какими трудностями сталкивалась новая политика в самом начале и сможем более взвешенно оценить то, что произошло осенью 1943 г. Все это, как представляется, приблизит нас к лучшему пониманию конкретно-исторических обстоятельств перехода от курса на уничтожение религиозных сообществ к курсу на их инструментализацию в рамках советской политической системы.
Основой для нашей реконструкции станут вышедшие в последние годы работы отечественных и зарубежных авторов, а также документы из зарубежных архивов, прежде всего архива Государственного секретариата Ватикана, а также архива Ордена ассумпционистов в Бостоне7. Член этого ордена, о. Леопольд Браун, был представителем Католической церкви в Москве в эти годы и как представитель американской стороны – непосредственным участником происходивших в это время событий. Он приехал в Советскую Россию в 1934 г. как католический священник и помощник епископа Пия Неве, настоятеля московского католического храма святого Людовика8. После того как в 1936 г. епископ Неве покинул СССР, о. Браун занял его место. Кроме того, о. Браун был членом дипломатической миссии США, въехавшей в Россию после дипломатического признания СССР со стороны Соединенных Штатов согласно соглашению Рузвельта – Литвинова (1933).
Это было одно из двух соглашений со странами, признавшими СССР, в котором оговаривался религиозный аспект, а именно – обеспечение свободы религиозной деятельности американских подданных в Советской России. Американцам-католикам в Москве нужен был свой священник, и о. Браун ехал в СССР во исполнение этого пункта соглашения. Этот нюанс важен для понимания положения о. Брауна и его позиции во время Великой Отечественной войны. Как член дипломатической миссии США он был включен в ее работу и о многом осведомлен. Он постоянно писал меморандумы не только в Ватикан или орденским властям (что был обязан делать как апостольский администратор в Москве), но и в Государственный департамент, в американское посольство, представителю президента Рузвельта в Ватикане и т.п.9 Эти документы позволяют нам восполнить наши знания об эволюции советской религиозной политики в преддверии кремлевской встречи 1943 г.
После 1943 г. «новый курс» имел яркие отличительные черты. К ним, на наш взгляд, следует отнести совпадение интересов церкви и советского государства в сфере расширения участия Русской церкви в международных делах и в сфере нормализации церковной жизни внутри СССР. Такое совпадение интересов обусловило прекращение после 1943 г. массовых репрессий в отношении духовенства и верующих (при возможности сохранения адресных репрессий как в отношении иерархов, так и церковных активистов, особенно на ранее оккупированных территориях)10, а также уступки со стороны советского государства в отношении Православной церкви (а затем и других религиозных объединений страны). Понимание советской стороной интересов церкви и готовность в определенной степени выстраивать свою религиозную политику с учетом этих интересов было ярким отличием «нового курса» 1940–1950-х годов как от предшествующей, так и от последующей политики советской власти в религиозной сфере.
Характерной чертой первых двух военных лет была мощная репрессивная волна в отношении духовенства и верующих. Причем подниматься эта волна стала с 1940 г., но своего пика достигла в 1941 г. В 1939 г. судами общей юрисдикции были осуждены 987 «церковников и сектантов», в том числе 414 «служителей культа». Это был минимум репрессированных за пятилетие 1938–1942 гг. В 1940 г. осуждено уже 2231 человек этой категории, в том числе 910 «служителей культа». В первой половине 1941 г. было осуждено 1618 «церковников и сектантов», во втором полугодии 1941 г. на неоккупированных территориях – 1480 человек этой категории, в 1942 г. – 1106 человек и, наконец, в 1943 г. – 539 человек11. И это осужденные только судами общей юрисдикции, тогда как с IV квартала 1941 г. значительная часть дел передавалась в Особое совещание НКВД и в военные трибуналы12. Но и эти данные демонстрируют достаточно выраженную тенденцию. При этом, как показал О.В. Будницкий, репрессии начала войны по своей жестокости мало чем отличались от периода массовых операций 1937–1938 гг. Так, в IV квартале 1941 г. приговоры к высшей мере наказания составляли 41,5% от общего числа вынесенных приговоров за государственные преступления. В последующие месяцы накал репрессий начал снижаться. Во II квартале 1942 г. смертные приговоры составляли 21,6% от общего числа, в III квартале 1942 г. – 13,8%13. Таким образом, важно подчеркнуть: элементы «нового курса», постепенно проявлявшиеся, как мы увидим ниже, с осени первого военного года, еще не отменяли прежнюю репрессивную политику, а «прорастали» сквозь нее.
Что же это были за новые тенденции в религиозной политике советской власти? Рассмотрим три узловых момента в их формировании в свете обозначенных выше источников.
Первый из них приходится на осень 1941 г. В конце июля 1941 г. начинаются переговоры между СССР и США о помощи со стороны последних и о подключении СССР к программе ленд-лиза. И здесь репутация СССР как гонителя религии стала внутриполитической проблемой для администрации президента Ф. Рузвельта. Религиозные группы в Конгрессе, особенно католики, выражали открытое несогласие с возможностью оказания помощи Советскому Союзу. В этой ситуации американская администрация действовала по двум направлениям. С одной стороны, Ф. Рузвельт отправил в Ватикан своего личного представителя с тем, чтобы убедить папу Пия XI повлиять на американских католиков и смягчить их позицию в отношении помощи СССР. С другой – американские представители добивались от советского руководства каких-то значимых шагов, которые могли хотя бы отчасти исправить неблагоприятный образ советской страны14.
О. Браун был непосредственным участником этих событий. 29 сентября – 1 октября 1941 г. в столице СССР проходила Первая московская конференция союзников. 2–4 октября о. Браун был приглашен к участию в консультациях с послом Л. Стейнхардтом и главой американской делегации А. Гарриманом. Результатом этого совещания стали два документа, написанные о. Брауном 2 и 5 октября. Оба документа были адресованы представителю президента Ф. Рузвельта в Ватикане М. Тейлору. Первый – это краткий меморандум, второй – обширное письмо с изложением истории религиозной политики советской власти, особенно в 1930-е годы, и тех изменений, которые, как считал о. Браун, уже начали происходить в ней с началом войны. В обоих документах настоятель московского католического прихода призывал правительство Соединенных Штатов сделать еще одно решающее усилие с тем, чтобы добиться от Советского Союза гарантий подлинной религиозной свободы. Одновременно эти письма опосредованно были адресованы и чиновникам Римской курии, а в идеальной ситуации – и лично папе. Святой Престол должен был понять, что наступил исключительно благоприятный момент для изменения советской религиозной политики и необходимо смягчить свою позицию в отношении СССР, чтобы помочь этим изменениям. Тем самым о. Браун пытался оказать поддержку той линии американской дипломатии, которая была направлена на коррекцию позиции Ватикана в отношении Советской России15.
Обратим внимание на два аспекта этих событий, которые важны для понимания генезиса «нового курса». Первый аспект заключается в том, что союзники подталкивали советское руководство к публичной демонстрации религиозной терпимости, причем уже не в первый раз. Нечто подобное имело место в 1930 г., когда представители английской лейбористской администрации буквально подсказывали советскому руководству конкретные шаги в рамках контрпропагандистской кампании, развернутой СССР против «крестового похода молитв» и кампании в защиту советских верующих в Англии. Это была та самая кампания, в рамках которой, как показал И.А. Курляндский, И.В. Сталиным (при участии Е. Ярославского и В.М. Молотова) было написано «интервью» митрополита Сергия (Страгородского) об отсутствии гонений в СССР16.
Второй аспект заключается в том, что советское руководство неохотно реагировало на «зондажные просьбы Рузвельта»17 относительно изменений советской религиозной политики. Характерен эпизод, который А. Гарриман описал в отчете Ф. Рузвельту. В ответ на объяснения американского представителя важности религиозного фактора для администрации И.В. Сталин только кивнул и фактически ушел от сколько-нибудь определенного проявления своей позиции. В.М. Молотов был более откровенен. Он, с «большой искренностью» выразив свое уважением Ф. Рузвельту, прямо поставил вопрос: «Действительно ли такой умный деятель, как президент, является столь набожным, как он хочет казаться, или его набожность преследует политические цели?» Советские лидеры не могли принять всерьез значимость религиозного фактора для внутриполитической обстановки в США. В итоге Гарриман подчеркивал, что уезжает из Москвы с впечатлением, что «все, что намерены сделать Советы, – это отделаться словами, лишь создав некоторыми мерами впечатление разрядки, а никаких подлинных изменений в свою практику не внести»18. Таким образом, осенью 1941 г. необходимость коррекции религиозной политики для советского руководства была далеко не очевидной и союзникам приходилось прикладывать усилия, чтобы подтолкнуть советских лидеров к осознанию этой необходимости. Тем самым роль союзников на этом этапе развития «нового курса» была немаловажной.
Второй узловой момент в формировании новых тенденций в государственно-церковных отношениях пришелся на весну 1942 г. В это время о. Браун отправил две корреспонденции, которые, как он надеялся, должны были достигнуть Святого Престола. Первая из них от 20 марта была адресована помощнику Государственного секретаря, главе Конгрегации чрезвычайных церковных дел Д. Тардини. В этом письме о. Браун еще раз повторил тезисы, изложенные им в письме М. Тейлору в октябре 1941 г., что уже в текущий момент возможно установить новый modus vivendi между Святым Престолом и СССР19. В дополнение к своим прежним аргументам он приводил сведения о высказываниях одного из советских дипломатических представителей в Лондоне, которые, по мнению о. Брауна, свидетельствовали о готовности к контактам с Ватиканом по этому вопросу. Он писал:
«Я могу с абсолютной уверенностью утверждать, что советское правительство желает сотрудничать в подобном демарше. Эта мысль была буквально озвучена недавно в Лондоне одним влиятельным сотрудником по связям советского правительства, который в частном и конфиденциальном порядке беседовал с одним иностранным лицом, находящимся в настоящее время здесь. Во время этого строго частного разговора сотрудник по связям сообщил о желании советского правительства осязаемо продемонстрировать свое благожелательное отношение к католицизму. Очевидно, эти слова следует толковать как косвенное приглашение к шагам навстречу с обеих сторон для достижения согласия. Все это весьма красноречиво подтверждает то, что ваш слуга имел честь сообщить Филиппо в октябре 1941 г.: железо горячо, и пришло время его ковать»20.
Через несколько недель о. Брауну представилась возможность еще раз подтвердить свою уверенность. 1 мая он отправил через США в Ватикан документ, который передали ему советские власти. Это трофейный приказ одного их генералов германской армии о разрешении церковного вопроса на оккупированных территориях. В нем, помимо общих нацистских рассуждений, говорилось о необходимости разрешения религиозного вопроса на оккупированных территориях «в пользу религии, свободной от еврейского влияния», и о недопущении христианского духовенства на занятые немцами территории. Переданный о. Брауном документ известен как «Оперативный приказ № 20 Главного управления имперской безопасности “О разрешении церковного вопроса на занятых восточных территориях”» от 31 октября 1941 г. Считается, что он был захвачен Красной армией во время наступления под Москвой. По русскому «переводу», хранящемуся в Российском государственном архиве социально-политической истории, он был впервые опубликован О.Ю. Васильевой, а затем републикован М.И. Одинцовым и М.В. Шкаровским21. Немецкий вариант этого документа до последнего времени не был известен историкам. При этом в корреспонденции о. Брауна мы находим и немецкий вариант текста, и его переводы на французский и английский языки22.
Сам о. Браун оценивает документ очень высоко, он не сомневается в его подлинности и считает, что получение его дает союзникам по антигитлеровской коалиции «высокие моральные преимущества». Кроме того, он подчеркивает, что данный документ передан ему «по настоятельной просьбе местных правительственных властей, которые… очень желают, чтобы эта информация достигла Ватикана» (выделено мной. – А.Б.)23. Передача трофейного документа представителю Католической церкви означала, что советское руководство таким образом зондировало возможность нормализации отношений с Ватиканом. Видимо, о. Браун был прав: весной второго года войны у Святого Престола действительно была реальная возможность улучшить отношения с СССР. Однако в Ватикане реагировали на подобные сигналы с большой осторожностью. Между тем события менялись стремительно.
С марта по июнь 1942 г. в СССР реализовывался проект подготовки и издания книги «Правда о религии в России». Она была предназначена «в основном для распространения за границей» и должна была наглядно представить материалы, «изобличающие немцев в варварском отношении к православной церкви и духовенству»24. План книги был предложен начальником третьего (контрразведывательного) Управления НКВД СССР Н.Д. Горлинским, но делалась она «силами работников Московской патриархии»: в подготовке издания приняли участие семь архиереев, троим сотрудникам патриархии было разрешено на время подготовки издания прибыть из Ульяновска (где патриархия находилась в эвакуации) в Москву25. Операция с изданием книги «Правда о религии в России» преследовала ту же цель, что и операция по – как мы предполагаем – созданию и передаче в Ватикан «Оперативного приказа № 20». В обоих случаях нужно было показать аудитории за границей (более широкой в первом случае и более узкой во втором), что нацистская религиозная политика на оккупированных территориях неизмеримо хуже той политики, что ранее проводила советская власть. Кроме этого, и документ, и книга были реакцией на попытки использования оккупантами в пропагандистских целях религиозного движения в занятых ими областях. Положение церкви на оккупированных территориях находилось в фокусе внимания советских специальных органов по меньшей мере с февраля – марта 1942 г.26
Описанные акты тайной или явной, но формально не государственной, а церковной политики выстраивались в единую линию с официальными дипломатическими демаршами советского правительства. 27 апреля 1942 г. всем послам иностранных государств, с которыми у СССР были дипломатические отношения, была вручена нота наркома иностранных дел В.М. Молотова «О чудовищных злодеяниях, зверствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в оккупированных советских районах и об ответственности германского правительства и командования за эти преступления», в ней на конкретных примерах и с обращением к свидетельствам представителей православного духовенства говорилось об уничтожении храмов, святынь и о том, что «гитлеровские оккупанты не щадят и религиозных чувств верующей части советского населения»27.
Одновременно происходили и другие события, все более явно обозначавшие новые тенденции в советской религиозной политике. В конце марта 1942 г. были разрешены ночные пасхальные богослужения (пасха в 1942 г. приходилась на 5 апреля). Власти тщательно фиксировали реакцию советских граждан и с удовлетворением отмечали, что в Москве и Куйбышеве на богослужениях присутствовали представители иностранных дипломатических миссий28. Это, как и выпуск книги «Правда о религии в России», был ответ на озабоченность союзников, но и небольшой шаг навстречу церкви и рядовым верующим. К июню – в рекордные сроки – тираж книги был отпечатан, и в сентябре митрополит Киевский Николай (Ярушевич) и епископ Калужский Питирим (Свиридов) посетили Куйбышев и вручили экземпляры издания американским, британским и китайским дипломатическим представителям29.
Для церкви особенно важным было то, что с лета 1942 г. уцелевшие и вновь поставленные епископы получили возможность находиться в своих епархиях. До этого, вне зависимости от того, какую кафедру они формально занимали, большинство епископов РПЦ находилось либо в Ульяновске, либо в Москве30. И появление такой возможности было еще одним шагом навстречу церкви со стороны советской власти. Кроме того, как мы видели выше, со второй половины 1942 г. начала снижаться интенсивность репрессий против верующих. Как представляется, именно с середины 1942 г. начал оформляться «новый курс», характерный для последующих лет, имеющий в виду взаимные встречные шаги власти и церкви. Чтобы проиллюстрировать это утверждение, сопоставим проект написания и издания книги «Правда о религии в России» с организацией контрпропагандистской кампании против «крестового похода молитв» 1930 г.
Весь ход создания книги, включая возникновение замысла в недрах советских специальных служб, санкцию на его осуществление высшего руководства страны, мобилизацию православных иерархов, священнослужителей и мирян для его реализации, – все это очень напоминало ситуацию 1930 г. с эксплуатацией церковных лидеров в интересах советской власти. Но если тогда религиозные лидеры были мобилизованы на защиту внешнеполитических интересов советской власти принудительно, то теперь во время войны это было уже не совсем так, или даже совсем не так31.
30 декабря 1942 г. митрополит Сергий (Страгородский) обратился к духовенству и пастве РПЦ с посланием о сборе средств на танковую колонну имени Дмитрия Донского. 5 января 1943 г. состоялся обмен телеграммами между митрополитом Сергием и Сталиным. Предстоятель Русской церкви информировал главу советского правительства о начале сбора средств на танковую колонну и просил открыть для этого специальный счет в Госбанке. Сталин благодарил духовенство и верующих за «заботу о бронетанковых силах Красной армии» и сообщал, что указание об открытии счета дано. Это была уже существенная уступка со стороны власти. Церкви de facto возвращалось право юридического лица, которого она была лишена декретом «Об отделении церкви от государства…» 1918 г. Не менее важно, что обе телеграммы в тот же день были опубликованы в газете «Правда»32. Тем самым о своих шагах навстречу церкви государство теперь готово было заявить публично. Причем в определенном смысле верующие сами подсказывали эти шаги советской власти (подобно тому, как союзники подсказывали внешнеполитические демарши). Уже в августе 1941 г. харьковские верующие, перечисляя 11 тыс. руб. в Фонд обороны, просили опубликовать сообщение об этом в местной прессе, но информация об этом появилась в «Правде» 16 августа 1941 г. По мнению О.В. Будницкого, это было первое сообщение в прессе о патриотической деятельности РПЦ во время войны33.
Отметим, что детальное изучение государственно-церковных отношений 1941–1943 гг. ставит перед нами ряд источниковедческих вопросов. Сегодня мы имеем относительно полное представление о возникновении замысла и о механизме подготовки книги «Правда о религии в России»34. Но у нас нет никаких данных, кто был инициатором сбора средств на танковую колонну имени Дмитрия Донского и как согласовывался обмен телеграммами между митрополитом Сергием и Сталиным. Ведь о том, что он не был импровизацией предстоятеля РПЦ, мы можем говорить с большой уверенностью. Также пока остается загадкой появление «Оперативного приказа № 20». Представляется, что в этом направлении необходимо вести поиск новых источников, освещающих генезис «нового курса» государственно-церковных отношений.
Вернемся к документам, вышедшим из-под пера о. Брауна. Третий узловой момент, который они дают возможность проанализировать, заставляет нас обратиться к событиям осенних месяцев 1943 г. 6–9 ноября о. Браун составил обширное послание в Ватикан, описывающее положение в Советской России во второй половине 1943 г. Свой отчет настоятель московского католического прихода посвятил трем темам. Он дал общий обзор религиозной жизни в СССР с июня по октябрь 1943 г., отмечая многочисленные признаки религиозного подъема. На основании открытых источников подробно описал собор РПЦ, прошедший 8 сентября, и избрание на нем патриарха Сергия. И, наконец, дал детальный отчет о визите делегации Англиканской церкви, состоявшемся 18–28 сентября35.
Бросается в глаза, что послание о. Брауна осени 1943 г. написано совсем в другом ключе, чем его корреспонденции 1941–1942 гг. Если в начале войны он смотрел на перспективы изменения советской религиозной политики с энтузиазмом, то теперь, когда политика уступок по отношению к религии, и прежде всего к Православной церкви, начала реализовываться воочию, он неожиданно стал относиться к происходящим изменениям с большим скепсисом. Он несколько раз повторяет своему адресату, что все изменения в советской религиозной политике, которые он описывает, не более чем запоздалая реакция советских властей на «крестовый поход» Гитлера, что они обусловлены «страхом перед иностранным мнением», а по своей сути советская религиозная политика не изменилась. Тем самым тот, кто при гораздо более скромных проявлениях «умеренной терпимости» к религии со стороны советского руководства с жаром призывал своего адресата в Ватикане делать встречные шаги и добиваться выработки благоприятного modus vivendi, теперь, когда советские власти отчетливо обозначили «новый курс» в отношении религии, призывал Святой Престол не принимать его всерьез. Как это можно объяснить?
Попробуем высказать предположение. В 1943 г. стало очевидно, что главные интересы советского руководства связаны с Православной церковью, а вовсе не с налаживанием отношений с Ватиканом. Тогда как о. Браун все это время надеялся на установление modus vivendi именно со Святым Престолом, когда же направление новой религиозной политики оказалось другим, его охватили разочарование и скепсис.
В заключение рассмотрим хронологию предыстории «нового курса» в первые два года Великой Отечественной войны, какой она предстает перед нами с учетом рассмотренных выше источников. В июне 1941 г. местоблюститель патриаршего престола митрополит Сергий (Страгородский) и митрополит Ленинградский Алексий (Симанский) выступают с патриотическими посланиями, начинаются сборы средств и вещей среди верующих на нужды обороны. Первое упоминание о патриотической деятельности церкви и о таких сборах появляется в «Правде» 16 августа 1941 г. В том же номере публикуются заметки о преследованиях религиозных деятелей со стороны нацистов в Голландии и Польше. В это же время со страниц прессы исчезает антирелигиозная пропаганда36. При этом одновременно, летом 1941 г. – в первой половине 1942 г., разворачивается репрессивная волна против духовенства и верующих. Осенью на сцену выходят союзники по антигитлеровской коалиции. На сентябрь – октябрь 1941 г. приходятся первые зондажи американцев об изменении советской антирелигиозной политики в контексте проблемы ленд-лиза. Поддерживая усилия американской дипломатии, о. Браун пишет первое письмо в Ватикан о возможности установления modus vivendi с Советским государством.
В марте – июне 1942 г. реализуется проект создания и выпуска в свет книги «Правда о религии в России»: советские власти идут навстречу просьбам союзников, мобилизуя церковных лидеров подобно тому, как делали это в 1930 г., реагируя на «крестовый поход молитв». 20 марта о. Браун отправляет письмо Д. Тардини, в котором напоминает о возможности достижения modus vivendi с советским руководством именно сейчас. 5 апреля 1942 г. представители союзников присутствуют на пасхальных богослужениях в Москве и Куйбышеве, советские власти рассылают фото пасхальных служб для публикации за границей37. В конце апреля о. Брауну передан «Оперативный приказ № 20», 1 мая он отправляет его в Ватикан: советские власти пытаются установить контакты со Святым Престолом и повлиять на его позицию по отношению к Германии. 16 и 18 сентября 1942 г. два иерарха РПЦ посещают посольства союзников в Куйбышеве и передают дипломатам экземпляры «Правды о религии в России»; в английском посольстве митрополит Николай (Ярушевич) говорит о возможности обмена визитами с Англиканской церковью38.
С 30 декабря 1942 г. по 8 марта 1944 г. идут сборы средств на танковую колонну имени Дмитрия Донского; об их начале и открытии специального счета объявлено публично: власть делает шаг навстречу церкви. Видимо, где-то в середине – второй половине 1942 г. формируется «новый курс», имеющий в виду учет интересов обеих сторон. 5 июня 1943 г. было подписано постановление Государственного комитета обороны, которым религиозная проблематика включалась в перечень направлений работы советской внешней разведки39. 5 сентября 1943 г. в «Правде» и «Известиях» публикуются коммюнике о встрече советского руководства с иерархами РПЦ – публичное объявление «нового курса». 8 сентября проходит собор епископов Русской церкви и избрание патриарха (после 18-летнего перерыва); 12 сентября состоялась его интронизация. 18–28 сентября 1943 г. в Москве находилась делегация Англиканской церкви. 6–9 ноября 1943 г. было написано «разочарованное» письмо о. Брауна. 28 ноября – 1 декабря 1943 г. прошла Тегеранская конференция союзников, к которой в том числе были приурочены сентябрьские события.
Таким образом, «новый курс» как по-настоящему новая религиозная политика советской власти (т. е. без массовой репрессивной составляющей и с учетом интересов церкви) не появился в одночасье. В 1939 г. – первой половине 1942 г. советские власти продолжали эксплуатировать религиозный фактор, не отказываясь от репрессивного курса. Элементы «нового курса» прорастали сквозь старую репрессивную политику и поначалу не отменяли ее. Это говорит о том, что инструментализация религиозных сообществ была известна советской политической системе40, но для того, чтобы инструментализация стала основным содержанием советской религиозной политики, потребовалась мощная внешняя по отношению к политической системе встряска в виде военно-политического кризиса 1941–1942 гг. В этом смысле «новый курс» был вынужденной политикой, которая прошла период становления.
На начальном этапе становления «нового курса» значимыми были два фактора. С одной стороны, фактор союзников, которые настаивали на уступках в пользу религии и церкви и подталкивали советское руководство к осознанию их необходимости. С другой – можно сказать, что церковь брала инициативу в свои руки, когда обозначила свою патриотическую позицию, выраженную прежде всего в масштабной благотворительной деятельности, объединявшей рядовых верующих, духовенство и иерархов. Не нужно сбрасывать со счетов и положение на оккупированных территориях, оно принималось во внимание советским руководством. Эти наблюдения подтверждают сделанные ранее выводы о различных этапах «нового курса», которые проходила эта политика в зависимости от смены приоритетов советского руководства: вначале она была адресована союзникам по антигитлеровской коалиции, затем (с 1943 г.) в фокусе внимания советских лидеров находилась Восточная Европа, а позже (с 1945 г.) – Ближний Восток41.
Примечательно, что одним из направлений «нового курса» на начальном его этапе было налаживание отношений с Ватиканом. Это направление тесно смыкалось с использованием религиозного фактора для выстраивания отношений с союзниками. Однако оно оказалось тупиковой ветвью «нового курса»: с 1943 г. советское руководство вернулось к прежней конфронтационной линии в отношениях с центром католического мира42.
Проект издания книги «Правда о религии в России» находился на границе изменения модуса советской политики от принудительной мобилизации религиозных лидеров к взаимным уступкам. Действительно значимые уступки мы фиксируем со второй половины 1942 г. – января 1943 г., когда епископы получили возможность находиться в своих епархиях и был открыт счет в Госбанке для средств, собираемых верующими на строительство танковой колонны имени Дмитрия Донского, о чем было публично объявлено. Тем самым до 1943 г. «новый курс» был тайной, непубличной политикой; окончательно он становится явным осенью 1943 г. и именно с этого момента является осознанной стратегией советского руководства. К началу Великой Отечественной войны советские власти не имели последовательной стратегии в религиозном вопросе43. Их действия представляли собой реакцию на конкретные события и потому часто были противоречивыми. Новая стратегия в религиозном вопросе, оформившаяся в 1943 г., заключалась в мобилизации религиозного фактора для нужд советской внешней политики и предполагала шаги навстречу церкви, пусть и ограниченные. В этом заключалось ее принципиальное отличие от политики предшествующего двадцатилетия.
Внешний по отношению к советской политической системе фактор в формировании «нового курса» (в виде просьб союзников осени 1941 г.) сыграл свою роль на этапе становления новой религиозной политики, дав толчок для начала изменений прежнего курса, но затем (примерно к концу 1942 г.) потерял свое значение. Отметим, что любой перелом советской политики, особенно такой существенный, как поворот к «новому курсу», не мог быть реализован без личного участия Сталина. Он определял не только задачи новой религиозной политики – в чем нет сомнений у исследователей, – но и глубину рассматриваемого поворота, и в этом он мог удивить как свое окружение, так и более широкие круги вовлеченных в этот процесс представителей советских специальных служб44.
Необходимо также подчеркнуть: сам характер развития государственно-церковных отношений в первые два военных года говорит о том, что не было и не могло быть никакого документа, который отменял бы прежний репрессивный курс и начинал новый. Элементы новой политики «прорастали» сквозь старые, сама новая политика кристаллизовалась постепенно, возможно, не вполне заметно даже для самих акторов происходивших изменений. При этом все еще могут быть обнаружены источники, освещающие конкретные аспекты становления новой религиозной политики, например обстоятельства, связанные с началом сбора церковных средств на строительство танковой колонны имени Дмитрия Донского.
1 См.: Васильева О.Ю. Русская православная церковь в политике советского государства в 1943–1948 гг. М., 1999. С. 105.
2 Ср.: Джентиле Э. Политические религии. Между демократией и тоталитаризмом. СПб., 2021. С. 344–345.
3 Васильева О.Ю. Указ. соч. С. 105–117.
4 Шкаровский М.В. Русская православная церковь при Сталине и Хрущеве (государственно-церковные отношения в СССР в 1939–1964 годах). М., 1999; Чумаченко Т.А. Государство, православная церковь, верующие. 1941–1961 гг. М., 1999; Якунин В.Н. Укрепление положения Русской православной церкви и структура ее управления в 1941–1945 годы // Российская история. 2003. № 4. С. 83–93; Одинцов М.И., Кочетова А.С. Конфессиональная политика в Советском Союзе в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М., 2014; Роккуччи А. Сталин и патриарх: Православная церковь и советская власть, 1917–1958. М., 2016; Беглов А.Л. В поисках «безгрешных катакомб». Церковное подполье в СССР. М., 2018; Его же. Международная деятельность Русской православной церкви в период «нового курса» в государственно-церковных отношениях. Основные этапы и кризисные явления // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2018. Т. 11. № 4. С. 104–129. URL: https://doi.org/10.23932/2542-0240-2018-11-4-104-129 (дата обращения: 15.08.2024); и др.
5 Алексеев В.И., Ставру Ф. Русская православная церковь на оккупированной немцами территории // Русское возрождение. 1980. № 11. С. 91–118; № 12. С. 108–126; 1981. № 1 (13). С. 75–97; № 2 (14). С. 118–154; № 3 (15). С. 85–100; № 4 (16). С. 91–121; № 5 (17). 97–114; № 6 (18). С. 105–125; Васильева О.Ю. Указ. соч. С. 81–104; Шкаровский М.В. Нацистская Германия и Православная церковь. (Нацистская политика в отношении Православной церкви и религиозное возрождение на оккупированной территории СССР.) М., 2002; Обозный К.П. История Псковской Православной миссии. 1941–1944 гг. М., 2008; Петров И.В. Меж двух зол. Православное духовенство на временно оккупированной территории РСФСР в 1941–1944 гг. М., 2021.
6 Васильева О.Ю. Указ. соч. С. 44–80, 105, 128–149.
7 Эти источники стали нам доступны в результате реализации проекта Института всеобщей истории РАН «Entangled Histories: Россия и Ватикан, 1917–1958 гг.» (2019–2021): Freeze G., Beglov A., Beliakova N., Tokareva E. Catholics in the Soviet Union: New Research and New Sources on Everyday Religious Life (1917–1958) // The Catholic Historical Review. 2020. Vol. 106. № 3. Р. 477–489. URL: https://doi.org/10.1353/cat.2020.0050 (дата обращения: 19.07.2024).
8 Беглов А.Л., Фадеев И.А. Судьба католического храма св. Людовика в Москве в освещении американского ассумпциониста // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2021. T. 12. Вып. 8 (106). URL: https://history.jes.su/s207987840016675-1-1/ (дата обращения: 09.08.2024); Жданова Е.С. Установление контроля советской власти над католическим храмом св. Людовика в Москве в 1947–1950 гг. (по документам Совета по делам религиозных культов при Совете министров СССР) // Там же. (дата обращения: 19.07.2024).
9 См.: например: Беглов А.Л., Фадеев И.А. Американские представители в СССР и судьба советской религиозной политики в начале Великой Отечественной войны. Из корреспонденции отца Леопольда Брауна 1941 года // Новая и новейшая история. 2023. № 3. С. 207–227. DOI: 10.31857/S013038640024937-8
10 Беглов А.Л. В поисках «безгрешных катакомб». С. 117–123.
11 Плякин М., свящ. Гонения на Русскую православную церковь в 1940-е годы // Труды Саратовской православной духовной семинарии. Вып. XI. Саратов, 2017. С. 169–182; Будницкий О.В. Репрессии против верующих накануне и во время Великой Отечественной войны 1939–1945 гг. // Российская история. 2019. № 3. С. 100–124.
12 Будницкий О.В. Указ. соч. С. 110.
13 Там же. С. 110–118.
14 См.: Майнер С.М. Сталинская священная война. Религия, национализм и союзническая политика. 1941–1945. М., 2010. С. 289–303; Филиппов Б.А. Ф. Рузвельт, Пий XII, И. Сталин и проблема репутации СССР в годы Второй мировой войны // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Серия II. История. История Русской православной церкви. 2016. Вып. 4 (71). С. 84–102.
15 Публикацию обоих документов и их анализ см. в: Беглов А.Л., Фадеев И.А. Американские представители… С. 207–227. Надо сказать, что Святой Престол не внял призывам своего московского представителя и продолжал ожидать более явных изменений советской религиозной политики.
16 Курляндский И.А. Сталин, власть, религия (религиозный фактор во внутренней политике советского государства в 1922–1953 гг.). М., 2011. С. 433–434, 440–442, 455–458, 676–677; Беглов А.Л. «Крестовый поход молитв» 1930 г. и реакция на него в СССР // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2018. T. 9. Вып. 4 (68). URL: http://history.jes.su/s207987840002219-9-1 (дата обращения: 19.07.2024).
17 Из воспоминаний деятеля советских спецслужб П.А. Судоплатова: «Подготовленные нами материалы о патриотической позиции русской православной церкви, ее консолидирующей роли в набиравшем силу антифашистском движении славянских народов на Балканах и неофициальные зондажные просьбы Рузвельта улучшить политическое и правовое положение православной церкви, переданные через Гарримана Сталину, очевидно, убедили его пойти навстречу союзникам и вести по отношению к церкви менее жесткую политику. Сталин сделал неожиданный шаг: разрешил провести выборы патриарха русской православной церкви» (Судоплатов П. «Остаюсь единственным живым свидетелем…» // Молодая гвардия. 1995. № 5. С. 40).
18 Цит. по: Филиппов Б.А. Указ. соч. С. 92.
19 Archivio Storico della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, Città del Vaticano. Fondo Affari Ecclesiastici Straordinari (далее – AA.EE.SS). Pontificato: Pio XII. Pt. I (1939–1948). Russia. Pos. 691a. Ff. 171–177.
20 Ibid. F. 175.
21 Васильева О.Ю. Указ. соч. С. 87–90; Одинцов М.И. Религиозные организации в СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. М., 1995. С. 42–43; Шкаровский М.В. Политика Третьего рейха по отношению к Русской православной церкви в свете архивных материалов 1935–1945 годов. Сб. док. М., 2003. С. 190–192.
22 Анализ этого документа и доступной информации о его авторе, «начальнике военно-экономической инспекции центрального фронта» генерал-лейтенанте Вайганге, позволяет нам сделать осторожное предположение, что «Оперативный приказ № 20» появился на свет в кабинетах советских специальных органов. Детальную аргументацию данной гипотезы мы представим при полной публикации этого документа.
23 AA.EE.SS. Pontificato: Pio XII. Pt. I (1939–1948). Russia. Pos. 702. F. 34–36, 38–44.
24 Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Сб. док. / сост. О.Ю. Васильева, И.И. Кудрявцев, Л.А. Лыкова. М., 2009. С. 180; Христофоров В.С. К истории церковно-государственных отношений в годы Великой Отечественной войны // Российская история. 2011. № 4. С. 173.
25 Галкин А.К. Указы и определения Московской патриархии об архиереях с начала Великой Отечественной войны до Собора 1943 г. // Вестник церковной истории. 2008. № 2 (10). С. 62.
26 Христофоров В.С. Указ. соч. С. 173; Токарева Е.С. Итальянские католические капелланы на Восточном фронте в годы Второй мировой войны // Новая и новейшая история. 2022. № 5. С. 153–172. DOI: 10.31857/S013038640020036-7
27 Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны. Т. 1. 22 июня 1941 г. – 31 декабря 1943 г. Документы и материалы. М., 1944. С. 220–221; Болотов С.В. Русская православная церковь и международная политика СССР в 1930-е – 1950-е годы. М., 2011. С. 55.
28 Христофоров В.С. Указ. соч. С. 174–175.
29 Майнер С.М. Указ. соч. С. 140–143; Христофоров В.С. Указ. соч. С. 173.
30 Галкин А.К. Указ. соч. С. 63–64. Отметим, что с конца мая 1942 г. предстоятель РПЦ получил возможность рукополагать новых епископов для епархий, находившихся на территории, контролируемой советскими властями. Правда, первая такая хиротония, воспринимавшаяся как исключение, состоялась в Куйбышеве еще 25 декабря 1941 г., в день Рождества по григорианскому календарю, что должно было привлечь внимание находившегося в городе дипломатического корпуса. Следующие рукоположения состоялись 31 мая, 14 октября и 27 декабря 1942 г. Всего в период с июня 1941 г. по август 1943 г. было проведено семь епископских хиротоний. См.: Там же. С. 61–67, 112.
31 Характерен в этом отношении один из текстов, включенных в названное издание. Речь идет об интервью архиепископа Саратовского Андрея (Комарова) корреспонденту американского агентства «Ассошиэйтед пресс» Г. Кингу от 24 декабря 1941 г. Ряд тезисов этого интервью (в частности, о применении репрессий против духовенства не за религиозные убеждения, а только за деятельность, направленную против «существующего советского строя») почти дословно повторял выступление митрополита Сергия 1930 г. Однако рассказ о патриотической деятельности церкви во время войны и просьба о помощи, обращенная к американским союзникам, вполне отвечали настроениям русского епископата рубежа 1941–1942 гг. См.: Болотов С.В. Указ. соч. С. 59–61.
32 Русская православная церковь… С. 60–61.
33 Будницкий О.В. Указ. соч. С. 116–117.
34 Ср.: Христофоров В.С. Указ. соч. С. 173.
35 Беглов А.Л. Религиозная жизнь в СССР и его отношения с союзниками в 1943 году глазами американского ассумпциониста // Новая и новейшая история. 2022. № 5. C. 173–184. DOI: 10.31857/S013038640020319-8
36 Будницкий О.В. Указ. соч. С. 116–117; Токарева Е.С. Ватикан в фокусе советской политики и пропаганды. 1921–1941 годы. М., 2023. С. 315–317.
37 Майнер С.М. Указ. соч. С. 118.
38 Васильева О.Ю. Указ. соч. С. 128; Майнер С.М. Указ. соч. С. 141–143.
39 Васильева О.Ю. Указ. соч. С. 69–72, 105.
40 Как мы знаем, она была известна по крайней мере с 1930 г., с успешного с точки зрения советской власти опыта мобилизации религиозных лидеров для ответа на кампанию защиты советских верующих за рубежом. См.: Беглов А.Л. «Крестовый поход молитв»… Ср.: Болотов С.В. Указ. соч. С. 43.
41 Васильева О.Ю. Указ. соч. С. 128–182, 202–206; Беглов А.Л. Международная деятельность… С. 104–129.
42 Токарева Е.С. Ватикан в советской политике и пропаганде в годы Второй мировой войны // Иоанн XXIII и современный мир. М., 2002. С. 98–128.
43 Наш вывод согласуется с наблюдениями Е.С. Токаревой, сделанными на материале советской политики в отношении Ватикана. См.: Токарева Е.С. Ватикан в фокусе советской политики… С. 323–324.
44 См. приведенную выше цитату из воспоминаний П.А. Судоплатова, в которой автор говорит о неожиданности санкции на избрание патриарха Русской церкви: Судоплатов П. Указ. соч. С. 40.
About the authors
Alexey L. Beglov
Institute of World History Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: al.beglov@igh.ru
ORCID iD: 0000-0001-8656-1615
Scopus Author ID: 55531443600
ResearcherId: ABH-1734-2020
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник
Russian Federation, MoscowReferences
- Alekseev V.I., Stavru F. Russkaia Pravoslavnaia Tserkov’ na okkupirovannoi nemtsami territorii [The Russian Orthodox Church in the German-occupied territory] // Russkoe vozrozhdenie [Russian Renaissance]. 1980. № 11. S. 91–118; № 12. S. 108–126; 1981. № 1 (13). S. 75–97; № 2 (14). S. 118–154; № 3 (15). S. 85–100; № 4 (16). S. 91–121; № 5 (17). S. 97–114; № 6 (18). S. 105–125. (In Russ.)
- Beglov A.L. “Krestovyi pokhod molitv” 1930 g. i reaktsiia na nego v SSSR [“Prayers crusade” of 1930 and the reaction to it in the USSR] // Elektronnyj nauchno-obrazovatel’nyj zhurnal “Istoriya” [Electronic scientific and educational journal “History”]. 2018. T. 9. Vyp. 4 (68). URL: http://history.jes.su/s207987840002219-9-1 (access date: 03.03.2023). doi: 10.18254/S0002219-9-1 (In Russ.)
- Beglov A.L. Mezhdunarodnaia deiatel’nost’ Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi v period “novogo kursa” v gosudarstvenno-tserkovnykh otnosheniiakh. Osnovnye etapy i krizisnye iavleniia [International Activities of the Russian Orthodox Church During the “New Course” in Church-State Relations. Main Phases and Crisis Phenomena] // Kontury global’nykh transformatsii: politika, ekonomika, pravo [The Outlines of a Global Transformation: Politics, Economics and Law]. 2018. T. 11. № 4. S. 104–129. URL: https://doi.org/10.23932/2542-0240-2018-11-4-104-129 (access date: 03.08.2024). (In Russ.)
- Beglov A.L. Religioznaia zhizn’ v SSSR i ego otnosheniia s soiuznikami v 1943 godu glazami amerikanskogo assumptsionista [Religious Life in the USSR and the Allied Policy of 1943: The Perspective of an American Assumptionist] // Novaya i Novejshaya Istoriya [Modern and Contemporary History]. 2022. № 5. C. 173–184. doi: 10.31857/S013038640020319-8 (In Russ.)
- Beglov A.L. V poiskakh “bezgreshnykh katakomb”. Tserkovnoe podpol’e v SSSR [In Search of “Ideal Church Catacombs”. Church Underground in the USSR]. Moskva, 2008. (In Russ.)
- Beglov A.L., Fadeyev I.A. Amerikanskie predstaviteli v SSSR i sud’ba sovetskoi religioznoi politiki v nachale Velikoi Otechestvennoi voiny. Iz korrespondentsii ottsa Leopol’da Brauna 1941 goda [American Representatives to the USSR and the Fate of Soviet Religious Policy at the Beginning of the Great Patriotic War: From Father Leopold Braun’s Correspondence of 1941] // Novaya i Novejshaya Istoriya [Modern and Contemporary History]. 2023. № 3. S. 207–227. doi: 10.31857/S013038640024937-8 (In Russ.)
- Beglov A.L., Fadeyev I.A. Sud’ba katolicheskogo khrama sv. Liudovika v Moskve v osveshchenii amerikanskogo assumptsionista [The fate of the Catholic Church of St. Louis of the French in Soviet Moscow: The perspective of an American assumptionist] // Elektronnyj nauchno-obrazovatel’nyj zhurnal “Istoriya [Electronic scientific and educational journal “History”]. 2021. T. 12. Vyp. 8 (106). URL: https:// history.jes.su/s207987840016675-1-1/ (access date: 03.03.2023). doi: 10.18254/S207987840016675-1 (In Russ.)
- Bolotov S.V. Russkaia Pravoslavnaia Tserkov’ i mezhdunarodnaia politika SSSR v 1930-e – 1950-e gody [The Russian Orthodox Church and the international policy of the USSR in the 1930s–1950s]. Moskva, 2011. (In Russ.)
- Budnitskii O.V. Repressii protiv veruiushchikh nakanune i vo vremia Velikoi Otechestvennoi voiny 1939–1945 gg. [Repressions against believers on the eve and during the Great Patriotic War 1939–1945] // Rossiiskaia istoriia [Russian History]. 2019. № 3. S. 100–124. (In Russ.)
- Chumachenko T.A. Gosudarstvo, pravoslavnaia tserkov’, veruiushchie [State, Orthodox Church, Faithful]. 1941–1961 gg. Moskva, 1999. (In Russ.)
- Dzhentile E. Politicheskie religii. Mezhdu demokratiei i totalitarizmom [Political Religions. Between Democracy and Totalitarianism]. Sankt-Peterburg, 2021. (In Russ.)
- Filippov B.A. F. Ruzvel’t, Pii XII, I. Stalin i problema reputatsii SSSR v gody Vtoroi mirovoi voiny [Franklin Roosevelt, Pius XII, Joseph Stalin and the Problem of the USSR’s Image and Reputation During the Second World War] // Vestnik Pravoslavnogo Svyato-Tihonovskogo gumanitarnogo universiteta. Seriia II. Istoriia. Istoriia Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi [Bulletin of the Orthodox Holy-Tikhonov University for the Humanities. Series II. History. The History of the Russian Orthodox Church]. 2016. Vyp. 4 (71). S. 84–102. (In Russ.)
- Galkin A.K. Ukazy i opredeleniia Moskovskoi Patriarkhii ob arkhiereiakh s nachala Velikoi Otechestvennoi voiny do Sobora 1943 g. [Decrees and definitions of the Moscow Patriarchate on bishops from the beginning of the Great Patriotic War to the Council of 1943] // Vestnik tserkovnoi istorii [Herald of Church History]. 2008. № 2 (10). S. 57–118. (In Russ.)
- Iakunin V.N. Ukreplenie polozheniia Russkoi Pravoslavnoi tserkvi i struktura ee upravleniia v 1941–1945 gody [Strengthening the position of the Russian Orthodox Church and the structure of its administration in 1941–1945] // Rossiiskaia istoriia [Russian History]. 2003. № 4. S. 83–93. (In Russ.)
- Khristoforov V.S. K istorii tserkovno-gosudarstvennykh otnoshenii v gody Velikoi Otechestvennoi voiny [To the history of church-state relations during the Great Patriotic War] // Rossiiskaia istoriia [Russian History]. 2011. № 4. S. 172–177. (In Russ.)
- Kurliandskii I.A. Stalin, vlast’, religiia (religioznyi faktor vo vnutrennei politike sovetskogo gosudarstva v 1922–1953 gg.) [Stalin, power, religion (religious factor in the internal policy of the Soviet state in 1922–1953)]. Moskva, 2011. (In Russ.)
- Miner S.M. Stalinskaia sviashchennaia voina. Religiia, natsionalizm i soiuznicheskaia politika [Stalin’s Holy War: Religion, Nationalism, and Alliance Politics]. 1941–1945. Moskva, 2010. (In Russ.)
- Oboznyi K.P. Istoriia Pskovskoi Pravoslavnoi Missii [The History of the Pskov Orthodox Mission]. 1941–1944. Moskva, 2008. (In Russ.)
- Odintsov M.I. Religioznye organizatsii v SSSR nakanune i v gody Velikoi Otechestvennoi voiny 1941–1945 gg. [Religious organisations in the USSR on the eve and during the Great Patriotic War 1941–1945]. Moskva, 1995. (In Russ.)
- Odintsov M.I., Kochetova A.S. Konfessional’naia politika v Sovetskom Soiuze v gody Velikoi Otechestvennoi voiny 1941–1945 gg. [Religious Policy in the Soviet Union During the Great Patriotic War, 1941–1945]. Moskva, 2014. (In Russ.)
- Petrov I.V. Mezh dvukh zol. Pravoslavnoe dukhovenstvo na vremenno okkupirovannoi territorii RSFSR v 1941–1944 gg. [Between two evils. Orthodox clergy in the temporarily Occupied Territory of the Russian Soviet Federative Socialist Republic in 1941–1944]. Moskva, 2021. (In Russ.)
- Pliakin M., sviashch. Goneniia na Russkuiu Pravoslavnuiu Tserkov’ v 1940-e gody [Persecution of the Russian Orthodox Church in the 1940s] // Trudy Saratovskoi pravoslavnoi dukhovnoi seminarii [Proceedings of the Saratov Orthodox Theological Seminary]. Vyp. XI. Saratov, 2017. S. 169–182. (In Russ.)
- Roccucci A. Stalin i patriarkh: Pravoslavnaia tserkov’ i sovetskaia vlast’ [Stalin and the Patriarch: The Orthodox Church and Soviet Power]. 1917–1958. Moskva, 2016. (In Russ.)
- Russkaia Pravoslavnaia Tserkov’ v gody Velikoi Otechestvennoi voiny 1941–1945 gg. Sb. dok. [The Russian Orthodox Church during the Great Patriotic War of 1941–1945. Collection of documents] / sost. O.Yu. Vasil’eva, I.I. Kudriavtsev, L.A. Lykova. Moskva, 2009. (In Russ.)
- Shkarovskii M.V. Natsistskaia Germaniia i Pravoslavnaia Tserkov’ (natsistskaia politika v otnoshenii Pravoslavnoi Tserkvi i religioznoe vozrozhdenie na okkupirovannoi territorii SSSR) [Nazi Germany and the Orthodox Church (Nazi policy towards the Orthodox Church and religious revival in the occupied Territory of the USSR)]. Moskva, 2002. (In Russ.)
- Shkarovskii M.V. Politika Tret’ego reikha po otnosheniiu k Russkoi Pravoslavnoi Tserkvi v svete arkhivnykh materialov 1935–1945 godov [The policy of the Third Reich towards the Russian Orthodox Church in the light of archival materials of 1935–1945]. Sb. dok. Moskva, 2003. (In Russ.)
- Shkarovskii M.V. Russkaia Pravoslavnaia Tserkov’ pri Staline i Khrushcheve (gosudarstvenno-tserkovnye otnosheniia v SSSR v 1939–1964 godakh) [The Russian Orthodox Church Under Stalin and Khrushchev: State-Church Relations in the USSR in 1939–1964]. Moskva, 1999. (In Russ.)
- Sudoplatov P. “Ostaius’ edinstvennym zhivym svidetelem...” [“I remain the only living witness...”] // Molodaia gvardiia [The Young Guard]. 1995. № 5. S. 18–43. (In Russ.)
- Tokareva E.S. Ital’yanskie katolicheskie kapellany na Vostochnom fronte v gody Vtoroj mirovoj vojny [Italian Catholic chaplains on the Eastern front during World War II] // Novaya i Novejshaya Istoriya [Modern and Contemporary History]. 2022. № 5. S. 153–172. doi: 10.31857/S013038640020036-7 (In Russ.)
- Tokareva E.S. Vatikan v fokuse sovetskoi politiki i propagandy [The Vatican in the Focus of Soviet Policy and Propaganda]. 1921–1941 gody. Moskva, 2023. (In Russ.)
- Tokareva E.S. Vatikan v sovetskoi politike i propagande v gody Vtoroi mirovoi voiny [The Vatican in Soviet Politics and propaganda during the Second World War] // Ioann XXIII i sovremennyi mir [John XXIII and the modern world]. Moskva, 2002. S. 98–128. (In Russ.)
- Vasil’eva O.Yu. Russkaia Pravoslavnaia Tserkov’ v politike Sovetskogo gosudarstva v 1943–1948 gg. [The Russian Orthodox Church in the Policies of the Soviet State, 1943–1948]. Moskva, 1999. (In Russ.)
- Vneshniaia politika Sovetskogo Soiuza v period Otechestvennoi voiny. T. 1. 22 iiunia 1941 g. – 31 dekabria 1943 g.: Dokumenty i materialy [Foreign Policy of the Soviet Union during the Patriotic War. Т. 1. 22 June 1941 – 31 December 1943. Documents and materials]. Moskva, 1944. (In Russ.)
- Zhdanova E.S. Ustanovlenie kontrolia sovetskoi vlasti nad katolicheskim khramom sv. Liudovika v Moskve v 1947–1950 gg. (po dokumentam Soveta po delam religioznykh kul’tov pri Sovete Ministrov SSSR) [The Establishment of Soviet Control over the Church of St. Louis in Moscow in 1947–1950 (According to the Documents of the the Council for Religious Cults Affairs under the Council of Ministers of the Soviet Union)] // Elektronnyi nauchno-obrazovatel’nyi zhurnal “Istoriia” [Electronic scientific and educational journal “History”]. 2021. T. 12. Vyp. 8 (106). URL: https://history.jes.su/s207987840016674-0-1/ (access datе: 19.07.2024). (In Russ.)
- Freeze G., Beglov A., Beliakova N., Tokareva E. Catholics in the Soviet Union: New Research and New Sources on Everyday Religious Life (1917–1958) // The Catholic Historical Review. 2020. Vol. 106. № 3. Р. 477–489. URL: https://doi.org/10.1353/cat.2020.0050 (access datе: 19.07.2024).
Supplementary files