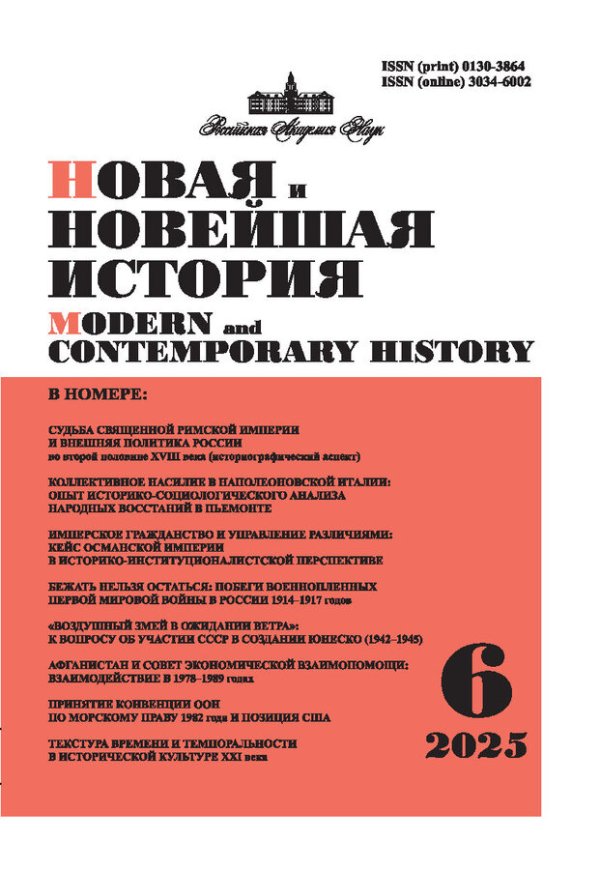On the Issue of the Erosion of the Social Stratum of Engineering and Technical Workers During the Years of Socio-Economic Transition (1987–1999)
- Authors: Chagadaeva O.А.1
-
Affiliations:
- National Research Nuclear University “Moscow Institute of Engineering and Physics”
- Issue: No 3 (2024)
- Pages: 171-183
- Section: 20th century
- URL: https://bakhtiniada.ru/0130-3864/article/view/259835
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0130386424030135
- ID: 259835
Cite item
Full Text
Abstract
The author explores the issue of the erosion of the social stratum of engineers and technicians, which occupied a significant place in the structure of Soviet society, under the influence of the transformation processes of the late 1980s–1990s. Using the materials of in-depth interviews, ego-documents, “digital footprint”, and archival sources, with the use of digital methods (analytical platform PolyAnalyst), the author studies the processes of adaptation of engineering and technical intelligentsia to the realities of the transition economy, traces the change of value attitudes of engineers and technicians. The author identifies three key strategies of post-Soviet engineers’ adaptation to so-called “savage capitalism”: cooperative entrepreneurship, application of professional knowledge and skills in the sphere of private household services, and leaving the profession for private trade. She analyses factors that contributed to the choice of this or that strategy, favored and hindered adaptation in general. She concludes that the loss of socio-professional identity led to the deterioration of social well-being of former soviet ITRs, regardless of their former specialization and acquired material status, and, more broadly, led to the crisis of social and civic identity in post-soviet Russia, the consequences of which are still being felt today.
Full Text
В результате целенаправленной политики популяризации профессии инженера к началу 1980-х годов практически половина советских студентов обучалась техническим специальностям1. К распаду СССР социальный слой инженерно-технических работников (ИТР) представлял собой многогранную, но достаточно однородную массу специалистов – носителей определенной профессиональной культуры, имеющих высшее или среднее специальное образование, занятых престижным делом разработки и внедрения новых технологий, обслуживания высокотехнологичной техники на предприятиях, в конструкторских бюро и научно-исследовательских институтах. Экономические потрясения 1987–1990-х годов привели к кардинальным переменам в повседневности, к ухудшению социального самочувствия, к отчуждению от профессиональной деятельности и идентичности и, как следствие, к депрофессионализации профессиональной группы инженеров, к резкому падению престижа инженерного образования. Казавшаяся монолитной масса инженерно-технических работников раскололась на группы, выбиравшие те или иные стратегии адаптации к условиям экономической и политической турбулентности. Итогом периода «дикого капитализма» стало размывание социального слоя ИТР, воспитанного в парадигме плановой экономики.
Исследование призвано обозначить процесс разложения слоя советской инженерно-технической интеллигенции, ставшего прямым следствием социально-экономической трансформации страны в конце 1980-х – 1990-е годы, и проследить различные стратегии выживания (бывших) советских инженерных работников в годы «дикого капитализма», поиски ими новых карьерных траекторий и ценностных ориентиров. Анализ источников позволяет выделить три ключевые стратегии адаптации бывших советских ИТР к условиям переходной и рыночной экономики: кооперативное предпринимательство, применение профессиональных знаний и навыков в сфере бытового обслуживания и уход из профессии (в большинстве случаев воспринимаемый как временный) в частную торговлю. За рамками исследования остается еще одна заметная 2 жизненная стратегия – эмиграция. Во-первых, постсоветский феномен массовой «утечки мозгов» требует отдельного осмысления и изучения, а во-вторых, объективно не может рассматриваться как стратегия адаптации к условиям жизни в новой России. При этом автор разделяет точку зрения, что «эмиграция за рубеж явилась не только одним из способов улучшения материального положения, но и возможностью сохранить принадлежность к особой профессиональной группе и социокультурной среде»3. Социальные девиации, неизбежные в состоянии аномии, в котором оказалось российское общество в период социально-экономической трансформации, также остались за рамками исследования.
Выбор объекта исследования обусловлен тем, что к концу советской эпохи техническая интеллигенция и инженерно-технические работники занимали значительное место в социальной структуре общества: так, в 1986 г. среднегодовая численность ИТР составляла 5 584 тыс. человек4. Под инженерно-технической интеллигенцией автор подразумевает социально-профессиональную группу, к которой относятся люди, занятые квалифицированным умственным трудом в сфере материального производства и управления промышленностью, требующим высшего или среднего специального образования. Понятие инженерно-технические работники несколько шире и включает всех инженеров и техников, имеющих отношение к инженерному труду, а также значительную часть служащих и руководителей. Согласно исследованиям социологов, к концу 1980-х годов понятие ИТР фактически стало синонимом понятия «работник умственного труда на производстве»5. Исходя из этого тезиса, автор определяет термин ИТР максимально широко: дипломированные инженеры разнообразной специализации, в том числе с научной квалификацией кандидата и доктора наук, дипломированные инженеры, инженерно-технические работники-практики, техники со средним специальным образованием, занятые в различных областях промышленности. Географические рамки исследования в основном ограничены РСФСР – РФ, с привлечением материалов других республик СССР и возникших на их территории постсоветских государств.
Базой исследования служат материалы устной истории, «цифровые источники» и классические эго-документы.
Очевидно, что исследование человеческого измерения эпохи социально-экономической трансформации России в 1987–1999 гг. невозможно без привлечения свидетельств живых очевидцев событий. Число опубликованных источников личного происхождения по изучаемой теме невелико ввиду только начинающейся ее историзации.
Устная история позволяет реконструировать события прошлого в восприятии самих участников этих событий, сфокусироваться непосредственно на теме исследования, что особенно важно при недостаточной информативности других видов источников личного происхождения. Автор провела 28 неформализованных глубинных интервью с позднесоветскими инженерно-техническими работниками различной специализации. Все респонденты получили высшее или среднее техническое образование и успели поработать на позднесоветском предприятии, в опытно-конструкторском бюро или научно-исследовательском институте (НИИ) до распада Советского Союза. Беседы проводились по созданному заранее опроснику, однако, как правило, не ограничивались кругом проблем, изложенных в гайде, что позволило создать многомерную картину повседневности ИТР в годы социально-экономического транзита. Автор понимает и учитывает при работе с устными свидетельствами тот факт, что индивидуальная память подвержена влиянию других источников, отфильтрована последующим опытом, эмоционально окрашена, а потому максимально субъективна, поэтому данные интервью анализируются в совокупности со всеми остальными источниками, относящимися к теме исследования.
Еще одним крупным блоком источников стал «цифровой след» представителей инженерно-технических специальностей, рефлексирующих о непростом периоде в истории профессии и страны. «Цифровой след» – особый тип нарративного источника, ставший объектом изучения цифровой антропологии как части социальной антропологии. Эпоха 1990-х годов является объектом рефлексии различных социальных групп и активно обсуждается в интернете – на форумах, в том числе профессиональных, в популярных пабликах (информационно-развлекательных сообществах) и в социальных сетях. Каждый пост (информационный блок, размещенный в социальной сети), затрагивающий тематику «лихих» или «святых» девяностых, открывает широкую общественную интернет-дискуссию, измеряемую сотнями, а порой и десятками сотен комментариев. Люди, пережившие эпоху трансформации, делятся собственным или семейным опытом вынужденной смены сферы деятельности, изменения социального и материального статуса и своими переживаниями. Именно поэтому материалы «цифрового следа» представляют особый интерес для исследователя вопросов депрофессионализации и размывания слоя ИТР. В ходе подготовки исследования было собрано в базу и проанализировано в комплексе с другими источниками порядка 2 тыс. рефлексивных интернет-постов и комментариев инженеров (и об инженерах) о переломном периоде в их профессиональной жизни6.
Классические источники личного происхождения носят в исследовании вспомогательный характер и представлены в первую очередь дневниками и воспоминаниями жителей постсоветского пространства о 1987–1998 гг., а также эпистолярными документами – письмами граждан во власть, отложившимися в экономическом отделе ЦК ЦПСС, и в средства массовой информации7.
В итоге в распоряжении автора оказались нарративные источники разного формата и объема – от многостраничных расшифровок глубинных интервью, проведенных в рамках указанного исследования, до лаконичных интернет-комментариев «инженерного» цифрового следа. Провести качественный контент-анализ такого объема данных «вручную» оказалось достаточно трудно, поэтому для анализа «цифрового следа», а также всего источникового материала в комплексе была использована аналитическая платформа PolyAnalyst. Платформа не требует от пользователя навыков программирования и имеет интуитивно понятный интерфейс, что позволило проанализировать данные из источников цифровыми методами. Программа, безусловно, имеет свои недостатки и определенные границы применения в социогуманитарных науках, однако оказалась незаменимой в качестве вспомогательного метода, в частности для вычленения неочевидных ключевых слов и смысловых категорий, ставших предметом анализа.
Несмотря на то, что в последние годы советские инженеры как профессиональная группа становились объектом исследования различных социогуманитарных дисциплин, проблема размывания социальной группы инженеров в годы социально-экономического транзита оставалась за рамками данных исследований. Наиболее глубоко инженерно-технические работники как профессиональная и социальная группа были исследованы в рамках социологии8, в частности социологии профессий; историки и специалисты по исторической антропологии много меньше обращались к этой проблематике. На сегодняшний день наибольший, пожалуй, вклад в междисциплинарное изучение советских инженеров как профессиональной группы внес Р.Н. Абрамов, чьи работы на стыке социологии, исторической антропологии и истории посвящены формированию в СССР особой социальной группы инженеров, рабочей повседневности советских ИТР и их профессиональной культуры9. Основным подходам к изучению российской технической интеллигенции посвящена статья Е.В. Сломинской10. Появились работы о формировании научно-технической интеллигенции в современной России. К изучаемому периоду «приблизилась» И.Г. Старшова, написавшая статью о роли интеллигенции в годы перестройки, однако под интеллигенцией исследователь понимает прежде всего гуманитарную интеллигенцию, а ИТР в целом остались за рамками исследования11. М.Н. Гусарова, работающая на стыке социологии и истории, опубликовала ряд работ по формированию научно-технической интеллигенции в Российской Федерации, в том числе по вопросу преемственности советского опыта, однако процесс размывания советского социального слоя инженерно-технической интеллигенции под влиянием факторов социально-экономической трансформации общества в конце 1980-х – 1990-е годы также не получил в них специального изучения12. Советские инженеры в период социально-экономического транзита на сегодняшний день не были предметом специальных исследований зарубежной историографии.
Целенаправленная политика советской власти по «насаждению» технического образования (1960–1980-е годы) привела к появлению огромного числа дипломированных специалистов с высшим техническим образованием. Выпускника инженерного вуза ждала стабильная работа на предприятии, в научно-исследовательском институте или опытно-конструкторском бюро, при этом существовавшая система распределения выпускников техникумов и вузов «автоматизировала» процесс трудоустройства, гарантировала равные шансы как для выдающихся, инициативных, так и для посредственных молодых специалистов. Карьерная траектория, как правило, представляла собой прямую линию, а в трудовой книжке зачастую с момента поступления на производственную практику до выхода на пенсию значился лишь один работодатель. Внерабочая повседневность также в целом крутилась в орбите родного предприятия, особенно если дело касалось градообразующих гигантов, формирующих вокруг себя всю инфраструктуру создававшихся вокруг них населенных пунктов. Приоритет инженерного образования и оставшееся еще со времен оттепели (пик престижности инженерных профессий) уважительное отношение к представителям технических специальностей создавали ощущение удовлетворенности собственным трудом ввиду его высокой общественной значимости. Интеллигенция, и прежде всего инженерно-техническая, специалисты и служащие среднего звена играли в СССР по сути роль среднего класса. Притом, в отличие от «лириков» (представителей гуманитарной интеллигенции), которые, по словам исследователя А.В. Шубина, «ощущая отставание гуманитарных начал (личностных, гражданских, демократических)», стремились «вырваться из тесных авторитарно-индустриальных рамок современного общества», «физики» (представители технической интеллигенции) видели целью повышение эффективности производства и составляли опору власти13.
Все это формировало определенные ценности позднесоветского инженерно-технического работника, которые можно обозначить категориями «стабильность» и «социальная значимость». Все респонденты данного исследования, вне зависимости от специализации, оценивая свою профессиональную деятельность накануне и в первые годы перестройки и говоря о ее безусловных достоинствах, упоминали стабильную зарплату, уверенность в завтрашнем дне, прозрачность карьерной траектории: «Все было ясно и понятно»14. «Стабильность, все было как-то одинаково, одни и те же цены в магазинах, нормальная размеренная жизнь, как у всех, основной массы людей… в целом нормальная советская обычная стабильная жизнь»15. «Человек знал, что он в любом случае будет при работе, при зарплате, если …высшее образование, то и с жильем в итоге»16. Невысокая (по сравнению, например, с рабочими специальностями) зарплата обеспечивала базовые потребности и, главное, «давала чувство уверенности в социальном равенстве: не было разобщенности в зарплатах и неравенства какого-то»17.
Как ценность определялась принадлежность к определенной социокультурной среде: интеллигентных, образованных людей с высокими духовными запросами, имеющих широкий круг интересов и осознающих собственную значимость как представители социального слоя. Так, подавляющее число респондентов отмечали, что читали с последующим обсуждением самиздат, регулярно ходили в театр. Четвертой ценностной категорией советского ИТР, которую так или иначе упоминали все респонденты и которая хорошо прослеживается во всем нарративе интернет-дискуссий, является «интересная работа». Интеллектуальный труд, возможность проявить свои способности и применить полученные знания и приобретенный опыт при наличии весьма прозрачных карьерных перспектив позднесоветского времени ценились инженерно-техническими специалистами больше, чем более высокое материальное положение. Так, лишь 1 из 28 респондентов признался, что в молодости готов был поменять работу инженера на менее квалифицированную, но более высокооплачиваемую рабочую профессию: «Но подходящего ничего не подворачивалось. Поэтому как-то так получилось, что работал всегда на интересных местах»18.
Тем не менее, рефлексируя о своей позднесоветской трудовой повседневности, респонденты отмечали и негативные проявления, которые воспринимались как нечто неотвратимое и непреодолимое в условиях советской плановой экономики. Так, среди недостатков довольно часто упоминалась необходимость присутствовать на рабочем месте при отсутствии текущих профессиональных задач: «Больше всего убивало, что нужно приходить к определенному часу, ладно, но нельзя уйти – есть работа, нет работы, ты сиди и находись на месте. Это было тяжело, особенно молодым людям, у которых неуемная энергия, хотелось ее как-то воплотить»19.
Отмечалась также низкая трудовая мобильность. Респонденты признавали, что сменить карьерную траекторию по собственному желанию было достаточно сложно, особенно если под сменой подразумевался переход в категорию работников более низкой квалификации. Так, один из респондентов упоминал, что инженерное образование позднесоветского образца не только открывало определенные возможности, но и накладывало определенные обязательства, а потому перейти на менее квалифицированную, хотя и более оплачиваемую рабочую должность дипломированному инженеру было практически невозможно: «Нельзя было из инженеров уйти в рабочие. Официально. Вот так вот! Можно было уйти с завода. Закопать трудовую книжку и диплом [смеется]. И не говорить на другом месте работы, что ты инженер. Тогда тебя могли бы взять в рабочие»20. Похожим опытом делятся и интернет-пользователи: «Я работал на производстве инженером, так у нас многие инженеры переходили в наладчики, но хрен устроишься, только по большой договоренности, там сделка и зарплата была в два раза больше»21. Другой респондент отмечал: «Инженеры считались недальновидными. “Работяги” смеялись, мол, сейчас я получаю 160, а пойду в вуз – буду получать 120. Смеялись над инженерами»22.
По факту единственным способом получения более высокооплачиваемой должности в более короткий, чем того требовал переход по карьерной лестнице внутри предприятия, срок было получение дополнительного образования и/или ученой степени. Так, одна из респонденток, осознав, что работа «асушницей» (инженером по автоматизации) не приносит ни достатка, ни удовольствия, получила второе высшее образование (математик) и поступила в аспирантуру, после чего работала в вузе23. Другой респондент, устав работать ИТР на предприятии, перешел в НИИ, где при аналогичном заработке получил более спокойную работу24.
Многие упоминали однообразность, рутинность даже интересной по сути работы, отсутствие возможности проявить творческих подход к решению производственных и научно-исследовательских задач, консервативный взгляд вышестоящего руководства на методы и темпы выполнения задач. Как обобщила наша респондентка: «Все скучновато, никаких перспектив к творчеству, все по сценарию»25.
Впрочем, первые шаги советской власти в сторону рынка были восприняты в обществе в целом и в инженерной среде в частности неоднозначно. Закон «Об индивидуальной трудовой деятельности» 1986 г., выводивший из области теневой экономики такие привычные уже для постсоветской реальности виды частного предпринимательства (в свободное от «общественно полезного труда» время), как репетиторство, извоз и кустарно-ремесленные промыслы, мало отразился на повседневности тех, кто не имел к ним отношения26. «Нетрудовые доходы» от такой деятельности соответствовали трудозатратам, не превышали доходы от любых других легальных вариантов подработки, а потому декриминализовавший их закон расценивался достаточно нейтрально. А вот три постановления 1987 г.: о создании кооперативов по бытовому обслуживанию населения, производству товаров народного потребления и в сфере общественного питания и последовавший за ними 26 мая 1988 г. Закон «О кооперации в СССР», вызвали острейшую общественную дискуссию27. Некоторые респонденты, как и адресанты полных возмущения писем в ЦК, считали, что закон «О кооперации» дал старт размыванию слоя ИТР и депрофессинализации его представителей. Так, в одном из писем в ЦК указывалось на «уродливые, но очевидные» проявления кооперации: «Отток высококвалифицированных рабочих кадров, дипломированных инженеров из промышленности, науки и т. д. в кооперативы… чтобы стать там доставалами – экспедиторами, посудомойками, грузчиками»28. Массовый «отток высококвалифицированных кадров из промышленности и строительства» и «массовый перевод государственных предприятий в кооперативные» констатировали и в высших эшелонах власти29.
После распада СССР процессы размывания слоя ИРТ стали необратимыми. Кардинальные перемены в сфере экономики привели к увольнению значительной части ИТР в связи с закрытием ряда предприятий и сокращением производства, к переводу работников еще функционирующих предприятий и учреждений на неполный рабочий день, к отправке сотрудников в длительные неоплачиваемые административные отпуска, к катастрофическому несоответствию заработной платы реальному прожиточному минимуму, к многомесячным задержкам выплат этой заработной платы и, главное, – к тотальной неопределенности, неясности перспектив дальнейшей трудовой деятельности и повседневной жизни. Об этом упоминают все респонденты: «И на 180 разворот, ты понимаешь, что-то, к чему ты готовился в жизни, этого, считай, нет. Это, конечно, отрицательно, что наше поколение, мы как специалисты оказались вычеркнуты»30; «После 90-х промышленность была практически вычищена из пейзажа страны. Инженеры перестали доминировать как профессиональная лига. Работать им стало просто негде»31.
Такое разрушение советской социальной инфраструктуры привело к переоценке ценностей инженерно-технических работников. В нарративе постсоветских инженеров появляются такие ценностные категории, как «свобода» и «творчество». При этом все респонденты, хотя и следили за политической ситуацией в стране, повседневным трудностям уделяли большее внимание. Вовлеченность интеллигенции, во всяком случае инженерно-технической, в социально-политические процессы 1990-х годов выглядит преувеличенной. ИТР, как и подавляющее большинство бюджетников, оказавшихся за бортом новой жизни, были озабочены в первую очередь бытовыми вопросами. Однако примерно половина респондентов и меньшая, но при этом заметная, часть респондентов и интернет-дискуссантов отмечали появление перспективы социальной мобильности, возможности взять инициативу в свои руки, реализовать свой потенциал: «Это был серьезный творческий скачок. Самой пришлось многое осваивать. …Пришлось много самообразовываться, перестроить свое мировоззрение, мышление, навыки»32.
Наиболее эффективной и последовательной стратегией приспособления к социально-экономическим реалиям переходной экономики стало развитие кооперативного предпринимательства с последующим переводом кооперативов в малые частные предприятия и акционерные общества. После вступления в силу закона «О кооперации» представители ИТР создавали кооперативы внутри (и на материальной базе) своего же предприятия, перепрофилировали производство под текущий спрос и занимались реализацией своей продукции. Поэтому на рубеже 1980–1990-х годов на всех крупных предприятиях, даже в военно-промышленном секторе, были организованы десятки сначала кооперативов, а позже малых предприятий, диапазон деятельности которых был максимально широк. Например, в одном из московских кооперативов «варили люстры из шлакового стекла. Даже выиграли какой-то конкурс и получили большой заказ. Вышли в сильный плюс, но с работы уволиться было нельзя, потому что люстры делали на оборудовании завода из мусора того же завода»33. Внутри Радиотехнического института им. академика А.Л. Минца, занимавшегося противоракетной обороной, действовало несколько десятков предприятий. Они занимались ремонтом электрооборудования, автоаксессуаров; телекоммуникацией, производством радар-детекторов, видеоаппаратуры и другого оборудования. Наиболее успешным из них оказался «Вымпелком», занявшийся сотовой телефонией.
Особой формой кооперации стали созданные в порядке эксперимента инженерно-технические и проектно-конструкторские кооперативы. Мосгорком осенью 1988 г. констатировал, что «производимые ими разработки обходятся государству дешевле, быстрее и выполняются меньшей численностью»34.
В то же время создавались компьютерные кооперативы, где трудоустраивались самые перспективные и высококвалифицированные инженеры-программисты. В Москве большим спросом пользовались крупные компьютерные кооперативы «Элин», «Техника», «Интер», «Диск», наладившие активное международное сотрудничество. Архивы свидетельствуют, что они, помимо прочего, обращали на себя повышенное внимание властей в связи с возможной утечкой «секретной информации и интеллектуального потенциала»35. В 1990-е у ИТР, обладающих навыками программирования, появился шанс реализовать свои способности – сотни новых организаций и предприятий нуждались в автоматизации. Один из респондентов, в прошлом физик-теоретик, сменивший в 1990-е не одно место работы, преимущественно в финансовом секторе, отмечал: «Вот для меня начало 90-х как раз я бы не назвал трудностями, я попал в струю… Многие говорили: “Вот как бы мне устроиться?”. А там надо было уже знать языки программирования, прикладное программирование, а они этого не знали»36.
К концу перестройки многие производственные кооперативы по факту занимались лишь распродажей материальной базы предприятия или перепродажей оборудования по рыночной цене. «Перепродавали аудиоаппаратуру. В магазине был блат. Цены еще старые – советские, а денежки уже новые пошли. Так мы брали по госцене, а перепродавали, в несколько раз накручивая цену, причем некоторые умудрялись накрутить еще и на мою маржу и продать третьим лицам. Тогда и себе аппаратуры набрал»37.
Однако, если через кооперативы прошло большое число ИТР, удержаться на одном предприятии и тем более создать и сохранить в турбулентные 1990-е собственный бизнес смогли лишь единицы. Создатель «Вымпелкома» Д.Б. Зимин так оценивал долю кооператоров, сохранивших и приумноживших свое дело в 1990-е: из 3 тыс. работников Радиотехнического института в 1990-е «трое или четверо оказались более или менее успешными», «тогда бизнесом, по-моему, все хотели заниматься, но в итоге получилось у одной десятой процента»38. Но такой «заход» в рыночную экономику стал карьерным трамплином для тех немногих ИТР, освоивших новые технологии и ставших востребованными в новых реалиях профессионалами.
Под влиянием радикальных рыночных реформ более активным стал процесс перехода инженерно-технических работников и технической интеллигенции из традиционных для плановой экономики отраслей – промышленности, сельскохозяйственного сектора, строительства и прикладной науки – в сферу услуг, начавшийся еще в годы перестройки в связи с законом о кооперации. После 1991 г. инженерно-технические работники массово уходили из производства в сферу бытового обслуживания, либо совмещали эти два вида деятельности. Можно выделить три стратегии такого полного или частичного перемещения ИТР из бюджетной сферы в рыночную с сохранением профессиональной деятельности. Первая предполагала совмещение основной работы с побочным заработком, чаще всего связанным с выполнением время от времени частных заказов. Такая стратегия позволяла работнику удерживать принадлежность к социально-профессиональной группе ИТР, создавала иллюзию стабильности, а кроме того позволяла использовать материально-технические ресурсы предприятия или учреждения для выполнения частных заказов. Как признавался один из ИТР: «Ставил сигнализации, видеонаблюдение, радиосвязь, ну и ремонт телевизоров и т. д., конечно… Работал в НИИ, в плохой день “халтура” приносила годовую зарплату в НИИ»39. Возможность подрабатывать – в советской терминологии «халтурить», «шабашить» или «калымить» – распространилась в СССР еще в годы «развитого социализма» (1970-е годы), и потому подобные заработки на стороне не выходили за рамки привычной советской повседневности и не воспринимались как что-то постыдное.
Вторая стратегия заключалась в переходе из бюджетного сектора в рыночный в качестве наемного работника. В 1990-е годы появились первые сервисные центры, предоставляющие услуги ремонта бытовой техники, электроники и компьютеров, частные фирмы, предоставляющие услуги связи, которые были заинтересованы в квалифицированных рабочих руках. Перейдя из бюджетного предприятия в частную компанию, ИТР оставался в привычном для себя нормированном графике труда и отдыха, получал рабочее место и зачастую какой-то минимальный соцпакет, менялся (в сторону увеличения) лишь уровень оплаты труда.
Наконец, третья была связана с индивидуальным предпринимательством: частные мастера по ремонту техники, сбору радиоэлектроники и др. Впрочем, советский ИТР редко выходил в свободное плавание по собственной воле: чаще всего третья стратегия рассматривалась лишь как временный, переходный этап между первой и второй. Привычка «калымить» проявлялась в том, что, даже работая в частных компаниях, бывшие советские рабочие и служащие, по их признанию, продолжали выполнять заказы на стороне. Особенно прибыльной была сфера радиоэлектроники. Наши респонденты и интернет-дискуссанты торговали по своим каналам декодерами, аудио- и видеоаппаратурой, собирали и паяли платы, телефоны с автоматическим определителем номера, вязали шлейфы проводов, ремонтировали телевизоры, видеомагнитофоны, игровые приставки, картриджи, джойстики и др. Примечательно, что большинство тех, кто смог пережить турбулентные 1990-е в таком плавающем режиме, также смогло сохранить свою профессиональную идентичность и после стабилизации экономической ситуации в стране найти постоянную работу по специальности (в нашем случае – 24 из 28 респондентов).
Третий путь предполагал кардинальную смену деятельности – уход из социально одобряемой профессии в неприличную ранее для интеллигентного человека область предпринимательства и частной торговли, что чаще всего воспринималось болезненно как самими ИТР, так и обществом. «Инженеры тысячами стояли в несчастном виде на вещевых рынках или занимались какой-то другой странноватой деятельностью. На моей памяти талантливые инженеры-электронщики уходили в водители “Газелей”, в продавцы в ларьках… По-настоящему талантливые инженеры. Цвет профессии»40. Все респонденты сошлись во мнении, что подобный социальный транзит достаточно легко переживали люди, только-только начавшие профессиональный путь: выпускники вузов, молодые специалисты. Напротив, «для людей 45+ это был крах всей их жизни, поскольку им всегда говорили, что они социально защищены. Закрывались производства, люди не могли найти работу. Прокатилась волна самоубийств среди людей этого возраста. Их увольняли, и они не понимали, как это могло произойти, ведь они всегда были нужными»41. В потере принадлежности к социальному слою ИТР заключалась трагедия сотен тысяч жителей постсоветской России.
Наиболее радикальная стратегия приспособления инженерно-технических работников к условиям изменения социально-экономической среды в начале 1990-х проявилась в единовременном и массовом феномене «челночества». Под влиянием процессов децентрализации и распада хозяйственных связей бывших советских республик, а также «шоковой терапии», без средств к существованию оказались не только ИТР, но и научные работники, учителя, военные и другие профессионалы. При этом доля ИТР среди вынужденных коммерсантов была велика на протяжении всего периода расцвета челночной торговли (1992–1998), что связано, во-первых, с объективной массовостью социального слоя ИТР и выпускников технических вузов к началу 1990-х годов, во-вторых, в связи с тем, что целые отрасли хозяйства оказались в упадке (военно-промышленный комплекс, станкостроение, радиоприборостроение и многие другие направления высоких технологий), их продукция в условиях рынка стала неликвидной, и высвободившиеся рабочие руки и «головы» оказались наименее востребованными в новых реалиях.
Физический переход ИТР в сферу коммерции, полный или частичный (работа во время простоя на предприятии, в вечернее время, выходные дни и отпуска), не означал для них смену социально-профессиональной идентичности: все они стремились удержать социально- одобряемый статус инженерно-технического работника. Частная торговля, особенно связанная с закупкой мелкого опта и продажей в розницу по более высокой цене – наиболее частая форма предпринимательства в годы «дикого капитализма», – ассоциировалась у советского человека с чем-то неприличным и даже противозаконным (частная торговля – спекуляция, мешочничество; лишь в 1986–1988 гг. эта сфера была официально декриминализована серией законов о частной торговле и кооперации). Социологические исследования подтверждают этот тезис: «Из рассказов тогдашних челноков мы знаем, что поначалу решительно все они стремились удержать привычную идентичность учителя, инженера, иного профессионала. Далеко не всем удалось преодолеть идентификационный кризис, некоторые решили вернуться к своей профессиональной деятельности»42.
Для многих переход в коммерцию был совершенно неприемлемым. «Помню, как родителям, работавшим на заводе, по шесть месяцев зарплату не платили, совесть им не позволяла идти торговать, – вспоминают в интернете. – Вы слабо себе представляете ментальность советского человека. Работа в торговле была несколько… хм!… позорна, так сказать. В общем, инженеры продолжали ходить на работу, делая ее и надеясь получить зарплату за прошлый год. Не на того учились»43.
Среди тех, кто пошел на отчаянный шаг, далеко не все оказывались успешными. «Рыночные отношения давались трудно, – делятся воспоминаниями в интернете представители инженерно-технических профессий. – Даже продать джинсы на улице не у всех получалось. Бывает, простоишь весь день – даже никто и не спросит “по чем”?»44.
Наибольшего успеха в коммерции среди ИТР, судя по анализируемым источникам и данным социологических исследований, достигали молодые люди – студенты, недавние выпускники, молодые инженеры, – наименее инертные, не успевшие привыкнуть к социально одобряемому статусу ИТР, к советской стабильности и готовые проявить инициативу. Хотя «непонимание того, что будет дальше» 45из-за резкого изменения экономической ситуации, значительно отразилось на социальном самочувствии и этой категории ИТР. Респонденты замечали: «Наверное, самое значимое, что мы потеряли, это спокойствие: и финансовое, и душевное, и еще любые виды спокойствия мы потеряли». 46
Социологические исследования показали, что в 1990-е годы в челночной торговле преобладали люди с высшим образованием – более 57%, 34% имели среднее специальное и лишь 6% – среднее47. По оценкам исследователей, к середине 1990-х годов в России насчитывалось от 10 до 20 млн челноков, и в основной массе это были выходцы из сфер промышленности, строительства, образования и науки. Подавляющее большинство челноков имели несовершеннолетних детей, что было решающим стимулом попробовать себя в предпринимательстве в отсутствие иных перспектив. Интересен и тот факт, что большинство предпринимателей эпохи переходной экономики – женщины, что подтверждают и социологические исследования, и личные наблюдения респондентов. Мы разделяем точку зрения, что «женщины решали оперативные проблемы выживания семьи, а мужчины – стратегические – сохранение своего статуса, который одновременно был и семейным статусом»48. Иначе, первые брали на себя тяжесть адаптации семьи к рыночным условиям, в то время как вторые не включались в рыночные отношения в надежде пересидеть турбулентные времена. Показателен следующий эпизод, описанный в дневнике главного редактора одной из региональных газет. В 1994 г. корреспондент встретила на одном из рынков (Павлодар, современный Казахстан) подряд главного технолога, бухгалтера, педагога, инженера-программиста и инженера-конструктора с тракторного завода, ведущего конструктора опытного завода монтажных установок, все – женщины49. Примечательно, что челноки предпочитали не распространяться о своей деятельности даже в семье: «Сказать, что мама с папой ездят на рынок, было как-то не очень хорошо… Дети писали: мама, папа – инженеры, и писали о том, что, так сказать, было до того»50.
Даже успешные предприниматели, развившие свой бизнес в сфере розничной торговли, признаются, что жалеют о депрофессионализации и утрате социального статуса ИТР. «Ты учился, хотелось бы поработать. Возможно, впоследствии можно было, наверное, если бы не было своей фирмы, куда-то устроиться, когда уже инженеры стали быть востребованы, когда стали интересоваться нашей специальностью. …Понимаю, что уже время ушло, эти навыки потеряны, нужно начинать все сначала, а уже возраст»51.
Представители социального слоя инженерно-технических работников достаточно тяжело переживали социально-экономические трансформации общества конца 1980–1990-х годов. Деструктивные процессы в экономике, обусловленные системным кризисом в стране, привели к стремительному обесцениванию социального статуса работников умственного труда на производстве и, как следствие, падению престижа технического образования, что препятствовало воспроизводству кадров ИТР в новой России. Представители ИТР были вынуждены массово уходить из сферы интеллектуального высокопрофессионального труда на менее квалифицированную работу, в сферы, в недавнем прошлом считавшиеся недостойными (предпринимательство, торговля). Советская парадигма мышления стала тормозом на пути развития ИТР в условиях рыночной экономики. Привыкшие к стабильной трудовой деятельности, к отсутствию конкуренции и нацеленные на определенную, годами складывавшуюся карьерную траекторию ИТР переживали ситуацию перехода к реалиям рыночной экономики как кризисную. Особенностью раннего этапа российской социально-экономической трансформации было то, что подавляющее большинство инженерных работников, примеривших на себя капиталистические отношения, при этом продолжали формально числиться на рабочем месте вплоть до ликвидации или приватизации предприятия/института. При этом на основании имеющихся источников можно сделать вывод, что направление инженерного образования, профессиональная специализация, сфера трудовой деятельности и уровень квалификации не играли решающей роли при выборе той или иной стратегии адаптации к рынку, а также не были факторами, влияющими на ее успех или неудачу. Намного более важными оказывались возраст и личные качества. Впрочем, эта тема требует дальнейшего изучения.
Размывание социального слоя инженерно-технических работников вследствие социально-экономической трансформации советского общества стало частью более глобальных социально-деструктивных процессов. Ухудшение социального самочувствия бывших ИТР было вызвано не только и не столько тяжелым материальным положением, сколько невозможностью идентифицировать себя с одним из доминировавших и социально одобряемых в прошлом социальных слоев. Такая ситуация сложилась и в других сферах. Потеря социально-профессиональной идентичности («из служащих», «из рабочих», «из крестьян») привела к кризису социальной и – шире – гражданской идентичности в постсоветской России, последствия которой ощущаются до сих пор.
1 Абрамов Р. Инженерный труд в позднесоветский период: рутина, творчество, проектная дисциплина // Социология власти. 2020. № 1. С. 181.
2 Так, из 60 тыс. российских инженеров и ученых, работающих сегодня в Силиконовой долине, эмигрировавших из России в начале 1990-х годов более 80٪. См.: Симонян Р.Х., Кочегарова Т.М. Травматический опыт 1990-х как урок для российского общества // Россия и современный мир. 2014. № 4. С. 108–123.
3 Гусарова М.Н. Формирование научно-технической интеллигенции в Российской Федерации: преемственность исторического опыта и новые тенденции. 1991–2010 гг.: дис. … докт. ист. наук. М., 2010. С. 5.
4 Народное хозяйство за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник. М., 1987. С. 136.
5 Батуро A.M. Социальные аспекты интенсификации труда и подготовки инженеров. Л., 1989. С. 14.
6 Были исследованы такие популярные информационно-развлекательные сообщества, как fishki.net, dzen.ru, pikabu.ru, а также социальные сети livejournal.com, facebook.com (проект Meta Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена).
7 Российский государственный архив новейшей истории (далее – РГАНИ). Ф. 5. Оп. 101. Д. 719. Л. 80–103; Панков А. Письма из 90-х с надеждой и разочарованием. М., 2018.
8 Никитина С.Б. Формирование научно-технической интеллигенции // Власть. 2009. № 4. С. 61–64; Волович Л.А., Макаренко Е.И. «Техническая интеллигенция»: дифференциация методологических подходов // Вестник Казанского технологического университета. 2013. № 16. С. 84–89; Нор-Аревян О.А. Упадок социального самочувствия инженеров и рабочих в 90-е гг. ХX в. как фактор кризиса профессиональной идентичности // Гуманитарий Юга России. 2017. № 3. С. 250–261, и др.
9 Абрамов Р.Н. Профессиональная культура российских инженерно-технических специалистов: универсальные элементы // Социологические исследования. 2016. № 9. С. 96–104; Его же. Советская инженерно-техническая интеллигенция 1960–80-х гг.: в поиске границ коллективного сознания // Вестник Института социологии. 2017. № 20. C. 114–130; Его же. Инженерный труд в позднесоветский период…
10 Сломинская Е.В. Теоретико-методологические вопросы изучения российской технической интеллигенции // Известия ТулГУ. Гуманитарные науки. 2011. № 1. С. 211–224.
11 Старшова И.Г. Роль интеллигенции в период перестройки 1987–1991 гг.: историко-социологический анализ // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2010. № 5. С. 173–181.
12 Гусарова М.Н. Становление нового типа научно-технической интеллигенции (проблема идентификации и позиционирования) // Власть. 2009. № 7. С. 45–48; Ее же. Формирование научно-технической интеллигенции…
13 Шубин А.В. Диссиденты, неформалы и свобода в СССР. М., 2008. С. 33–34.
14 Интервью с Сергеем, 1960 года рождения, инженер, в 2023 г. // Личный архив автора.
15 Интервью с Викторией, 1968 года рождения, инженер химик-технолог, в 2023 г. // Личный архив автора.
16 Интервью с Ольгой, 1973 года рождения, математик, в 2023 г. // Личный архив автора.
17 Интервью с Дмитрием, 1970 года рождения, инженер-теплотехник, в 2023 г. // Личный архив автора.
18 Интервью с Александром, 1958 года рождения, инженер-механик, в 2023 г. // Личный архив автора.
19 Интервью с Викторией, 1968 года рождения…
20 Интервью с Александром, 1958 года рождения…
21 База «цифрового следа» по интернет-источникам // Личный архив автора.
22 Интервью с Дмитрием, 1970 года рождения…
23 Интервью с Натальей, 1963 года рождения, инженер-программист, математик, в 2023 г. // Личный архив автора.
24 Интервью с Александром, 1958 года рождения…
25 Интервью с Викторией, 1968 года рождения…
26 Об индивидуальной трудовой деятельности // Ведомости Верховного Совета СССР. 1986. № 47. Ст. 964.
27 Чагадаева О.А. Операция «Кооперация» // Родина. 2023. № 5. С. 104–108.
28 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 101. Д. 719. Л. 87.
29 Там же. Л. 56.
30 Интервью с Викторией, 1968 года рождения…
31 Интервью с Александром, 1958 года рождения…
32 Интервью с Викторией, 1968 года рождения…
33 База «цифрового следа» по интернет-источникам // Личный архив автора.
34 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 101. Д. 719. Л. 54.
35 Там же. Л. 59.
36 Интервью с Александром, 1952 года рождения, инженер-физик, в 2023 г. // Личный архив автора.
37 Там же.
38 Девяностые – годы тягот, надежд и свершений / под. ред. Н.М. Плискевича. М., 2019. С. 113.
39 База «цифрового следа» по интернет-источникам // Личный архив автора.
40 Интервью с Александром, 1958 года рождения…
41 Интервью с Дмитрием, 1970 года рождения…
42 Ядов В.А. Попытка переосмыслить концепцию фреймов Ирвинга Гофмана // Журнал социологии и социальной антропологии. 2011. № 2. С. 85–97.
43 База «цифрового следа» по интернет-источникам // Личный архив автора.
44 Там же.
45 Интервью с Андреем, 1972 года рождения, радиотехник, в 2023 г. // Личный архив автора.
46 Интервью с Павлом, 1972 года рождения, инженер-программист, в 2023 г. // Личный архив автора.
47 Рязанцев С.В., Боженко В.В. Новые формы временной эмиграции из России через призму социально-демографических характеристик мигрантов // Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки. 2013. № 6. С. 86.
48 Климова С.Г. Концептуализация роли челнока ее исполнителями // Социологические исследования. 2008. № 4. С. 59.
49 Поминов Ю.Д. Хроника смутного времени: записки редактора: в 3-х кн. Павлодар, 2007–2010 // URL: https://corpus.prozhito.org/note/540854 (дата обращения: 01.04.2024).
50 Климова С.Г. Указ. соч. С. 59.
51 Интервью с Викторией, 1968 года рождения…
About the authors
Olga А. Chagadaeva
National Research Nuclear University “Moscow Institute of Engineering and Physics”
Author for correspondence.
Email: OAChagadaeva@mephi.ru
ORCID iD: 0000-0002-7059-1024
доцент
Russian Federation, MoscowReferences
- Abramov R. Inzhenernyj trud v pozdnesovetskij period: rutina, tvorchestvo, proektnaya distsiplina [Engineering work in the late Soviet period: routine, creativity, project discipline] // Sotsiologiya vlasti [Sociology of Power]. 2020. № 1. S. 179–214. (In. Russ.)
- Abramov R.N. Professionalnaya kultura rossijskih inzhenerno-tekhnicheskih specialistov: universalnye element [Professional culture of Russian engineering and technical specialists: universal elements] // Sociologicheskie issledovaniya [Sociological research] 2016. № 9. S. 96–104. (In. Russ.)
- Abramov R.N. Sovetskaya inzhenerno-tekhnicheskaya intelligenciya 1960–80-h gg.: v poiske granic kollektivnogo soznaniya [Soviet engineering and technical intelligentsia of the 1960s-80s: in search of the boundaries of collective consciousness] // Vestnik Instituta sociologii [Bulletin of the Institute of Sociology]. 2017. № 20. S. 114–130. (In. Russ.)
- Chagadaeva O.A. Operatsiya “Kooperatsiya” [Operation “Cooperation”] // Rodina [Rodina]. 2023. № 5. S. 104–108. (In. Russ.)
- Devyanostye – gody tyagot, nadezhd i svershenij [The Nineties – the years of hardships, hopes and accomplishments] / pod. red. N.M. Pliskevicha. Moskva, 2019. (In. Russ.)
- Gusarova M.N. Formirovanie nauchno-tekhnicheskoj intelligentsii v Rossijskoj Federatsii: preemstvennost’ istoricheskogo opyta i novye tendentsii [Formation of scientific and technical intelligentsia in the Russian Federation: continuity of historical experience and new trends]. 1991–2010 gg.: dis. … dokt. ist. nauk. Мoskva, 2010. (In. Russ.)
- Gusarova M.N. Stanovlenie novogo tipa nauchno-tekhnicheskoj intelligencii (problema identifikacii i pozicionirovaniya) [The emergence of a new type of scientific and technical intelligentsia (the problem of identification and positioning)] // Vlast. [Power]. 2009. № 7. S. 45–48. (In. Russ.)
- Klimova S.G. Kontseptualizatsiya roli chelnoka ee ispolnitelyami [Conceptualization of the role of the shuttle by its performers] // Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological research]. 2008. № 4. S. 52–62. (In. Russ.)
- Nor-Arevyan O.A. Upadok sotsial’nogo samochuvstviya inzhenerov i rabochikh v 90-e gg. ХX v kak faktor krizisa professional’noj identichnosti [The decline of the social well-being of engineers and workers in the 90s of the 20th century as a factor of the crisis of professional identity] // Gumanitarij Yuga Rossii [Humanities of the South of Russia]. 2017. № 3. S. 250–261. (In. Russ.)
- Pominov Yu.D. Khronika smutnogo vremeni: zapiski redaktora [Chronicle of the Time of Troubles: editor’s notes]: v 3-kh kn. Pavlodar, 2007–2010 // URL: https://corpus.prozhito.org/note/540854 (acsess date: 01.04.2024). (In. Russ.)
- Ryazantsev S.V., Bozhenko V.V. Novye formy vremennoj ehmigratsii iz Rossii cherez prizmu sotsial’no-demograficheskikh kharakteristik migrantov [New forms of temporary emigration from Russia through the prism of socio-demographic characteristics of migrants] // Nauchnoe obozrenie. Seriya 2. Gumanitarnye nauki [Scientific Review. Section 2. Humanities]. 2013. № 6. S.80–87. (In. Russ.)
- Shubin A.V. Dissidenty, neformaly i svoboda v SSSR [Dissidents, informals and freedom in the USSR]. Moskva, 2008. (In. Russ.)
- Simonyan R. Kh., Kochegarova T.M. Travmaticheskij opyt 1990-kh kak urok dlya rossijskogo obschestva [The traumatic experience of the 1990s as a lesson for Russian society] // Rossiya i sovremennyj mir [Russia and the Modern world]. 2014. № 4. S. 108–123. (In. Russ.)
- Slominskaya E.V. Teoretiko-metodologicheskie voprosy izucheniya rossijskoj tekhnicheskoj intelligentsii [Theoretical and methodological issues of studying the Russian technical intelligentsia] // Izvestiya TulGU. Gumanitarnye nauki [Izvestiya TulSU. Humanities]. 2011. № 1. S. 211–224. (In. Russ.)
- Volovich L.A., Makarenko E.I. “Tekhnicheskaya intelligentsiya”: differentsiatsiya metodologicheskikh podkhodov [“Technical intelligentsia”: differentiation of methodological approaches] // Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta [Bulletin of Kazan Technological University]. 2013. № 16. S. 84–89. (In. Russ.)
- Yadov V.A. Popytka pereosmyslit’ kontseptsiyu frejmov Irvinga Gofmana [An attempt to rethink the concept of Irving Hoffman frames] // Zhurnal sociologii i social’no antropologii [Journal of Sociology and Social Anthropology]. 2011. № 2. S. 85–97. (In. Russ.)
Supplementary files