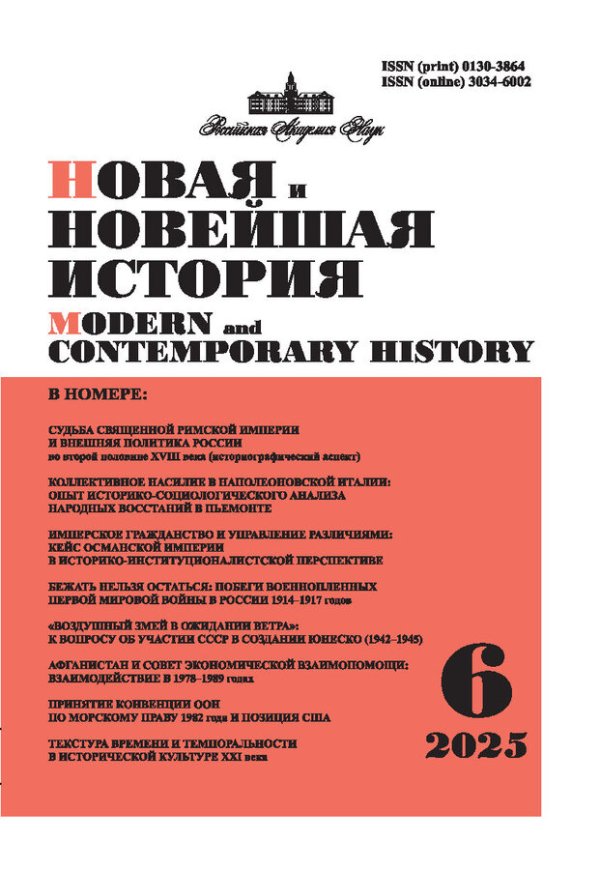Historians in Russia: the structure of a professional community
- Authors: Sokolov M.M.1
-
Affiliations:
- European university at Saint-Petersburg
- Issue: No 2 (2024)
- Pages: 196-214
- Section: Messages
- URL: https://bakhtiniada.ru/0130-3864/article/view/255815
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0130386424010141
- ID: 255815
Cite item
Full Text
Abstract
The author presents the results of a study of the structure of the professional community of Russian historians conducted jointly by the Scientific Electronic Library eLibrary and the Center for Institutional Analysis of Science and Education of the European University in St. Petersburg. In the course of its implementation, unique data on the social and intellectual landscape of Russian history, political science, sociology, economics and jurisprudence were collected, worthy of introduction into the academic circuit. Data were collected through a survey of researchers who publish the results of their studies (N-4009, where N is the number of cases), the survey was conducted in November 2022. In this article, the social structure of the Russian historical discipline appears in several senses. On the one hand, its aim is the simplest statistical description of the Russian historical community, namely sociodemographic structure, distribution by thematic areas, etc. On the other hand, the author explores correlations between all these elements, namely how different characteristics of individuals relate to each other. Historians are divided by specialisation in countries and periods (primarily by the division into those researching Russian and World History), as well as by modernist vs postmodernist views on the nature of historical knowledge. Postmodernist views are more widely represented among historians in academic centres (capital cities, leading universities); the opposite is true for the academic periphery. Support for modernism is also declining among younger generations.
Full Text
Основной задачей исследовательского проекта, проведенного совместно Научной электронной библиотекой eLibrary и Центром институционального анализа науки и образования Европейского университета в Санкт-Петербурге, в рамках которого были собраны приведенные ниже данные, была оценка валидности библиометрических показателей для социогуманитарных наук. В ходе его осуществления были собраны уникальные данные о социальном и интеллектуальном ландшафте российской истории, политологии, социологии, экономики и юриспруденции, заслуживающие введения в научный оборот. Данная статья является последней из серии статей, подводящих итог этой работе1. Результаты измерения собственно академических репутаций приводятся в отчете по проекту «Российские историки: портрет академической профессии»2, который частично пересекается с данным текстом. В отдельных случаях мы будем отсылать читателей к нему. В статье же основное внимание уделяется структуре исторического сообщества.
Термин «социальная структура» является одним из самых популярных в социологии. Несмотря на это (или вследствие этого) он также является одним из наиболее многозначных. Простейшее понимание социальной структуры предполагает статистическое распределение какой-то совокупности индивидов по предзаданным категориям («половозрастная структура»). Социологи, однако, претендуют не только на сбор социальной статистики, но и на то, чтобы научными методами обнаружить под поверхностью социального мира порядок, скрытый от глаз обывателей. Разные школы, исходившие из своих пониманий того, каков этот порядок, переопределяли, соответственно, социальную структуру по-своему. Для К. Леви-Стросса и структуралистов структура была совокупностью инвариант, невидимых осей, задающих множество наблюдаемых вариаций; для Х. Уайта и его многочисленных учеников структура — это граф, отражающий социальные связи между индивидами; для П.М. Блау структура — это формальные свойства численных характеристик коллективов; и так далее. Если можно найти какой-то общий знаменатель для всех этих пониманий структуры, то это их графичность — социальная структура есть нечто, что может быть отображено визуально в той или иной форме (для всех тех, кто учился в советской и постсоветской школе, вероятно, первая ассоциация с «социальной структурой» — это изображение феодального общества в учебнике истории шестого класса с королем наверху и крепостными крестьянами внизу).
В этой статье социальная структура российской исторической дисциплины фигурирует в нескольких смыслах. С одной стороны, ее целью является простейшее статистическое описание российского исторического цеха — социодемографическая структура, распределение по тематическим областям и тому подобное. С другой стороны, исследуются корреляции между всеми этими основаниями: как разные характеристики индивидов соотносятся друг с другом. В продолжение этого мы попробуем выделить нечто вроде невидимых осей, структурирующих пространство интеллектуальных позиций в исторической науке.
Процедуры и методы. Основным методом получения данных, представленных в этом отчете, был онлайн-опрос сплошной выборки публикующихся российских ученых-историков. Письма со ссылками на страницу с анкетой от имени компании eLibrary были разосланы зарегистрированным на сайте Российского индекса научного цитирования пользователям3, которые соответствовали трем критериям: (1) при регистрации они указали Россию в качестве страны проживания; (2) тематикой большинства их публикаций были исторические науки; (3) они опубликовали не менее трех статей в течение последних пяти лет и, таким образом, могли считаться активно публикующимися исследователями. Всего письма были разосланы по адресам 14 190 ученых. Примерно через неделю после отправки первого письма отправлялось второе с напоминанием (второе письмо отправлялось по двум адресам: основному и запасному). Обе волны опроса прошли в ноябре 2022 г. В результате мы получили 4512 уникальных анкет, которые были заполнены дальше первого вопроса; количество отвечавших на отдельные вопросы, однако, колебалось в значительных пределах, отражая, видимо, интерес к соответствующей теме, сензитивность вопроса и удачность его формулировки (дизайн анкеты позволял пропустить любой вопрос, кроме первого).
Была ли совокупность опрошенных репрезентативной для российской исторической профессии в целом? Поскольку никакого независимого источника данных о тех, кто не отвечал на наши вопросы, не существует, мы можем сравнить тех, кто согласился отвечать, с генеральной совокупностью лишь по трем параметрам: полу, региону и месту работы. Пол устанавливался по отчеству авторов в выборке, составленной на основании данных РИНЦ, и мы могли сравнить это распределение с распределением среди ответивших. Мужчины чуть охотнее отвечали на наши вопросы, чем женщины, однако различие, хотя и статистически значимо (p<0,001), минимально (32,9% против 30,5%). Мы разделили респондентов по регионам проживания на пять категорий — (1) москвичи (23,5% в нашей выборке); (2) петербуржцы (11,6%); (3) жители иных исторических мегаполисов, к которым мы приписали города, где проживает свыше 200 авторов — Новосибирск, Казань, Екатеринбург, Уфа, Омск, Самара (13,2%); (4) крупные центры (свыше 100 авторов) — 24,9%; (5) периферия (менее 100 авторов) — 26,8%. Кроме того, мы разделили опрошенных на три категории по основному месту работы: (1) институты РАН (19,4%); (2) ведущие университеты, куда попали МГУ, СПбГУ и университеты, вошедшие в первую волну Программы повышения глобальной конкурентоспособности российских университетов «5/100»4 (12,2%); (3) прочие организации (68,4%). Представители всех этих категорий обнаруживаются среди опрошенных строго пропорционально их доле в генеральной совокупности. Нет оснований, соответственно, предполагать, что имели место какие-то смещения.
Результаты. «Исторические науки» в России являются зонтичной категорией, покрывающей как минимум три независимые дисциплины — собственно историков, этнографов (некоторые из которых предпочитают определять себя как этнологов, культурных антропологов или культурологов) и археологов. Чтобы сортировать респондентов по этим трем категориям, первым им задавался вопрос о той дисциплине, на которой они специализируются. Как распределились ответы на вопрос: «Выберите из списка ниже все области знания, на которых вы специализируетесь (можно указать несколько ответов)», видно из таблицы 1 (количество случаев (N)-4512).
Таблица 1, Области специализации респондентов (N-4512), (Specializations of survey subjects, N-4512)
Частота | % | |
История России (Russian History) | 3196 | 70,8 |
Всеобщая история (World History) | 1486 | 32,9 |
Этнография, культурная антропология (Ethnography, Cultural Anthropology) | 674 | 14,9 |
Археология (Archaeology) | 915 | 20,3 |
Теория, методология и история исторической науки (History and Methodology of Historical Science) | 960 | 21,3 |
В ответе на первый вопрос можно было указать любое число категорий, из-за чего сумма превышает 100%.
В таблице 2 приводятся пересечения между выделенными таким образом специальностями: в столбцах даны доли также занимающихся данной областью среди тех, кто занимается областью в строке; так, из 3169 человек, специализирующихся на истории России, 739 (23,1%) указали, что они также занимаются всеобщей историей.
Таблица 2, Пересечения между основными дисциплинарными специализациями (N-4512), (Intersections Between Main Disciplinary Specializations, N-4512)
История России (Russian History) | Всеобщая история (World History) | Археология (Archaeology) | Этнография (Ethnography) | Теория и история (Theory and Methodology) | |
История России (Russian History) | 3196 | 739 | 210 | 552 | 749 |
100,0% | 23,1% | 6,6% | 17,3% | 23,4% | |
Всеобщая история (World History) | 739 | 1486 | 177 | 276 | 359 |
49,7% | 100,0% | 11,9% | 18,6% | 24,2% | |
Археология (Archaeology) | 210 | 177 | 674 | 164 | 93 |
31,2% | 26,3% | 100,0% | 24,3% | 13,8% | |
Этнография (Ethnography) | 552 | 276 | 164 | 915 | 220 |
60,3% | 30,2% | 17,9% | 100,0% | 24,0% | |
Теория и методология (Theory and Methodology) | 749 | 359 | 93 | 220 | 960 |
78,0% | 37,4% | 9,7% | 22,9% | 100,0% |
Далее вид анкеты различался в зависимости от того, какой из вариантов ответа был выбран при ответе на первый вопрос о дисциплинарной принадлежности. Наше исследование было ориентировано преимущественно на историков. Тем, кто указал, что они занимаются только археологией и/или этнографией задавались лишь вопросы о тех, кто внес наибольший вклад в их область специализации, и базовые демографические. Остальные вопросы задавались лишь тем, кто указал хотя бы одну из исторических специальностей (4009 человек).
Прежде всего тех, кто указал, что специализируется на российской истории, просили определить эпоху, которой они занимаются, используя традиционное школьное деление (табл. 3).
Таблица 3, Периоды российской истории, изучаемые респондентами (N-3177), (Periods of Russian history survey subjects specialize on, N-3177)
Частота Frequency | % | |
Древняя Русь, эпоха феодализма, Московское царство (Pre-Petrine Russia) | 679 | 21,4 |
Российская империя (Russian Empire) | 1924 | 60,6 |
Советская история (Soviet History) | 1777 | 55,9 |
Новейшая российская история (History of Post-Soviet Russia) | 675 | 21,2 |
Видно, что интерес к эпохам распределен достаточно неравномерно — российская империя и СССР наиболее популярны, допетровская Русь и современность — значительно менее. Аналогичное распределение для тех, кто указал, что занимается всеобщей историей, выглядит иначе: новая история существенно уступает новейшей и в целом чем более отдаленной является эпоха, тем меньше специализирующихся на ней (табл. 4).
Таблица 4, Периоды всеобщей истории, изучаемые респондентами (N-1479), (Periods of world history survey subjects specialize on, N-1479)
Частота Frequency | % | |
История дописьменных обществ (Preliterate Societies) | 114 | 7,7 |
История Древнего мира (история Древнего Востока, история античности, история Америки и Африки в древности) (History of the Ancient World) | 340 | 23,0 |
История Средних веков и Раннего Нового времени (включая историю средневекового Востока) (Middle Ages and Early Modern Time) | 500 | 33,8 |
Новая история (XVII–XIX вв.) (Modern History) | 658 | 44,5 |
Новейшая история (XX–XXI вв.) (Comtemporary History) | 792 | 53,5 |
В дополнение к вопросу об эпохе, мы задали всеобщим историкам вопрос о регионе, на истории которого они специализируются (табл. 5).
Подавляющее большинство всеобщих историков специализируется на истории Европы. Можно задаться вопросом, соответствует ли это положение вещей определению России как «великой историографической державы», которое академический фольклор приписывает П.Ю. Уварову. С одной стороны, российские историки чаще всего изучают историю собственной страны, а за ее пределами в фокусе их интересов находится традиционный Запад плюс регионы, связанные с Россией сильнейшими политическими и экономическими связями. С другой стороны, некоторое количество работающих в России историков занимается практически любыми регионами — положение вещей, которым далеко не каждая страна может похвастаться.
Таблица 5, Регионы, на которых специализируются всеобщие историки (N-1048), (Regions studied by world historians, N-1048)
Частота Frequency | % | |
Европа (Europe) | 729 | 69,56% |
Глобальная, транснациональная история (Global, transnational history) | 273 | 26,05% |
США и Канада (USA and Canada) | 188 | 17,94% |
Дальний Восток (Eastern Asia) | 156 | 14,89% |
Северная Африка и Ближний Восток (Middle East and Northern Africa) | 129 | 12,31% |
Центральная Азия (Central Asia) | 124 | 11,83% |
Юго-Восточная Азия (South-Eastern Asia) | 60 | 5,73% |
Южная Азия (Southern Asia) | 48 | 4,58% |
Латинская Америка (Latin America) | 47 | 4,48% |
Африка южнее Сахары (Sub-Saharan Africa) | 31 | 2,96% |
Австралия и Океания (Australia and Oeania) | 12 | 1,15% |
Существует статистическая связь между регионом и широтой периода специализации: чем менее популярным — среди российских историков — является данный регион, тем шире в среднем хронологические рамки экспертизы тех, кто им занимается. Так, из наших 5 эпох, специалисты по Европе указывали в среднем 1,7, а специалисты по Австралии и Океании — 2,7 периодов.
В конце этого блока мы спросили историков о предметных областях, на которых они специализируются. В таблице 6 приводится список полученных ответов в порядке убывания количеств. Первые две строчки занимают социальная и локальная/региональная история, которые набрали равное число «голосов», за ними — политическая и культурная история, составляющие «большую четверку». Следующие два столбца отражают предпочтения тех, кто выбрал российскую и всеобщую историю в качестве специализации (напомним, что эти категории не были взаимоисключающими). Существует значительная — можем заключить мы — разница в тематике, при которой всеобщие историки чаще специализируются на политической, дипломатической, военной и культурной истории, а русисты — на истории локальной, социальной и экономической.
Таблица 6, Тематические области специализации российских историков (N-3921), (Subject areas of historians of Russia, N-3921)
Вся выборка (All sample) | Среди выбравших историю России (Among specialists on Russia) | Среди выбравших всеобщую историю (Among specialists in world history) | |
Политическая история (Political History) | 46,8% | 51,4% | 34,7% |
Дипломатическая история, история международных отношений (Diplomatic History) | 46,8% | 48,9% | 40,5% |
Военная история (Military History) | 44,3% | 41,4% | 58,0% |
Социальная история (Social History) | 43,8% | 41,7% | 48,8% |
Экономическая история (Economic History) | 28,9% | 30,7% | 24,5% |
Культурная история (Cultural History) | 26,7% | 26,6% | 28,4% |
История науки и техники (History of Science and Technology) | 25,5% | 26,0% | 31,8% |
Локальная и региональная история (Local History) | 23,0% | 24,5% | 20,7% |
Проблемы исторической памяти (Historical Memory) | 21,8% | 17,5% | 42,6% |
История религии, церковная история (Church History) | 19,9% | 18,5% | 23,8% |
История повседневности (History of Everyday Life) | 13,2% | 14,2% | 13,2% |
Историческая демография (Historical Demography) | 13,2% | 13,7% | 13,6% |
История права (History of Law) | 8,4% | 8,8% | 9,8% |
Вспомогательные исторические дисциплины (Auxiliary Historical Disciplines) | 7,9% | 8,9% | 5,9% |
Мы использовали иерархический кластерный анализ с тем, чтобы изучить, занятия какими темами тяготеют друг к другу (подробные результаты анализа приводятся в отчете по проекту). Темы объединяются в несколько блоков: (1) политическая, дипломатическая и военная истории; (2a) история повседневности, которая пересекается с социальной историей; (2б) связанные с ними культурная история и проблемы исторической памяти; (2в) количественные экономическая и демографическая истории, к которым тяготеет также (2г) локальная и региональная история; стоящие особняком (3) история права; (4) церковная история; (5) вспомогательные исторические дисциплины; (6) история науки и техники.
На следующем этапе мы попробовали найти взаимосвязи между темами и изучаемыми периодами. В следующих таблицах приводятся данные для русистов (табл. 7) и всеобщих историков (табл. 8). По строкам даны доли занимающихся данной предметной областью среди тех, кто занимается эпохой в столбце. Так, среди специалистов по допетровской Руси 46% интересуются политической историей и т. д. Среди русистов мы находим лишь незначительные вариации: политическая история и проблемы исторической памяти чаще всего интересны тем, кто занимается новейшей историей. Напротив, культурная и церковная история, а также вспомогательные исторические дисциплины вызывают больше интереса среди тех, кто занимается Древней Русью.
Таблица 7, Связь специализации на периодах и предметных областях среди историков-русистов (N-3419), (Correlation of specialization on periods and subject areas among historians of Russia, N-3419)
Допетровская Русь (Pre-Petrine Russia) | Российская империя (Russian Empire) | Советский период (Soviet Union) | Новейшая история (History of Post-Soviet Russia) | |
Политическая история (Political History) | 46,0% | 41,2% | 43,4% | 52,5% |
Дипломатическая история, история международных отношений (Diplomatic History) | 22,5% | 18,8% | 17,1% | 23,2% |
Военная история (Military History) | 29,1% | 25,3% | 30,8% | 31,1% |
Социальная история (Social History) | 48,4% | 50,0% | 50,2% | 48,7% |
Экономическая история (Economic History) | 24,9% | 24,4% | 24,9% | 25,0% |
Культурная история (Cultural History) | 56,8% | 44,2% | 38,9% | 44,2% |
История науки и техники (History of Science and Technology) | 15,4% | 15,6% | 17,3% | 17,1% |
Локальная и региональная история (Local History) | 49,0% | 53,5% | 52,0% | 52,1% |
Проблемы исторической памяти (Historical Memory) | 28,4% | 26,0% | 31,9% | 40,8% |
История религии, церковная история (Church History) | 12,9% | 7,5% | 5,3% | 6,7% |
История повседневности (History of Everyday Life) | 11,8% | 11,8% | 12,4% | 11,6% |
Историческая демография (Historical Demography) | 5,0% | 3,4% | 3,6% | 4,6% |
История права (History of Law) | 4,4% | 3,6% | 3,0% | 3,3% |
Вспомогательные исторические дисциплины (Auxiliary Historical Disciplines) | 12,1% | 5,0% | 4,0% | 4,6% |
Контрасты среди специалистов по всеобщей истории более выражены (табл. 8). Здесь мы видим, что интерес к политической и дипломатической истории преобладает среди занимающихся новейшей историей, в то время как интерес к социальной, экономической, культурной и демографической истории среди них, наоборот, ниже. Объединяя эти выводы с тем, о чем говорилось выше, мы можем заключить, что, если немногочисленные специалисты по «глобальному югу» часто являются страноведами широкого профиля, то специалисты по новейшей истории «глобального севера» плавно перетекают в политологов-международников.
Таблица 8, Связь специализации на периодах и предметных областях среди всеобщих историков (N-1479), (Correlation of specialization on periods and subject areas among world historians, N-1479)
Дописьменные общества (Pre-literate Societies) | Древний мир (Ancient world) | Средневековье (Middle Ages) | Новое время (Modern History) | Новейшее время (Contemporary History) | |
Политическая история (Political History) | 43,4% | 50,6% | 55,4% | 58,5% | 64,6% |
История международных отношений (Diplomatic History) | 22,1% | 27,2% | 35,8% | 48,9% | 53,0% |
Военная история (Military History) | 40,7% | 37,0% | 32,5% | 32,2% | 34,6% |
Социальная история (Social History) | 49,6% | 42,0% | 46,1% | 45,3% | 39,0% |
Экономическая история (Economic History) | 29,2% | 24,9% | 23,2% | 22,3% | 21,7% |
Культурная история (Cultural History) | 74,3% | 63,6% | 63,4% | 52,7% | 37,5% |
История науки и техники (History of Science and Technology) | 29,2% | 19,5% | 15,8% | 17,1% | 12,7% |
Локальная и региональная история (Local History) | 52,2% | 39,6% | 39,2% | 39,8% | 35,5% |
Проблемы исторической памяти (Historical Memory) | 27,4% | 24,9% | 28,9% | 32,8% | 32,0% |
История религии, церковная история (Church History) | 10,6% | 13,3% | 13,9% | 9,3% | 6,6% |
История повседневности (History of Everyday Life) | 8,0% | 8,9% | 11,1% | 11,0% | 8,9% |
Историческая демография (Historical Demography) | 9,7% | 4,1% | 3,4% | 2,9% | 2,5% |
История права (History of Law) | 6,2% | 6,2% | 5,7% | 3,7% | 2,9% |
Вспомогательные исторические дисциплины (Auxiliary Historical Disciplines) | 13,3% | 9,8% | 9,1% | 6,1% | 3,4% |
Демографическая структура. Мужчины составляют большинство среди российских историков: 58,7% определили свой пол как мужской, 40,4% — как женский (0,9% предпочли не сообщать его). Самой частотной возрастной категорией является интервал 40–49 лет. Анализ половозрастной структуры показывает, что значительная феминизация, коснувшаяся социальных наук в последние десятилетия, практически не затронула историков. Скорее заметен недостаток женщин в младшей возрастной категории: в нашей выборке публикующихся историков возраст до 30 лет указало 9,8% мужчин и 6,8% женщин.
Демографические характеристики связаны с областями специализации: среди занимающихся всеобщей историей мужчин чуть больше, чем среди историков в целом (62,9%). С точки зрения возраста, всеобщих историков чуть больше среди самой младшей возрастной группы (45,3% среди респондентов-историков младше 30 лет сообщили, что занимаются всеобщей историей — при 32,9% в целом по выборке) и самой старшей (43,8% среди историков в возрасте 70 и старше). Мужчины чаще женщин занимаются более ранними эпохами (25,4% мужчин против 17,1% женщин сообщили, что занимаются допетровской Русью). Советской и постсоветской историей чаще других занимается самая старшая когорта историков (сообщили, что они занимаются новейшей историей России, 32,2% историков старше 70 лет, при 21,8% в среднем по выборке). Самая младшая когорта реже других занимается допетровской эпохой (13,7% среди русистов младше 30 лет против 22,1% в среднем). В тематическом отношении, мы не видим сильных поколенческих сдвигов (можно отметить лишь относительное отсутствие интереса к культурной истории у самой младшей когорты и к истории повседневной — у самой старшей). Гендерные различия более выражены: в самых «мужских» специализациях число мужчин многократно превосходит число женщин — так, в военной истории оно составляет 3,23:1, в истории права — 2,42:1, в политической истории — 2,12:1, но в более «женской» культурной истории соотношение становится 1,09:1, а в истории повседневности число женщин превосходит число мужчин в соотношении 1:1,33.
Географически занятия всеобщей историей сконцентрированы в академических центрах — в Москве, Петербурге, институтах РАН и ведущих вузах, — а российская история, безусловно, преобладает на периферии. Так, число занимающихся историей России растет по мере того, как мы продвигаемся от Москвы к небольшим центрам с населением не более, чем в сотню авторов (с 70,5 до 85,5%), а занимающихся всеобщей историей, наоборот, сокращается (с 50,7 до 30,2%). Среди русистов историки, занимающиеся допетровской эпохой, в большей степени представлены в центрах и в наименьшей степени — на периферии. В Петербурге самая высокая доля занимающихся историей имперского периода (71,5% среди русистов) и самая низкая — советской (44,8%) и постсоветской (14,1%). Разумеется, можно предполагать, что интересы связаны с близостью к источникам. Это предположение получает подтверждение, если мы смотрим на темы, которыми занимаются историки. В Москве мы встречаем наибольшую концентрацию специалистов по политической истории (53,2% против 40% в остальной выборке) и дипломатической истории (30,4% против 20,1% в остальной выборке). По мере того, как мы удаляемся от центров, растет интерес к локальной и региональной истории (с 29,9% в Москве до 58,8% в малых историографических центрах), несколько выше также интерес к экономической истории и повседневности (но ниже к культурной истории).
Ученые степени и занятость. Мы спросили наших респондентов о главном признаке академического ранга — ученых степенях, которыми они обладают: 26,8% опрошенных указали, что у них есть степень доктора наук, у 56,2% — степень кандидата наук в отсутствие докторской, у 26,6% нет степени и у 2,1% оказалась степень PhD, иногда в комбинации со степенью кандидата или доктора, иногда — в их отсутствие.
Доля обладателей степеней предсказуемо изменяется с возрастом: если в группе до 30 лет доля ученых без степени составляет 84,3%, то уже в следующей группе 30–39 их остается только 24,3%, а среди историков старше 60 ученых без степени насчитывается только 4,4%. Аналогичная картина с докторскими: будучи исключительно редкими среди ученых до 30 (в нашей выборке встретился только один доктор, не разменявший четвертый десяток) и даже среди ученых в возрасте 30–39 (3,4%), они становятся все более распространенными далее, пока в категории старше 70 мы не встречаем 63,9% докторов наук. Интересно, что если кандидатские защищаются относительно рано, и те, кто не сделал этого до 40, видимо, покидают академическую профессию, получение докторской степени не привязано к какому-то жизненному этапу — количество докторов равномерно прибывает в каждой следующей возрастной категории. Гендерная принадлежность сказывается на шансах защитить докторскую (степень доктора имеется у 29,1% мужчин и 22,8% женщин в нашей выборке), однако на уровне защиты кандидатских значимых различий не прослеживается (фактически мужчин без степени оказалось в нашей выборке даже чуть больше — 19,1% против 15,7% среди женщин — за счет меньшего числа женщин в младшей когорте). «Стеклянный потолок» может существовать на верхних ступенях академической лестницы, но не на нижних, однако и на верхних он выражен не слишком сильно. Географически и институционально концентрация докторов несколько больше в столичных городах и значительно выше в институтах РАН (35,8% работающих в них указали на наличие докторской степени).
Академические ранги слабо связаны с областями специализации или интересами. Доктора наук несколько чаще декларируют интерес к проблемам теории и методологии исторической науки (31,1% при 26,6% в среднем по выборке), проблемам социальной и экономической истории и несколько меньший к истории локальной, однако различия со средними везде остаются в пределах 5%. Нет свидетельств того, что в истории есть высокостатусные или низкостатусные специализации, в которых выше или ниже концентрация академических тяжеловесов.
Большинство публикующихся историков — университетские преподаватели, 63,8% ответили, что преподают в этому учебном году. Максимальное число не преподающих встречается среди историков младше 30 (63,7%, причем большинство из тех, кто все же преподает (53,6%), преподает менее 300 часов в данном академическом году) или старше 70 (47,3%). Cреди 40–59-летних преподает 71,5%, причем около половины преподающих учит свыше 700 часов. По мере удаления от центров уровень вовлеченности в преподавание также растет: не преподает 45,3% историков в Москве (где в наибольшей степени сконцентрированы институты РАН) против 28,1% в периферийных центрах. Среди занятых преподаванием доля преподающих свыше 700 часов растет с 28% в Москве до 48% в малых центрах.
В дополнение к этому, мы попробовали оценить степень интернационализации российской исторической науки, задав вопрос, в каких пропорциях нашим респондентам приходится читать на русском и иностранных языках. И здесь между основными историческими специальностями обнаружился значительный контраст: 33,8% русистов не читают профессиональную литературу на иностранных языках вовсе, а те, кто все же читают на них, в основном делают это в небольших объемах (тем не менее нам встретилось незначительное число — 10 человек — которые, если верить их словам, занимаясь российской историей, вовсе не читают русскоязычных коллег). Среди всеобщих историков число не читающих ни на одном языке, кроме русского, было более скромным — 12%, — а медианной категорией является средняя, означающая чтение примерно поровну на русском и иностранных языках (ее на шкале из семи пунктов выбрало 24,7% респондентов). Половозрастные и ранговые категории, напротив, не продемонстрировали существенной связи с владением иностранными языками: лишь возраст оказался связан с объемами чтения на разных языках статистически значимо, но незначительно (корреляция Кендалла 0,059). Доля не читающих на иностранных языках растет с 16% в Москве до 38,9% в малых центрах и с 11,8% среди преподавателей ведущих вузов до 33,8% среди представителей иных институций (14,1% среди сотрудников РАН).
Интеллектуальные позиции. Далее мы включили в анкету блок вопросов, которые должны были характеризовать позиции историков по различным контроверзам, разделяющим исторический цех. Составление полного списка подобных контроверз представляет собой очевидную проблему и для историка, и тем более для заинтересованного дилетанта. Понимая всю ограниченность этого источника, мы опирались на вышедшие в последние годы книги, которые должны дать представление новичку об основных лагерях, существующих в историческом поле5.
Блок вопросов был разбит на две части, первая из которых затрагивала отношение к исторической науке в целом, а вторая — к вопросам, дебатируемым в российской ситуации (введение единого учебника истории, замена «Википедии» авторитетным источником, писать в который смогут только профессиональные историки и т. д.). Мы добавили к первой части вопросы, касавшиеся отношения к импорту теоретических схем из социальных наук (которым занимались многие направления модернистской историографии), а ко второй — вопросы об отношении к наукометрии. Наконец, мы добавили несколько вопросов, которые использовались в более раннем исследовании социологов, экономистов и политологов, чтобы проследить ориентацию на глобальную или национальную науку (о более высоком теоретическом и методологическом уровне статей в ведущих англоязычных журналах, важности развития национальной традиции в истории и т. д.).
Список вопросов и распределение ответов на них приводится в таблице 9. Заполнявшие анкету справедливо отмечали, что некоторые из вопросов состояли из двух частей, с одной из которых респонденты могли соглашаться, а с другой — нет. Так, левый историк вроде Э. Хобсбаума мог бы согласиться с первой частью высказывания: «любая история отражает интересы какой-то страны и, проводя исследования, историки должны думать прежде всего об интересах своей страны и своего государства» — имея в виду, что история, особенно политическая, часто служит подпоркой для национальной идентичности, но отказаться делать из этого выводы, содержащиеся во второй.
Задавая подобные двусоставные вопросы, мы, однако, исходили из определенных предположений о том, как устроено пространство интеллектуальных позиций в исторической науке. Мы считали, что оно организовано двумя измерениями: во-первых, модернистскими или постмодернистскими взглядами на науку и, во-вторых, локалистской или глобалистской ориентацией. Двусоставные вопросы должны были отражать восприятие историками определенных версий постмодернизма, в данном случае правого, который в российском контексте воплощает В.Р. Мединский (читатели могут заметить, что это утверждение представляет собой парафраз его высказываний6). Действительно, если в западном контексте постмодернизм обычно ассоциируется с левыми политическим течениями, стремящимися представлять дискриминируемые социальные категории и требующими справедливости в их отношении, то в российском существует их правый аналог, который обязывает историков соотносить то, что они выдают за историческую правду, с задачами поддержания национальной идентичности.
Анализируя ответы, мы прежде всего можем констатировать, что по многим вопросам среди историков есть полный или почти полный консенсус. Подавляющее большинство (80,7%) полностью согласно с тем, что народ, не изучающий своей истории, теряет национальную идентичность (этот вопрос намеренно оставлял неясным, считали ли они, что это возлагает на историков обязанность поддерживать таковую). При этом большинство (56%) также категорически не согласно с тем, что историки не должны разоблачать исторические мифы, если вера в эти мифы имеет политически желательные последствия, а доля согласных с тем, что, проводя исследования, историки должны служить интересами своей страны и государства, меньше доли несогласных. Отводя себе важнейшую роль в воспроизводстве национальной идентичности, историки тем не менее не согласны взять на себя ответственность за ее поддержание и не предполагают, что это обязывает их принять какую-либо версию правого постмодернизма.
В целом и ответы на все остальные вопросы, целью которых было оценить степень предрасположенности к релятивизму или антисциентизму, изображают большинство российских историков решительными модернистами, и даже несколько экстремистское утверждение, что конечной целью исторического познания является открытие законов социального развития, набирает почти половину сторонников (48%). Будучи модернистами, они одновременно определяют себя как локалистов: большинство также уверено, что уровень ведущих русскоязычных журналов не уступает уровню англоязычных, а российские историки обязаны заботиться о развитии национальной историографической традиции.
Таблица 9, Согласие с утверждениями о профессии историка (% по строкам), (Agreement with statements about the historical profession (% by rows)
Целиком не согласен Completely disagree | Целиком согласен Completely agree | ||||
История — это политика, обращенная в прошлое (History is politics projected into the past) | 19,2 | 13,0 | 29,5 | 22,2 | 16,1 |
Исторические исследования должны ориентироваться на универсальные идеалы научности, общие для естественных и гуманитарных наук (Historical research should be guided by universal ideals of scientific rigor common to both natural and humanities sciences) | 8,1 | 11,6 | 22,2 | 26,3 | 31,8 |
Роль воображения в работе историка не меньше, чем роль хорошей памяти (The role of imagination in a historian's work is no less important than the role of good memory) | 10,8 | 15,1 | 23,9 | 26,9 | 23,3 |
Избыточный энтузиазм по поводу социологических и экономических теоретических схем как минимум не менее опасен для историка, чем их полное незнание (Excessive enthusiasm about sociological and economic theories is no less dangerous for a historian than complete ignorance of them) | 3,8 | 7,4 | 24,6 | 26,9 | 37,2 |
Историки могут лишь описать исторические события или восстановить их последовательность, найти их причины — по большей части за пределами их возможностей7 (Historians can only describe historical events or reconstruct their sequence; finding their causes is mostly beyond their capabilities) | 44,0 | 23,9 | 14,2 | 11,7 | 6,3 |
У истории не может быть никаких законов, поскольку она во многом управляется решениями отдельных личностей и просто случаем (History cannot have any laws, as it is largely governed by decisions of individual personalities and mere chance) | 42,4 | 23,8 | 20,3 | 8,7 | 4,8 |
Народ, не изучающий своей истории, — это народ, который утрачивает свою идентичность (A nation that does not study its history is a nation that loses its identity)8 | 1,5 | 2,4 | 5,0 | 10,5 | 80,7 |
В конечном счете целью исторической науки должно быть открытие законов социального развития (Ultimately, the goal of historical science should be to discover the laws of social development) | 9,9 | 12,7 | 29,6 | 27,9 | 19,9 |
Мы всегда приступаем к изучению прошлого с позиций сегодняшнего дня; каждая эпоха поэтому должна переписывать историю заново (We always approach the study of the past from the perspective of the present day; therefore, every new generation must rewrite history in its own way)9 | 42,4 | 17,9 | 20,2 | 13,4 | 6,2 |
Задача историков — описывать «как оно было», не проводя разделения на своих и чужих и не вставая на чью-либо сторону (The task of historians is to describe “how it was”, without dividing into 'us' and 'them' and without taking sides) | 6,9 | 9,3 | 13,3 | 22,1 | 48,4 |
Историкам лучше поддерживать «санитарный коридор» и не стремиться изучать события недавнего прошлого, страсти по поводу которых еще не улеглись (Historians would do well to maintain a “sanitary corridor” and not rush to study events of the recent past, the passions about which have not yet settled) | 20,7 | 11,7 | 16,5 | 24,8 | 26,3 |
Главная ценность изучения истории состоит в тех моральных и практических уроках, которые из нее можно извлечь (The main value of studying history lies in the moral and practical lessons that can be drawn from it) | 6,5 | 9,0 | 21,3 | 28,3 | 34,9 |
Объективное историческое знание, не зависящее от интересов и пристрастий историка, — ложный идеал, к которому не следует стремиться (Objective historical knowledge, independent of the interests and biases of the historian, is a false ideal that should not be pursued) | 46,3 | 22,4 | 15,2 | 10,0 | 6,1 |
Историки не обязаны разоблачать исторические мифы, если вера в эти мифы побуждает людей реализовать разделяемые историками идеалы (Historians are not obliged to debunk historical myths if belief in these myths motivates people to realize ideals shared by historians) | 56,6 | 19,9 | 15,8 | 5,9 | 1,8 |
Российским историкам следует стремиться к сохранению и развитию национальной традиции в исторической науке (Russian historians should strive to preserve and develop the national tradition in historical science) | 9,8 | 9,5 | 20,0 | 22,0 | 38,7 |
В такой дисциплине, как история, формальные наукометрические показатели не могут отразить действительные заслуги индивида (In a discipline like history, formal scientometric indicators cannot reflect the actual merits of an individual) | 5,2 | 7,8 | 24,1 | 22,7 | 40,3 |
Было бы правильно, если бы преподавание истории в российских школах велось по единому учебнику (It would be appropriate if history teaching in Russian schools were conducted using a single textbook) | 23,6 | 9,6 | 13,9 | 16,2 | 36,7 |
В области наук о человеке и обществе приоритет при оценке научных исследовательских достижений должен быть отдан публикациям на русском языке (In the field of human and social sciences, priority in evaluating scientific research achievements should be given to publications in the Russian language)10 | 18,3 | 11,3 | 21 | 18,3 | 31,2 |
Я поддержал(а) бы введение экзамена по истории как обязательного для всех выпускников школ (I would support the introduction of a history exam as mandatory for all school graduates) | 21,9 | 17,9 | 22,0 | 20,4 | 17,7 |
Средний теоретический и методологический уровень статей в ведущих англоязычных журналах значительно выше, чем в ведущих российских, и молодых ученых следует учить ориентироваться на него (The average theoretical and methodological level of articles in leading English-language journals is significantly higher than in leading Russian ones, and young scientists should be taught to orient towards it) | 39,2 | 20,1 | 22,2 | 11,8 | 6,7 |
Было бы хорошо, если бы «Википедию» в качестве источника исторических знаний для массы интернет-пользователей можно было бы заменить каким-то другим ресурсом, в создании которого участвовали бы только профессиональные историки (It would be good if Wikipedia, as a source of historical knowledge for the mass of Internet users, could be replaced by some other resource, created only by professional historians) | 22,1 | 11,4 | 15,4 | 15,9 | 35,3 |
Любая история отражает интересы какой-то страны и, проводя исследования, историки должны думать прежде всего об интересах своей страны и своего государства (Any history reflects the interests of some country, and in conducting research, historians should think primarily about the interests of their own country and state) | 28,2 | 14,3 | 22,0 | 17,0 | 18,6 |
Анализ корреляционных связей между переменными приводит нас к выводу, что наши исходные догадки о структуре поля интеллектуальных позиций были во многом неверны. В отчете приводятся матрица корреляций между переменными и ее визуализация. Мы ожидали увидеть две группы переменных: одну — связанную с локалистскими и глобалистскими, другую — с модернистскими или постмодернистскими ориентациями. Только небольшое число двусоставных вопросов — например об обязанности историков учитывать интересы своей страны и своего государства — могли быть связаны с обеими группами. Вместо этого мы обнаружили одну группу переменных, характеризующих, с одной стороны, веру в ценность или даже превосходство национальной историографический традиции, с другой — модернистскую веру в превосходство научного знания, с третьей — поддержку монополии корпорации на историческую истину и ее центральную роль в образовательном процессе (единый учебник, обязательный экзамен, находящаяся в руках историков альтернатива «Википедии»). Респонденты верят — или не верят — во все эти вещи сразу. Их позицию по этим вопросам можно определить по позиции на единой шкале, которую мы назвали шкалой национал-модернизма. То, как может выглядеть эта шкала, иллюстрирует таблице 10. «Веса» отдельных вопросов в ней получены с помощью метода основных компонент (первая компонента объяснила 37% вариации). Недостатком шкалы может считаться то, что большинство вошедших в нее утверждений характеризуют один полюс (кроме о среднем уровне ведущих англоязычных журналов, который вошел в шкалу с отрицательным знаком). Позицию же второго полюса мы можем представить себе лишь «от противного»: располагающиеся на нем люди последовательно отвергают национал-модернистское кредо, но остается неясным, есть ли у них какая-то общая эпистемическая «программа».
Таблица 10, Шкала национал-модернизма (N-3191, в колонке справа — факторные нагрузки), (National-Modernism Scale (N-3191, factor loadings in the right column)
Российским историкам следует стремиться к сохранению и развитию национальной традиции в исторической науке (Russian historians should strive to preserve and develop the national tradition in historical science) | 0,771 |
Было бы правильно, если бы преподавание истории в российских школах велось по единому учебнику (It would be appropriate if history teaching in Russian schools were conducted using a single textbook) | 0,727 |
Любая история отражает интересы какой-то страны и, проводя исследования, историки должны думать прежде всего об интересах своей страны (Any history reflects the interests of some country, and in conducting research, historians should think primarily about the interests of their own country and state) | 0,722 |
В области наук о человеке и обществе приоритет должен быть отдан публикациям на русском языке (In the field of human and social sciences, priority in evaluating scientific research outputs should be given to publications in the Russian language) | 0,635 |
Было бы хорошо, если бы «Википедию» в качестве источника исторических знаний для массы интернет-пользователей можно было бы заменить каким-то другим ресурсом, в создании которого участвовали бы только профессиональные историки (It would be good if Wikipedia, as a source of historical knowledge for the mass of Internet users, could be replaced by some other resource, created only by professional historians) | 0,630 |
Народ, не изучающий своей истории, — это народ, который утрачивает свою идентичность (A nation that does not study its history is a nation that loses its identity) | 0,580 |
Главная ценность изучения истории состоит в тех моральных и практических уроках, которые из нее можно извлечь (The main value of studying history lies in the moral and practical lessons that can be drawn from it) | 0,555 |
История — это политика, обращенная в прошлое (History is politics projected into the past) | 0,401 |
В конечном счете целью исторической науки должно быть открытие законов социального развития (Ultimately, the goal of historical science should be to discover the laws of social development) | 0,393 |
Средний теоретический и методологический уровень статей в ведущих англоязычных журналах значительно выше, чем в ведущих российских (The average theoretical and methodological level of articles in leading English-language journals is significantly higher than in leading Russian ones, and young scientists should be taught to orient towards it) | 0,522 |
Как национал-модернизм связан с другими измерениями структуры исторического сообщества? Прежде всего разные позиции на нашей шкале займут разные исторические специализации. Российская история является существенно более национал-модернистской, чем не-российская. Для тех, кто указал российскую историю как одну из областей своих интересов, оценка по шкале составляет 0,09, для тех, кто не указал (и, соответственно, интересуется только зарубежной историей и/или методологией), она составляет минус 0,3611. Внутри российской истории, история допетровской Руси является несколько менее национал-модернистской (0,02), а советская история и постсоветская — наоборот, более (0,15 и 0,21, соответственно). Для всеобщей истории действует правило «чем новее изучаемый период, тем выраженнее национал-модернистские взгляды». Наименее национал-модернистской специализацией является история Древнего мира (минус 0,26). Из предметных областей военная история является самой выраженной национал-модернистской (0,15), а история повседневности — наоборот (минус 0,17), хотя различие и невелико. В плане демографии различие между мужчинами и женщинами почти неощутимо, зато возраст имеет очень сильный монотонно возрастающий эффект: для поколения младше 30, среднее по шкале составляет минус 0,37, а для поколения старше 60 — плюс 0,23. Похожий эффект имеет размер населенного пункта: Москва является наименее национал-модернистской (минус 0,27), а периферийные центры — наиболее (0,21). Ведущие вузы существенно отличаются от прочих организаций (минус 0,32 против 0,10). Мы не видим значимых связей между национал-модернизмом и отношением к большинству теоретических течений, за двумя значимыми исключениями — микроистории (средний балл тех, кто не считает, что микроистория внесла положительный вклад в развитие исторической науки 0,29) и гендерной истории (аналогичный показатель 0,30). Наконец, национал-модернизм связан с местом в профессиональном разделении труда: среди тех, кто преподает не более 100–200 часов, средний балл составляет минус 0,18; среди тех, кто преподает 800–900 часов, он поднимается до плюс 0,13. Вряд ли будет удивительным то, что национал-модернизм тесно связан с объемами чтения на иностранных языках: для тех, кто вообще не читает на английском, балл равен плюс 0,46, для тех, кто читает более половины — минус 0,4412.
Какие общие выводы о структуре исторического сообщества мы можем сделать на основании этих наблюдений? Во-первых, оно разделено по признаку специализации на российской или всеобщей истории (и в меньшей степени по периодам), причем специализации имеют несколько различающийся демографический, географический, тематический и, отчасти, эпистемический профиль. В сравнении с другими социальными науками, эта система делений во многих отношениях удивительно стабильна: мы не видим следов того, что со сменой поколений в нем произойдут принципиальные изменения в том, что касается популярности тех или иных регионов или эпох.
Во-вторых, существует значимый раскол между центром и периферией. Центр, по сравнению с периферией, демонстрирует значимо меньшую вовлеченность в преподавание и более высокие уровни чтения на иностранных языках; в центре больше изучают более раннюю и политическую историю, а на периферии — повседневность, социальную и локальную историю, что отражает, вероятно, специфику доступных там архивных материалов.
В-третьих, основным интеллектуальным измерением, структурирующим поле исторической науки, является отношение к комплексу взглядов, которые названы здесь национал-модернистскими. Национал-модернизм подразумевает веру в то, что (а) история является наукой; (б) профессиональное сообщество историков обладает монополией на историческую истину, и эту монополию должно защищать государство; (в) российская историческая традиция не уступает иноязычным или превосходит их; (г) исторические исследования затрагивают область государственных интересов. При этом, однако, и национал-модернисты, и их оппоненты единодушно настаивают на сохранении статуса истории как беспристрастного изучения того, «как оно было».
В-четвертых, этот раскол частично коррелирует с двумя другими — между поколениями и между центрами и перифериями. Взгляды старшего поколения оказываются несколько более национал-модернистскими, чем взгляды младших. Менее национал-модернистскими являются взгляды историков в столичных городах и ведущих университетах (институты РАН, в которых сконцентрированы старшие по возрасту историки, занимают более сдержанную позицию).
1 Сафонова М.А., Соколов М.М. Структура поля российской социологии — 2020 // Социологические исследования. 2021. № 11. С. 91–105; Соколов М.М., Чечик Е.А. Академические репутации российских экономистов и их наукометрические оценки // Вопросы экономики. 2022. № 11. С. 117–135; Бочаров Т.Ю., Ходжаева Е.А. Cоциальный портрет, репутации и международная активность российских ученых-юристов // Закон. 2023. № 1. С. 84–94; Агафонов Ю.Г., Соколов М.М. Российская политология в 2021 году. Социальный и интеллектуальный ландшафт // Полис. 2023. № 2. С. 54–71.
2 Отчет выложен на сайте Центра институционального анализа науки и образования: URL: http://ciase.ru/2023/04/04/history/
3 Мы могли разослать письма с приглашением к участию в опросе только зарегистрированным пользователям; однако, в настоящее время к таковым относится порядка 90% исследователей, соответствующих остальным трем критериям.
4 Почти половина всех отнесенных к «сотрудникам ведущих университетов» работали в МГУ (3,1% от выборочной совокупности) и СПбГУ (2,9%).
5 Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время. В поисках утраченного. М., 1997; Про А. Двенадцать уроков по истории. М., 2000; Jordanova L. History in Practice. London; New York, 2000; Iggers G.G. Historiography in the twentieth century: From scientific objectivity to the postmodern challenge. Middleton, 2005; The Oxford history of historical writing / eds A. Schneider, D. Woolf. Oxford, 2015; Курилла И.И. История, или Прошлое в настоящем. СПб., 2017.
6 Мединский В.Р. Владимир Мединский впервые отвечает своим критикам // Российская газета. 4.VII.2017.
7 Источником вдохновения для этого высказывания были недавние работы М.М. Крома, с идеями которого, как следует из результатов опроса, большинство историков не согласно (Кром М.М. Междисциплинарность и кризис каузальности в современной исторической науке // Стены и мосты: история возникновения и развития идеи междисциплинарности. Материалы III Международной научной конференции / под ред. Г.Г. Ершова. М., 2015. С. 41–53).
8 Формулировка была позаимствована из книги А. Про, который приводит ее со ссылкой на Ф. Миттерана как на источник. Про А. Указ. соч. С. 15.
9 Вторая часть утверждения представляет собой цитату из Р. Коллингвуда: Коллингвуд Р. Идея истории. Автобиография. М., 1980. С. 236.
10 Источником этого утверждения было Постановление Бюро отделения общественных наук РАН от 19.02.2020 № 6 «Принципы установления нормативов публикационной результативности для научных организаций общественно-гуманитарного профиля».
11 Шкала имела среднее значение 0 и стандартное отклонение в 1. Обычно для того, чтобы охарактеризовать размер эффекта, используется следующее правило: различие менее чем в 0,2 стандартных отклонения, характеризуется как слабый эффект, от 0,2 до 0,5 — как эффект умеренной силы, свыше 0,5 — как значительный, более 1 — как сильный. В данном случае размер эффекта составляет 0,09 —(–0,36)=0,45.
12 Читатели могут предположить, что эти эффекты частично накладываются друг на друга: скажем, среди тех, кто преподает немного, преобладают молодые люди. Автор использовал общую линейную модель, чтобы обнаружить, какие эффекты сохраняются при контроле по другим переменным и обнаружил, что возраст, география и тип института, специализация на российской или всеобщей истории и знание иностранных языков сохраняют самостоятельную значимость даже при их объединении в одном регрессионном уравнении. Возраст и владение иностранными языками имеют наибольшую предсказательную силу. Модель объясняет 14,2% вариации.
About the authors
M. M. Sokolov
European university at Saint-Petersburg
Author for correspondence.
Email: msokolov@eu.spb.ru
ORCID iD: 0000-0002-4102-7117
Scopus Author ID: 55378346000
профессор
Russian Federation, Saint-PetersburgReferences
- Agafonov Yu.G., Sokolov M.M. Rossiyskaya politologiya v 2021 godu. Sotsial’nyy i intellektual’nyy landshaft [Russian political science in 2021. Social and intellectual landscape] // Polis [Policy]. 2023. № 2. S. 54–71. (In Russ.)
- Bocharov T. Yu., Khodzhaeva E.A. Sotsial’nyy portret, reputatsii i mezhdunarodnaya aktivnost’ rossiyskikh uchenykh-yuristov [Social portrait, reputation, and international activity of Russian legal scholars] // Zakon [Law]. 2023. № 1. S. 84–94. (In Russ.)
- Krom M.M. Mezhdistsiplinarnost’ i krizis kauzal’nosti v sovremennoj istoricheskoj nauke [Interdisciplinarity and the crisis of causality in modern historical science] // Steny i mosty: istoriya vozniknoveniya i razvitiya idei mezhdistsiplinarnosti. Materialy III Mezhdunarodnoy nauchnoy konferencii [Walls and bridges: the history of the emergence and development of the idea of interdisciplinarity. Materials of the III International scientific conference] / pod red. G.G. Ershova. Moskva, 2015. S. 41–53. (In Russ.)
- Kurilla I.I. Istoriya, ili Proshloe v nastoyaschem [History, or the Past in the present]. Sankt-Peterburg, 2017. (In Russ.)
- Pro A. Dvenadtsat’ urokov po istorii [Twelve lessons in history]. Moskva, 2000. (In Russ.)
- Safonova M.A., Sokolov M.M. Struktura polya rossiyskoy sotsiologii — 2020 [The structure of the field of Russian sociology — 2020] // Sotsiologicheskiye issledovaniya [Sociological research]. 2021. № 11. S. 91–105. (In Russ.)
- Savel’eva I.M., Poletaev A.V. Istoriya i vremya. V poiskakh utrachennogo [History and time. In search of the lost]. Moskva, 1997. (In Russ.)
- Sokolov M.M., Chechik E.A. Akademicheskiye reputatsii rossiyskikh ekonomistov i ikh naukometricheskiye otsenki [Academic reputations of Russian economists and their scientometric assessments] // Voprosy ekonomiki [Economic issues]. 2022. № 11. S. 117–135. (In Russ.)
- Iggers G.G. Historiography in the twentieth century: From scientific objectivity to the postmodern challenge. Middleton, 2005.
- Jordanova L. History in Practice. London; New York, 2000.
- The Oxford history of historical writing / eds A. Schneider, D. Woolf. Oxford, 2015.
Supplementary files