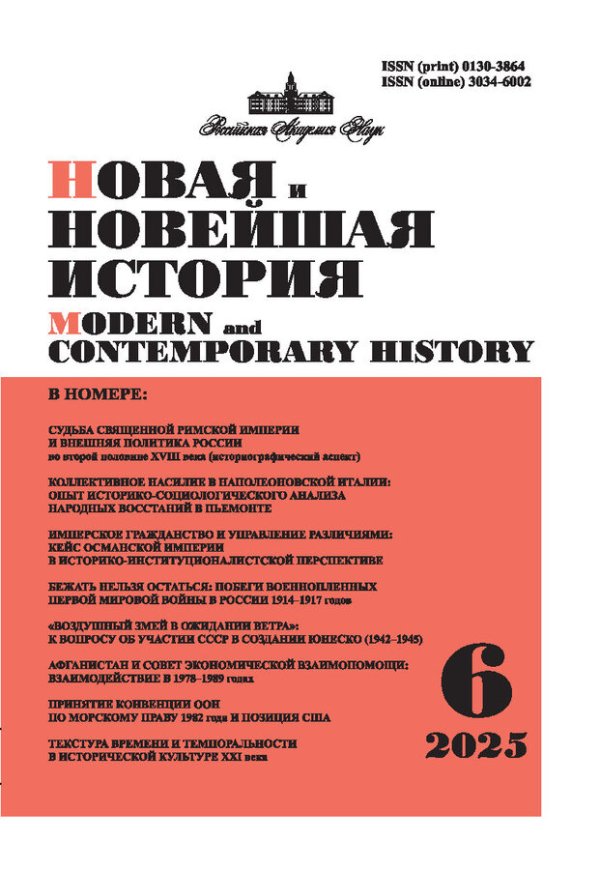Media narratives in the social history of medicine: the case study of the 1949 Khabarovsk trial
- Authors: Nagornykh O.S.1, Shok N.P.1
-
Affiliations:
- Privolzhsky Research Medical University
- Issue: No 2 (2024)
- Pages: 5-18
- Section: Theory and methodology of history
- URL: https://bakhtiniada.ru/0130-3864/article/view/255790
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0130386424010017
- ID: 255790
Cite item
Full Text
Abstract
In the article, the authors explore media narratives of the tribunal held in December 1949 in Khabarovsk over Japanese doctors recognized as war criminals involved in the development and use of bacteriological weapons, as well as conducting medical experiments on humans that are incompatible with the norms of morality and ethics of medicine. The purpose of the article is to explore the Khabarovsk process in the broad context of the social history of science using domestic archival materials, published memoirs of eyewitnesses and participants in the process, as well as periodic publications (mainly regional) as the main historical sources. A comprehensive study of this plot made it possible, through the analysis of media narratives, to supplement historiography with materials from the Far Eastern region, which allowed us to select not only the historical context, but also to restore little-studied aspects of informing Soviet society about the Khabarovsk process, to identify international resonance for this event.
Full Text
Устойчивый интерес к истории науки обуславливает актуальность обращения ко многим сюжетам с точки зрения их социального, культурного и политического измерения. История войн и послевоенных судебных процессов над врачами, отнесенными к военным преступникам, составляет значительную часть социальной истории медицины и обладает эвристическим потенциалом для развития исследований в этой области. В свою очередь, медицина как наука и как область социальной деятельности человека в XX в. наполнена потрясениями и изобилует этическими вызовами. К числу подобных можно отнести Хабаровский судебный процесс 1949 г., организованный по делу бывших японских военнослужащих-врачей, являвшихся сотрудниками секретных подразделений Квантунской армии, проводивших научно-медицинские эксперименты с участием человека.
Реконструкция деятельности отрядов № 731, 100, 516, 526, 1644 и подобных подразделений, созданных в составе Императорской армии Японии с целью проведения экспериментов в области оружия массового уничтожения, прежде всего бактериологического, может интерпретироваться и с точки зрения их роли в формировании этики медицины и профессионального статуса врача и врача-исследователя. В судебной практике того времени крайне мало свидетельств столь масштабных нарушений, связанных с биомедициной и нравственными установками медицинского работника.
Нельзя игнорировать исторический контекст и идеологическую сторону действий СССР при осложнении отношений с бывшими союзниками по Антигитлеровской коалиции и ориентации на сотрудничество и поддержку коммунистического Китая. В. Полунина в работе, посвященной анализу роли СССР и процедуре организации Токийского и Хабаровского процессов, рассматривает этот исторический сюжет с позиции истории пропаганды периода холодной войны, что характерно для западной историографии. Она утверждает, что «наиболее важные пропагандистские цели Советов — убедить международное сообщество в том, что Советский Союз был единственной державой, заинтересованной в восстановлении справедливости по отношению к жертвам японской оккупации, в предотвращении распространения “американского империализма” и ремилитаризации Японии, а также защите своих союзников от нападений и новой колонизации»1.
Несмотря на то что в отношении немецких врачей в ходе Нюрнбергского международного трибунала 1945–1946 гг. уже проводилось расследование, участие СССР в нем было минимальным. Это было дело «США против Карла Брандта»2, или процесс против 23 врачей и ученых, обвиняемых в том, что они приняли участие в заговоре и осуществляли преступления против человечества. По мнению СССР, такой формат не позволил придать процессу необходимой международной огласки. Он проводился американской администрацией и, как отмечалось на заседании 9 декабря 1946 г., «обвинение подсудимым предоставляется от имени Соединенных Штатов Америки»3. У советских лидеров сложилось двойственное отношение и к Токийскому процессу4: в целом, одобрив его результаты, советская сторона осталась неудовлетворенной, не говоря уже о масштабах критики в адрес западных союзников и США, которые осуществляли тотальный контроль над трибуналом, а японские врачи так и не получили должного наказания.
Организация и проведение 25–30 декабря 1949 г. в здании Дома офицеров в Хабаровске трибунала над японскими военными преступниками (военными и врачами) неоднократно привлекало исследовательское внимание историков5. Нюрнбергский процесс6 и Токийский трибунал7, несмотря на поднятые вопросы о преступлениях врачей, в отличие от Хабаровского процесса, не столь явно акцентировали внимание на медицинском содержании обвинений.
Судебное разбирательство в Хабаровске — единственный судебный процесс, который был полностью посвящен японской программе создания биологического оружия военного времени и имел явно выраженную региональную специфику. Выбор приграничного Хабаровска для проведения масштабного процесса был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, согласно плану «Кантокуэн», именно Хабаровск должен был одним из первых подвергнуться бактериологической атаке8. Во-вторых, территориальная отдаленность затруднила допуск большого числа иностранных наблюдателей и репортеров. В-третьих, место проведения судебного процесса находилось рядом с крупнейшей лабораторией по исследованию человека в непосредственной близости от советско-китайской границы, в частности к Харбину, что имело символическое значение для китайских жертв биологического оружия. Отметим, что непосредственные организаторы (переводчики, юристы, аккредитованные журналисты) преимущественно набирались именно с Дальнего Востока.
Значимые тренды отечественной и зарубежной историографии, раскрывающие различные подходы к освещению процесса, позволяют извлечь наиболее репрезентативные сюжеты.
Фонды Государственного архива Хабаровского края (ГАХК) содержат уникальные документы по смежным темам: о нахождении и положении на территории СССР, в том числе на Дальнем Востоке, японских военнопленных, особенности их пребывания, медицинской помощи в условиях лагерного содержания, организации лечения в условиях острой нехватки медицинского персонала и пр9.
В историографии проблемы можно выделить четыре направления освещения данного исторического события. Во-первых, уже в 1950 г. Государственным политическим издательством (тираж 50 тыс. экземпляров) были опубликованы официальные материалы Хабаровского процесса, документы предварительного следствия, самого судебного разбирательства, речи государственного обвинителя и защиты, документальные доказательства, протоколы и пр10. Почти сразу Государственным издательством иностранной литературы («Иноиздат») материалы Хабаровского процесса были опубликованы также на английском11, французском12, немецком13, китайском14, японском15, корейском16 и других языках. Быстрый перевод и публикация материалов придавали публичность процессу и были призваны ознакомить мировую общественность с его результатами. Именно эта активность истолковывалась зарубежной историографией как часть советской пропаганды. Центральным же посылом советской стороны было привлечение внимания к ведущей роли Советского Союза в разгроме Японии и к угрозе бактериологической войны. К данному направлению можно отнести и проект Российского исторического общества «Без срока давности. Преступления нацистов и их пособников против мирного населения в период Второй мировой войны», целью которого является создание электронной библиотеки исторических документов, посвященных в том числе и Хабаровскому процессу.
Во-вторых, интересны переведенные мемуарные источники и опубликованные позднее фрагменты воспоминаний участников процесса с советской стороны. Отдельное внимание заслуживает личность старшего переводчика Хабаровского процесса, автора ряда книг о Японии и Китае Г.Г. Пермякова, назначенного на должность старшего переводчика УМВД в лагерь высокопоставленных японских военнопленных («Спецобъект-45»), где содержались в том числе последний главнокомандующий Квантунской армией генерал Ямадо Отодзоо, три генерала-микробиолога Кадзицука, Кавасима, Такахаси, позднее ставшие подсудимыми на процессе. Интересны авторские заметки «Ямада и другие» известного дальневосточного писателя, аккредитованного на процессе журналиста Д. Нагишкина (в ГАХК хранится фонд личного происхождения журналиста17). Эти заметки публиковались, как правило, в газете «Суворовский натиск» в разделе «Из зала суда». Главный редактор журнала «Дальний Восток» Н. Рогаль уже в 1950 г. опубликовал статью, где постарался раскрыть всю тяжесть и последствия преступлений против человечества, используя истории очевидцев18.
Среди опубликованных и переведенных на русский язык иностранных источников можно выделить книги Х. Акиямы19 и С. Моримуры20, рассказывающие об опытах в бактериологических отрядах.
В-третьих, речь идет о периодических изданиях. Центральные, и особенно местные, средства массовой информации предоставляли подробные отчеты из зала суда с обширными комментариями: «Известия», «Правда», «Тихоокеанская звезда», «Суворовский натиск», «Красное знамя», «Амурская правда» и др. Периодика, преимущественно газеты, относятся к числу наиболее эффективных институций, интерпретирующих события процесса21. В советских газетах публиковались также репринты заметок иностранных газет, что свидетельствует и о международном резонансе.
В-четвертых, визуальный контент также является важным и актуальным в восприятии данного события. Интеграция большой массы повествовательного текста в визуальное пространство приводит к существенному сдвигу в понимании самого текста22. Не случайно после окончания процесса выходили книги с большим количеством иллюстративного фотографического материала23. Огромное значение имеют действующие в настоящее время на территории КНР музейные комплексы. Научный обзор экспонатов этих музеев с представлением фотоматериала был проведен в работе хабаровского профессора А.В. Алепко24.
Есть немало работ отечественных исследователей, занимавшихся данной проблематикой25. Интересны работы В.В. Романовой26, которая на основании отечественных архивов исследовала вопросы организации и проведения Хабаровского процесса, а также попытки организации нового трибунала на Дальнем Востоке. Дальневосточный историк Д.В. Кузнецов опубликовал монографию по истории Хабаровского процесса27, проведя историческую реконструкцию деятельности бактериологического отряда № 731 на основе отечественных и китайских28 материалов.
Есть и зарубежные исследования о Хабаровском процессе29. Следует выделить работы профессора Университета штата Калифорния Ш.Х. Харриса, давшего подробную характеристику программы по созданию бактериологического оружия, которую стремилась реализовать Япония. Особенно раскрывается роль, которую сыграли американские военные и гражданские чиновники в деле защиты наиболее значимых японских ученых, имевших причастность к реализации данной программы30.
Отдельным направлением медианарративов данного исторического события можно считать роль и значение СМИ: местная периодика публиковала, во-первых, официальную информацию, во-вторых, репринты заметок иностранных газет, а также пропагандистские карикатуры и выдержки, в первую очередь из газеты «Жэньминь жибао». Китайская пресса оценивала Хабаровский судебный процесс как «проявление дружбы советского народа к китайскому народу» и «предупреждение англо-американским поджигателям войны», пытающимся использовать биологическое оружие, чтобы поставить под угрозу мир на Дальнем Востоке и во всем мире. «Женьминь жибао» указывала, что эпидемия чумы, начавшаяся после окончания войны с Японией, есть результат распространения микробов с баз на территории Маньчжурии. Отмечая справедливость инициированного Советским Союзом трибунала, редакция газеты информировала, что «японские захватчики создали огромную силу для ведения бактериологической войны против Китая… Много беззащитных китайских и советских людей погибло, когда эти преступники использовали их вместо морских свинок при производстве и испытании действий смертоносных микробов»31. Процесс, направленный не только на защиту Дальнего Востока, но и на обеспечение стабильности и мира не мог не вызывать у китайского населения одобрения: «Мы, китайский народ, проживший восемь тяжелых лет войны с японцами, одобряем этот справедливый акт со стороны нашего великого дружественного соседа — Советского Союза!»32. При этом оговаривалось, что стремление к сотрудничеству выражал именно коммунистический Китай. Заместитель министра иностранных дел КНР Ли Кэ-нун направил поверенному в делах СССР в Китае П.А. Шибаеву ноту одобрения и поддержки действий Военного трибунала Приморского военного округа, где было сказано, что в ближайшее время в Китае будет сформирован специальный Военный суд, который проведет процесс над пятью главными преступниками бактериологической войны во главе с императором Японии Хирохито.
Инициатива Советского Союза не нашла одобрения у западных союзников. Как известно, нота советского правительства от 3 февраля 1950 г. правительствам США, Великобритании и Китая33 с инициативой создать Международный военный трибунал с целью наказания японских военных преступников, причастных к разработке бактериологического оружия, была поддержана исключительно китайским правительством. Как писала китайская пресса: «Только империалистическое правительство, которое стремится восстановить японский империализм… может отвергнуть этот справедливый призыв… и продолжать укрывать военного преступника императора Японии»34. Более того, на страницах дальневосточной периодики были сделаны репринты выдержек из китайских газет «Гуанмин жибао», «Дачжун жибао», «Дунбей жибао», приводящих авторитетные мнения относительно предложения СССР: председателя подготовительного комитета по созданию пекинского совета профсоюзов Сяо Мин, заместителя председателя подготовительного комитета по пекинской ассоциации демократической моложеди Ян Бочень, председателя подготовительного комитета по созданию пекинской торгово-промышленной ассоциации Фу Нюа-Дин, исполняющего обязанности ректора Яньцзинского университета Линь Ха-Да, председателя Тяньцзиньской ассоциации женщин Ло Юнь и др.
Любопытными являются упоминания событий Хабаровского процесса в японских газетах (в частности, «Акахата»). Так, по данным агентства Синьхуа, во всех японских газетах 25 декабря 1949 г. была опубликована информация о судебном процессе против бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия. При этом китайская пресса, со ссылкой на агентство Юнайтед пресс, приводит заявление главнокомандующего оккупационными войсками союзников генерала Д. Макартура, что «химический отдел штаба провел полное расследование и не смог обнаружить каких-либо данных, свидетельствующих о применении Японией бактериологического оружия»35. На излете холодной войны зарубежная историография все-таки стала публиковать материалы, посвященные японским военным преступлениям с использованием бактериологического оружия36.
Китайская общественность расценила данное заявление как явное покровительство американского правительства японским военным, на что и было обращено внимание Советского Союза. В первой половине февраля 1950 г. в японских газетах появились сведения, что австралийское правительство решило освободить большое число японских военных преступников, которых должен был судить австралийский трибунал. Токийский корреспондент сиднейской газеты «Санди Сан» и мельбурнской газеты «Геральд» Р. Хьюз передал, что «20 февраля 1950 г. в Токио будут освобождены по меньшей мере 90 японских военных преступников, обвиняемых в убийствах, пытках, казнях и других зверствах на островах Новая Гвинея и Новая Британия»37. Указывалось, что австралийские следователи имели обширную доказательную базу, по свидетельствам многих международных наблюдателей, достаточную для проведения и вынесения справедливого вердикта, однако организация процесса была приостановлена, что решение федерального правительства не передавать суду японцев (несмотря на явные доказательства их преступлений против военных, мирных жителей, туземцев, миссионеров) принято под сильным давлением американцев. Осуждая решение правительства, прогрессивная австралийская пресса в редакционных статьях открыто говорила, что японские преступники освобождены по приказу генерала Макартура, «который хочет, чтобы японские военные преступники стали союзниками Австралии в войне против СССР»38.
Фактическими доказательствами причастности японских правительственных кругов к развертыванию бактериологической диверсии, по данным прессы, можно считать публикацию в газете «Акахата» о том, что после капитуляции Японии один из главных обвиняемых на процессе генерал-лейтенант Сиро Исии заявил: «В специальных бактериологических частях японской армии служили также принцы Микаса и Такеда (под именем Спадумята)». Здесь же была опубликована беседа с бывшими сотрудниками «японской специальной строительной компании» Фуруя, которая занималась строительством в Маньчжурии объектов для организации бактериологических опытов39.
По сообщениям из Токио, во всех японских газетах 25 декабря 1949 г. была опубликована информация о судебном процессе. После его завершения на страницах газеты «Акахата» появился комментарий: «Показанные на процессе ужасы войны требуют от нас усиления борьбы за мир. Поджигатели войны снова начали пропаганду… Задача рабочего класса… добиться заключения общего мирного договора, который обеспечит мир и безопасность странам Азии»40.
Анализ корпуса материалов — воспоминания участников событий, публикации в газетах, аналитические материалы советских врачей, работавших в ходе процесса, — показал, что история разработки и применения бактериологического оружия милитаристской Японией не была локализована периодом Второй мировой войны. Хотя основная доказательная база во время заседаний строилась прежде всего на свидетельствах 1940-х годов с акцентом на применение бактериологического оружия в войне с Китаем.
Г.Г. Пермяков, основываясь на полученных сведениях при предварительных допросах военнопленных, отметил примеры использования искусственных заражений китайской территории еще до начала войны: «Японцы захватили Харбин в 1932 г., когда город был деморализован вспышками холеры. Но японцев она не брала, так как была создана прививка именно от этой болезни. Прошло 8 лет, когда на Харбин спустился азиатский тиф… На этот раз удалось определить, откуда произошла эпидемия. Она началась в Пинфане, что в 30 км юго-западнее Харбина в окрестностях фабрики, которую строили японцы. …За невинной вывеской на самом деле находилась фабрика по производству бактериологического оружия — фабрика смерти»41. Летом 1940 г. специальная бактериологическая экспедиция была направлена в район боевых действия в Центральный Китай: «Самолеты отряда… произвели заражение территории противника чумой с помощью чумных блох, в результате чего вспыхнула эпидемия… В 1941 г. в районе города Чандэ… самолеты произвели заражение местности… В 1942 г. в момент отступления японских войск была организована еще одна экспедиция с участием сотрудников бактериологического отряда “Эй”»42. Н. Рогаль приводит слова очевидца данного события: «Начальник китайского госпиталя Хуадэ в городе Чандэ доктор Тан Сюэ Хуа исследовал зерна, зараженные бациллами чумы»43. Также на допросе врач-бактериолог Кавасима Киоси показал, что численность отряда № 731, созданного в 1936 г. по указу императора Японии Хирохито, к 1940 г. достигла 3 тыс. человек44.
Участник военных действий с Японией доцент Хабаровского медицинского института М.К. Захаров вспоминал, что в феврале 1946 г. в составе эпидемической группы, на базе которой был сформирован инфекционный госпиталь для японских военнопленных, он был экстренно отправлен в Маньчжурию в район города Муданьцзян. В ходе работы появилась информация о природе возникших на территории вспышек сыпного тифа, оспы, чумы: «Наши специалисты подчеркивали ее инспирированный характер, хотя и не подозревали вначале обо всем объеме готовящейся против нас бактериологической войны»45. Эти свидетельства стали дополнительным доказательством необходимости противоэпидемической зачистки районов, где на протяжении десятилетия была развернута экспериментальная работа по разработке бактериологического оружия.
После войны в Хабаровске был создан лагерь для военнопленных старших японских офицеров, где содержалось около 300 бывших диверсантов и разведчиков, с Курил, Южного Сахалина, Северной Кореи, Внутренней Монголии, Маньчжурии и севера Китая. Уникальная информация о лагерях с японскими военнопленными есть в архивных материалах ГАХК. Эти документы позволяют раскрыть некоторые особенности, связанные с подготовкой процесса, чего нет в центральных архивах, но является важным иллюстративным дополнением. Этому же посвящен ряд работ46. Согласно докладной записке начальника управления НКВД по Хабаровскому караю И.И. Долгих о состоянии лагерей на 1 января 1946 г., направленной секретарю Хабаровского краевого комитета ВКП(б) Р.К. Назарову, всего в хабаровских лагерях содержалось 161 294 японских военнопленных47, при этом отбирали в них физически здоровых, годных к труду в условиях Дальнего Востока людей. Отмечался ряд проблем, связанных с нехваткой кадров медицинских работников для заключенных48, распространением инфекционных заболеваний, недостаточной обеспеченностью лазаретами, спецгоспиталями, несмотря на «осознанность развертывания лечебных и санитарно-профилактических мероприятий»49. Учитывая, что среди военнопленных японцев были врачи, пытались использовать их опыт, но отмечалось «допущение прямых ошибок в диагностике вследствие передоверия вопросов лечебной практики военнопленным японским врачам, результатом чего было несвоевременная диагностика заболеваний паразитарным тифом»50. Старались учитывать специфику национальности и менталитета, к примеру, составляя пищевой рацион, предпочтение отдавали супу мисо, рису, салатам из овощей51. Отношение к военнопленным, согласно архивным материалам, было удовлетворительным. То, что японские военные и некоторые врачи-бактериологи все еще находились в плену в Советском Союзе на территории Дальнего Востока, благоприятствовало организации процесса.
Согласно воспоминаниям Г.Г. Пермякова, уже в январе 1946 г. из Москвы пришло указание И.И. Долгих собрать следственную группу. Следовало допросить японских военнопленных (30 генералов, 36 старших офицеров, 11 штатских японцев52) и взять у них письменные показания о бактериологическом оружии для формирования советского обвинения в Токио. Таким образом, было установлено, что в Хабаровском лагере для военнопленных офицеров находятся три генерала, которые руководили разработкой бактериологического оружия, что создало документальный фундамент неоспоримых доказательств военных преступлений японских врачей для процесса в Хабаровске53. У Пермякова есть описание некоторых из них: «Японский разведчик генерал-лейтенант Хата, большой, тяжелый, большеголовый, с огромными ушами, за что мы называли его “генерал уши”… Хата любил выпить, но пил только японское сакэ 18 градусов… Если с Хата шла беседа, ему всегда ставили чарочку… Ямада, среднего для японца роста, стриженный под машинку и высоколобый, знал все секреты Квантунской армии… Жемчужина лагеря экс-император Китая Айсингеро Пуи, образованный, умный, знавший английский язык и изучавший русский… привез с собой… массу драгоценностей»54.
Для проведения процесса нужны были квалифицированные переводчики с японского и китайского языков, которых отбирали в условиях строгой секретности из числа дальневосточных специалистов. Как докладывал И.И. Долгих в записке секретарю Хабаровского краевого комитета ВКП(б) от 27 марта 1946 г., «что касается обеспеченности лагеря переводчиками, то все имевшиеся в распоряжении Управления Министерства внутренних дел Хабаровского края переводчики были пропорционально распределены между подведомственными лагерями»55.
Пермяков в воспоминаниях отмечал: «Совещание вел полковник Л.А. Карлин… В интересах его личной безопасности он был надолго засекречен… Был засекречен и я — главный переводчик этого процесса»56. По политическим причинам его воспоминания не могли быть опубликованы вплоть до начала 2000-х годов. Автору удалось передать атмосферу самого процесса и внутренние непростые обстоятельства, которые могли быть известны лишь непосредственному участнику событий. В.В. Богач и Н.Н. Беседнова цитируют воспоминания Г.Г. Пермякова о полузакрытом характере процесса, на котором все же присутствовали и иностранные корреспонденты: «В первом ряду партера сидели иностранные корреспонденты, причем Н.Н. Жуков-Вережников57 предупредил нас, что если иностранные корреспонденты будут слишком назойливо приставать к кому-либо из нас с расспросами, то лучше переадресовывать их к нему — председателю комиссии»58. «В переполненном зале суда, — вспоминал Пермяков, — присутствуют рабочие хабаровских заводов и фабрик, служащие, ученые, представители Советской Армии»59. Как пишет Пермяков, обвинительное заключение читалось два часа: «Русский текст занимал 32 страницы… Мы заранее перевели его на японский язык и дали ознакомиться заключенным»60.
Авторы газетных публикаций не скупились на эпитеты: «матерый империалистический разбойник генерал Ямадо Отозоо», «бандитский сговор самураев с гитлеровцами», «как чудовищно отвратительны эти доктора медицинских наук», «убийцы с научными степенями», «обряженные в белые врачебные халаты с хладнокровием мясников», «шеф чумы генерал Исии Сиро… в столовой в кругу своих подручных как заправский атаман разбойничьей шайки, похваляющийся во время пирушки планом нового бандитского налета, открыто говорил, что приближается момент бактериологического нападения на Советский Союз», «идя ва-банк японская военщина впрягала в свою потрепанную скрипящую колесницу чумных блох, чтобы скакать все дальше навстречу своей погибели»61. В книге, подготовленной непосредственными участниками процесса, констатировалось, что «все люди, доставляемые в отряд путем “особых отправок”, были обречены на смерть… Жизнь некоторых жертв обрывалась через несколько дней, мучительное существование других тянулось месяцы… С кощунственным глумлением было придумано для них условное наименование — “бревна”»62. Особое возмущение вызывал тот факт, что японские подсудимые были медиками: «Среди них — врачи!… Врачи на фашистский манер, врачи, забывшие, что врач — представитель гуманнейшей в мире профессии, чьим святым долгом является избавление человека от страданий, избавление человека от болезней… Лаборатории этих “научных работников” были камерами пыток для несчастных»63. Д. Нагишкин описал некоторых подсудимых: «Ямада — подлинный властитель Маньчжурии, хозяин жизни и смерти каждого из сорока миллионов населения Трех Восточных Провинций»; старший унтер-офицер Митомо Кадзуо сидел рядом с Ямадой: «они сели рядом, потому что служебное различие уже не разделяло их… генерал и унтер»; Ямада являлся идеологом японского империализма, а Митомо — человеком, «кого превратили в послушное орудие». Именно Нагишкин начал использовать имя Ямада как нарицательное: «Они — ямады, большие и маленькие, хотели… обрушить тонны смертоносных бактерий на наши города… чтобы истребить наших людей… реки, пруды, колодцы, воздух»64.
«Красное знамя» так описывает первое заседание с допросами обвиняемых: «Квасима65 с циничным спокойствием воспроизводит омерзительнейшую картину, как над живыми людьми на полигоне испытывали бомбы, начиненные чумными блохами». Военный прокурор Приморского военного округа полковник юстиции А. Березовский отмечал, что «руководитель отряда № 100, начальник ветеринарной службы Квантунской армии Такахаси Такаацу постоянно пропагандировал идею бактериологического оружия как одного из наиболее эффективных средств войны»66.
Пермяков возмущался поведением Исии: «Интересно, что этот вдохновленный сторонник массового уничтожения людей сам был весьма жизнелюбив. Иногда, переодевшись в штатское, он кутил в дорогих ресторанах Маньчжурии… Понимал ли это человек, что творит беззаконие? Понимал. Недаром все фабрики по производству болезнетворных бактерий были заранее на всякий случай заминированы… Рытвины от Харбина до Пинфана превратились в прекрасную дорогу и по ночам по этой дороге на фабрику ездят автомобили с людьми, которые стучат в стенки машин. Что мальчишки-китайцы, которые подползают к ограде на фабрике и наблюдают за японцами, бесследно исчезают. Позже было доказано, что японские военные бактериологи ставили бесчеловечные опыты над живыми людьми — китайцами, русскими и другими. Ежегодно отряд убивал более 600 подопытных людей. Впрочем, кто их считал людьми?»67. Н. Рогаль отмечал, что лагерь — «запретная зона… Японцы убивали всякого, кто к ней приближался… В целях сохранения тайны, они злодейски умертвили рабочих, строивших объект»68. Он приводит свидетельства очевидцев преступлений: «Крестьянин Фу Чин-Цзи… помнит тошнотворный желтый дым, извергаемый постоянно из печи крематория»69.
* * *
Комплексное изучение данного исторического сюжета нашло отражение в разных его измерениях — устной истории, истории медиа, в социальной истории науки и позволило:
во-первых, исследовать уровни медиатизации Хабаровского процесса в контексте выявления основных сюжетных линий и личностного восприятия очевидцев посредством анализа историографии и материалов региональной периодики, что позволило глубже понять исторический контекст;
во-вторых, на основании имеющегося материала периодики проследить международную реакцию на Хабаровский процесс. Прежде всего речь идет о китайской общественности и позиции китайского правительства, понимающего важность и перспективность шага СССР в поддержку китайских граждан, оказавшихся в эпицентре событий. И СССР, и коммунистический Китай использовали судебный процесс, чтобы подчеркнуть тесные и дружественные отношения между двумя коммунистическими державами;
в-третьих, показать роль Хабаровского процесса и раскрытия преступлений японской армии по разработке и испытанию бактериологического оружия и проследить, каким образом в региональной периодической печати были представлены эти действия, как формировался социальный резонанс и отношение общественности к медицинским экспериментам на людях.
Анализ источников показал, что измерение такого исторического сюжета, как Хабаровский процесс, все же выходит за рамки исключительно судебного разбирательства с целью восстановления справедливости в отношении этических действий японских военных врачей.
Таким образом, данная проблема, реконструированная, с одной стороны, с помощью анализа медианарративов дальневосточного региона, в котором сосредоточен максимальный объем информации вокруг сюжетов, составляющих сегодня важную страницу истории медицины как науки, позволила восстановить исторически достоверную картину, проследить информационный и социальный резонанс. С другой стороны, анализ зарубежной историографии и воспоминаний советских участников и современников события становятся важной платформой для сюжетов истории науки.
На Хабаровском процессе не возникал вопрос о возможности освобождения подсудимых от наказания, что существенно отличало его от Нюрнбергского и Токийского и доказывало необходимость его организации. Трибунал в Хабаровске не получил статус международного, а в последующий год и инициативы СССР по созданию Международной комиссии не нашли откликов у союзников. Обвинения, выдвинутые против подсудимых в Хабаровске, оказались мощным политико-информационным оружием и были успешно использованы позже руководителями Северной Кореи и КНР.
1 Polunina V. From Tokyo to Khabarovsk: Soviet War Crimes Trials in Asia as Cold War Battlefields // War Crimes Trials in the Wake of Decolonization and Cold War in Asia, 1945–1956. Justice in Time of Turmoil / ed. K. von Lingen. Cham, 2016. P. 241.
2 Лейб-медик А. Гитлера, имперский комиссар здравоохранения, член Имперского научно-исследовательского совета.
3 Государственный архив Российской Федерации (далее — ГАРФ). Ф. 8009. Оп. 1. Д. 646 а. Л. 9.
4 Международный военный трибунал для Дальнего Востока, проходивший с 3 мая 1946 г. по 12 ноября 1948 г. над японскими военными преступниками. В ходе процесса советской стороной были выявлены факты создания и применения Японией бактериологического оружия, подготовки специальных воинских команд для заражения бактериями населения.
5 См., например: Богач В.В., Иванов Л.И., Иванов Н.А. Работа комиссии экспертов-медиков на судебном процессе по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия // Дальневосточный медицинский журнал. 2004. № 4. С. 106–110; Рудаков Д.П., Степанова Е.А. Японская военно-биологическая программа в 1932–1945 гг. // Военно- исторический журнал. 2015. № 10. С. 47–52; Тупицын А.В. Хабаровский процесс 1949 года // Научный альманах. 2018. № 11–3 (49). С. 183–186; Алепко А.В. Хабаровский процесс 1949 года и нечеловеческие эксперименты над людьми в бактериологическом отряде № 731 японской Квантунской армии // Культура и наука Дальнего Востока. 2019. № 1 (26). С. 63–70.
6 См., например: Александров Г.Н. Нюрнберг вчера и сегодня. М., 1971; Звягинцев А.Г. Без срока давности…: к 70-летию Нюрнбергского военного трибунала. М., 2016.
7 См., например: Дубровский Д. Токийский процесс // Дальний Восток. 1949. № 1. С. 108–114; Звягинцев А.Г. Ветер возмездия. Уроки Токийского международного военного трибунала. М., 2019.
8 Богач В.В., Беседнова Н.Н. Биотерроризм: мифы и реальность. Хабаровск, 2003. С. 191.
9 Государственный архив Хабаровского края (далее — ГАХК). Ф. П. 35. Оп. 1. Д. 1865; Оп. 3. Д. 236, 237.
10 Материалы судебного процесса по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия. М., 1950.
11 Materials on the Trial of Former Servicemen of the Japanese Army Charged with Manufacturing and Employing Bacteriological Weapons. Moscow, 1950.
12 Documents relatifs au proces des anciens Militaires de l’armee Japonaise accuses d’avoir prepare et employ l’Arme Bacteriologique. Moscou, 1950.
13 Prozessmaterialien in der Strafsache gegen ehemalige Angehörige der Japanischen Armee wegen Vorbereitung und Anwendung der Bakterienwaffe. Moskau, 1950.
14 См.: 前日本陆军军人因准备和使用细菌武器被控案审判材料. 莫斯科,1950.
15 細菌戦用兵器ノ準備及ビ使用ノ廉デ起訴サレタ元日本軍軍人ノ事件ニ関スル公判書. 外国語図書出版所, 1950.
16 세균 무기를 준비하고 사용한다고 비난받은 일본 육군의 전 군인의 재판 자료. 모스크바, 1950.
17 ГАХК. Ф. Р-1745. Оп. 1. Д. 55.
18 Рогаль Н. Японские военные преступники и их американские покровители // Дальний Восток. 1950. № 2. С. 115–123.
19 Акияма Х. Особый отряд 731 / пер. с япон. М.А. Гусева, В.А. Зломанова и др. М., 1958. Фамилия автора — псевдоним участника бактериологического отряда в Маньчжурии.
20 Моримура С. Кухня дьявола. М., 1983.
21 Брукс Д. «Людей, которые не читают газет, надо морально убивать на месте» // Советская власть и медиа / под ред. Х. Гюнтера, С. Хэнсген. СПб., 2006. С. 228.
22 Гройс Б. Фотография в контексте текста // Там же. С. 225.
23 Например: Милитаристы на скамье подсудимых. По материалам Токийского и Хабаровского процессов. М., 1985.
24 Алепко А.В. Указ. соч.
25 Рогинский М.Ю., Розенблит С.Я., Смирнов Л.Н. Бактериологическая война — преступное орудие империалистической агрессии: Хабаровский процесс японских военных преступников. М., 1950; Рогинский М.Ю. Милитаристы на скамье подсудимых: по материалам Токийского и Хабаровского процессов. М., 1985; Бондаренко Е.Ю. Судьбы пленных. Токийский и Хабаровский международные процессы над японскими военными преступниками и последствия // Россия и АТР. 1993. № 1. С. 117–123; Супотницкий М.В. Чума от дьявола в Китае (1933–1945) // Очерки истории чумы: в 2-х кн. Кн. 1. Чума добактериологического периода. М., 2006.
26 Романова В.В. От Токийского суда к Хабаровскому: из истории подготовки судебного процесса над японскими военными преступниками-бактериологами // История медицины. 2015. Т. 2. № 1. С. 72–82; Ее же. Отряд 731 // Родина. 2015. № 12. С. 116–120.
27 Кузнецов Д.В. Оружие дьявола…; Его же. Хабаровский процесс 1949 г. // URL: kuznetsov.ucoz.org/publications/ khabarovskij_process_1949_goda.doc (дата обращения: 20.07.2023).
28 Chinese Central Archive. Selected Archival Materials of Japanese Imperialist Aggression against China: Biological Warfare and Poison Gas Warfare. Beijing, 1989.
29 Tsuchiya T. The Imperial Japanese Experiments in China // The Oxford Textbook of Clinical Research Ethics / eds J. Ezekiel, E.J. Emmanuel et al. Oxford, 2008. P. 31–45; Nie J., Tsuchiya T., Li L. Japanese Doctors’ Experimentation, 1932–1945, and Medical Ethics // The Cambridge World History of Medical Ethics / eds R.B. Baker, L.B. McCullough. Cambridge, 2009. P. 589–594; The Crimes of Unit 731 // URL: https://www.nytimes.com/1995/03/18/opinion/thecrimes-of-unit-731.html (дата обращения: 03.07.2023).
30 Harris Sh.H. Japanese Biological Warfare Research on Humans: A Case Study of Microbiology and Ethics // Annals of the New York Academy of Sciences. Vol. 666. The Microbiologist and Biological Defense Research: Ethics, Politics and International Security. 1992. December. P. 21–52; Idem. Factories of Death: Japan’s Secret Biological Warfare Projects in Manchuria and China 1932–45. London; New York, 1993; Idem. Factories of Death: Japanese Biological Warfare, 1932–45 and the American Cover-Up. New York, 1994; Idem. Japanese Biomedical Experimentation During the World-War-II Era // Military Medical Ethics. Vol. 2. Washington, 2003. P. 463–506.
31 Китайская газета о судебном процессе по делу бывших военнослужащих японской армии // Тихоокеанская звезда. 3.I.1950. С. 4.
32 Китайская печать о Хабаровском процессе японских венных преступников // Тихоокеанская звезда. 8.I.1950. С. 4.
33 Нота правительства СССР правительствам США, Великобритании и Китая // Правда. 3.II.1950. С. 4.
34 Там же.
35 Отклики в Японии на судебный процесс над бывшими военнослужащими японской армии // Тихоокеанская звезда. 3.I.1950. С. 4.
36 Brackman A.C. The other Nuremberg: the untold story of the Tokyo war crimes trials. New York, 1987; Williams P., Wallace D. Unit 731: Japan’s secret biological warfare in World War II. New York, 1989.
37 Тихоокеанская звезда. 16.II.1950. С. 4.
38 Там же.
39 Газета «Акахата» о судебном процессе в Хабаровске по делу бывших военнослужащих японской армии // Суворовский натиск. 3.I.1950. С. 4.
40 Там же.
41 Из архива Г. Пермякова «Зона смерти» // Тихоокеанская звезда. 11.II.2000. С. 6.
42 Обвинительное заключение // Красное знамя. 25.XII.1949. С. 4.
43 Рогаль Н. Указ. соч. С. 120.
44 Судебный процесс по делу бывших военнослужащих японской армии, обвиняемых в подготовке и применении бактериологического оружия // Красное знамя. 27.XII.1949. С. 5.
45 Цит. по: Богач В.В., Беседнова Н.Н. Указ. соч. С. 188.
46 Японские военнопленные в СССР. 1945–1956 / сост. В.А. Гаврилов, Е.Л. Катасонова. М., 2013; «Дальневосточный Нюрнберг». Документальная летопись Хабаровского процесса / отв. ред. А.В. Васильев. М., 2021.
47 ГАХК. Ф. П. 35. Оп. 3. Д. 236. Л. 1.
48 Там же. Л. 3.
49 Там же. Л. 14.
50 Там же. Л. 17.
51 Там же. Л. 9, 11.
52 Пермяков Г.Г. Токийский процесс и Хабаровск: воспоминания переводчика и участника судебного процесса над военными преступниками Японии в Токио в 1946 г. // Дальневосточный ученый. 2005. № 17. С. 6.
53 Там же. С. 7.
54 Пермяков Г.Г. 170 генералов // Тихоокеанская звезда. 15.II.2000. С. 7.
55 ГАХК. Ф. П. 35. Оп. 3. Д. 236. Л. 71.
56 Цит. по: Богач В.В., Беседнова Н.Н. Указ. соч. С. 193.
57 Советский иммунолог и микробиолог, руководитель экспертной комиссии, действительный член Академии медицинских наук СССР.
58 Цит. по: Богач В.В., Беседнова Н.Н. Указ. соч. С. 193.
59 Красное знамя. 27.XII.1949. С. 4.
60 Из архива Г. Пермякова «Зона смерти»…
61 Тихоокеанская звезда. 4.I.1950. С. 2.
62 Рогинский М.Ю., Розенблит С.Я., Смирнов Л.Н. Указ. соч. С. 35.
63 Нагишкин Д. Ямада и другие // Суворовский натиск. 29.XII.1949. С. 4.
64 Там же. С. 5.
65 Один из организаторов подготовки специальных экспедиций в Центральный Китай для боевого применения бактериологического оружия.
66 Красное знамя. 27.XII.1949. С. 4.
67 Из архива Г. Пермякова «Зона смерти»…
68 Рогаль Н. Указ. соч. С. 117.
69 Там же. С. 120.
About the authors
O. S. Nagornykh
Privolzhsky Research Medical University
Author for correspondence.
Email: aldan12@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-1520-1502
Scopus Author ID: 57202028493
ResearcherId: AAO-4811-2021
кандидат исторических наук, доцент
Russian Federation, Nyzhny NovgorodN. P. Shok
Privolzhsky Research Medical University
Email: Shok.nataliya@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-0713-7507
Scopus Author ID: 57193203383
ResearcherId: K-6360-2016
доктор исторических наук, профессор
Russian Federation, Nyzhny NovgorodReferences
- “Dal’nevostochnyj Nyurnberg”. Dokumental’naya letopis’ Habarovskogo processa [“Far Eastern Nuremberg”. Documentary chronicle of the Khabarovsk trial] / otv. red. A.V. Vasil’ev. Moskva, 2021. (In Russ.)
- Akiyama H. Osobyj otryad 731 [Special Detachment 731] / per. s yapon. M.A. Guseva, V.A. Zlomanova i dr. Moskva, 1958. (In Russ.)
- Aleksandrov G.N. Nyurnberg vchera i segodnya. Moskva, 1971. (In Russ.)
- Alepko A.V. Habarovskij process 1949 goda i nechelovecheskie eksperimenty nad lyud’mi v bakteriologicheskom otryade № 731 yaponskoj Kvantunskoj armii [Khabarovsk trial of 1949 and inhuman experiments on people in the bacteriological detachment № 731 of the Japanese Kwantung army] // Kul’tura i nauka Dal’nego Vostoka [Culture and Science of the Far East]. 2019. № 1 (26). S. 63–70. (In Russ.)
- Bogach V.V., Besednova N.N. Bioterrorizm: mify i real’nost’ [Bioterrorism: myths and reality]. Habarovsk, 2003. (In Russ.)
- Bogach V.V., Ivanov L.I., Ivanov N.A. Rabota komissii ekspertov-medikov na sudebnom processe po delu byvshih voennosluzhashchih yaponskoj armii, obvinyaemyh v podgotovke i primenenii bakteriologicheskogo oruzhiya [The work of the commission of medical experts at the trial of former servicemen of the Japanese army accused of preparing and using bacteriological weapons] // Dal’nevostochnyj medicinskij zhurnal [Far Eastern Medical Journal]. 2004. № 4. S. 106–110. (In Russ.)
- Bondarenko E. Yu. Sud’by plennyh. Tokijskij i Habarovskij mezhdunarodnye processy nad yaponskimi voennymi prestupnikami i posledstviya [The fate of prisoners. Tokyo and Khabarovsk international trials of Japanese war criminals and their consequences] // Rossiya i ATR [Russia and the Asia-Pacific region]. 1993. № 1. S. 117–123. (In Russ.)
- Bruks D. “Lyudej, kotorye ne chitayut gazet, nado moral’no ubivat’ na meste” [“People who don’t read newspapers should be morally killed on the spotˮ] // Sovetskaya vlast’ i media. Sbornik statej pod obshchej redakciej Hansa Gyuntera i Sabiny Hensgen [Soviet power and the media] / pod red. H. Gyuntera, S. Hensgen. Sankt-Peterburg, 2006. S. 228–242. (In Russ.)
- Dubrovskij D. Tokijskij process [Tokyo process] // Dal’nij Vostok [Far East]. 1949. № 1. S. 108–114. (In Russ.)
- Grojs B. Fotografiya v kontekste teksta. Photography in the context of the text // Sovetskaya vlast’ i media [The Soviet government and the media] / pod red. H. Gyuntera, S. Hensgen. Sankt-Peterburg, 2006. S. 217–228. (In Russ.)
- Kuznecov D.V. Habarovskij process [Khabarovsk trial] 1949 g. // URL: kuznetsov.ucoz.org/publications/khabarovskij_process_1949_goda.doc (access date: 20.07.2023). (In Russ.)
- Kuznecov D.V. Oruzhie d’yavola: razrabotka i primenenie oruzhiya massovogo unichtozheniya vo vremya agressii YAponii protiv Kitaya [The Devil’s Weapon: Development and use of Weapons of Mass destruction during Japan’s Aggression against China] (1931–1945 gg.). Blagoveshchensk, 2019. (In Russ.)
- Materialy sudebnogo processa po delu byvshih voennosluzhashchih yaponskoj armii, obvinyaemyh v podgotovke i primenenii bakteriologicheskogo oruzhiya [Materials of the trial in the case of former servicemen of the Japanese army accused of preparing and using bacteriological weapons]. Moskva, 1950. (In Russ.)
- Militaristy na skam’e podsudimyh. Po materialam Tokijskogo i Habarovskogo processov [Militarists in the dock. Based on the materials of the Tokyo and Khabarovsk processes]. Moskva, 1985. (In Russ.)
- Morimura S. Kuhnya d’yavola [The Devil’s Kitchen]. Moskva, 1983. (In Russ.)
- Permyakov G.G. Tokijskij process i Habarovsk: vospominaniya perevodchika i uchastnika sudebnogo processa nad voennymi prestupnikami Yаponii v Tokio v 1946 g. [Tokyo trial and Khabarovsk: memoirs of a translator and participant in the trial of Japanese war criminals in Tokyo in 1946] // Dal’nevostochnyj uchyonyj [Far Eastern Scientist]. 2005. № 17. S. 6–7. (In Russ.)
- Rogal’ N. Yaponskie voennye prestupniki i ih amerikanskie pokroviteli [Japanese war criminals and their American patrons] // Dal’nij Vostok [Far East]. 1950. № 2. S. 115–123. (In Russ.)
- Roginskij M. Yu. Militaristy na skam’e podsudimyh: po materialam Tokijskogo i Habarovskogo processov [Militarists in the dock: based on the materials of the Tokyo and Khabarovsk trials]. Moskva, 1985. (In Russ.)
- Roginskij M. Yu., Rozenblit S.YA., Smirnov L.N. Bakteriologicheskaya vojna — prestupnoe orudie imperialisticheskoj agressii: Habarovskij process yaponskih voennyh prestupnikov [Bacteriological war — a pre-stage instrument of imperialist aggression: Khabarovsk trial of Japanese war criminals]. Moskva, 1950. (In Russ.)
- Romanova V.V. Ot Tokijskogo suda k Habarovskomu: iz istorii podgotovki sudebnogo processa nad yaponskimi voennymi prestupnikami-bakteriologami [From the Tokyo court to Khabarovsk: from the history of the preparation of the trial of Japanese war criminals-bacteriologists] // Istoriya mediciny [History of Medicine]. 2015. T. 2. № 1. S. 72–82. (In Russ.)
- Romanova V.V. Otryad 731 [Detachment 731] // Rodina [Rodina]. 2015. № 12. S. 116–120. (In Russ.)
- Rudakov D.P., Stepanova E.A. YAponskaya voenno-biologicheskaya programma v 1932–1945 gg. [The Japanese military biological program in 1932–1945] // Voenno-istoricheskij zhurnal [Military Historical Journal]. 2015. № 10. S. 47–52. (In Russ.)
- Supotnickij M.V. Chuma ot d’yavola v Kitae [The plague from the devil in China] (1933–1945) // Ocherki istorii chumy: v 2-h kn. Kn. 1. Chuma dobakteriologicheskogo perioda [Essays on the history of the plague: in 2 vols. Vol. 1. The plague of the pre-bacterial period]. Moskva, 2006. (In Russ.)
- Tupicyn A.V. Habarovskij process 1949 goda [Khabarovsk trial of 1949] // Nauchnyj al’manah [Scientific almanac]. 2018. № 11-3 (49). S. 183–186. (In Russ.)
- Yaponskie voennoplennye v SSSR. 1945–1956. Sbornik dokumentov [Japanese prisoners of war in the USSR] / sost. V.A. Gavrilov, E.L. Katasonova. Moskva, 2013. (In Russ.)
- Zvyagincev A.G. Bez sroka davnosti...: k 70-letiyu Nyurnbergskogo voennogo tribunala [No statute of limitations...: on the 70th anniversary of the Nuremberg Military Tribunal]. Moskva, 2016. (In Russ.)
- Zvyagincev A.G. Veter vozmezdiya. Uroki Tokijskogo mezhdunarodnogo voennogo tribunal [The Wind of Retribution. Lessons of the Tokyo International Military Tri-Bunal]. Moskva, 2019. (In Russ.)
- Brackman A.C. The other Nuremberg: the untold story of the Tokyo war crimes trials. New York, 1987.
- Chinese Central Archive. Selected Archival Materials of Japanese Imperialist Aggression against China: Biological Warfare and Poison Gas Warfare. Beijing, 1989.
- Documents relatifs au proces des anciens Militaires e l’armee Japonaise accuses d’avoir prepare et employ l’Arme Bacteriologique. Moscou, 1950.
- Harris Sh.H. Factories of Death: Japanese Biological Warfare, 1932–45 and the American Cover-Up. New York, 1994.
- Harris Sh.H. Factories of Death: Japan’s Secret Biological Warfare Projects in Manchuria and China 1932–45. London; New York, 1993.
- Harris Sh.H. Japanese Biological Warfare Research on Humans: A Case Study of Microbiology and Ethics // Annals of the New York Academy of Sciences. Vol. 666. The Microbiologist and Biological Defense Research: Ethics, Politics and International Security. 1992 December. P. 21–52.
- Harris Sh.H. Japanese Biomedical Experimentation During the World-War-II Era // Military Medical Ethics. Vol. 2. Washington, 2003. P. 463–506.
- Materials on the Trial of Former Servicemen of the Japanese Army Charged with Manufacturing and Employing Bacteriological Weapons. Moscow, 1950.
- Nie J., Tsuchiya T., Li L. Japanese Doctors’ Experimentation, 1932–1945, and Medical Ethics // The Cambridge World History of Medical Ethics / eds R.B. Baker, L.B. McCullough. Cambridge, 2009. P. 589–594.
- Polunina V. From Tokyo to Khabarovsk: Soviet War Crimes Trials in Asia as Cold War Battlefields // War Crimes Trials in the Wake of Decolonization and Cold War in Asia, 1945–1956. Justice in Time of Turmoil / ed. K. von Lingen. Cham, 2016.
- Prozessmaterialien in der Strafsache gegen ehemalige Angehorige der Japanischen Armee wegen Vorbereitung und Anwendung de Bakterienwaffe. Moskau, 1950.
- The Crimes of Unit 731 // URL: https://www.nytimes.com/1995/03/18/opinion/thecrimes-of-unit-731.html (access date: 20.07.2023).
- Tsuchiya T. The Imperial Japanese Experiments in China // The Oxford Textbook of Clinical Research Ethics / eds J. Ezekiel, E.J. Emmanuel et al. Oxford, 2008. P. 31–45.
- Williams P., Wallace D. Unit 731: Japan’s secret biological warfare in World War II. New York, 1989.
- 前日本陆军军人因准备和使用细菌武器被控案审判材料. 莫斯科,1950.
- 細菌戦用兵器ノ準備及ビ使用ノ廉デ起訴サレタ元日本軍軍人ノ事件ニ関スル公判書. 外国語図書出版所, 1950.
- 세균 무기를 준비하고 사용한다고 비난받은 일본 육군의 전 군인의 재판 자료. 모스크바, 1950.
Supplementary files