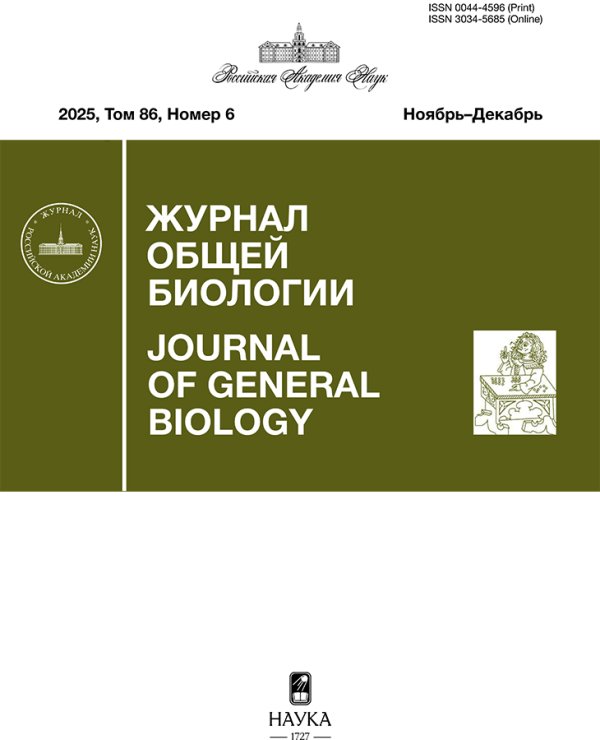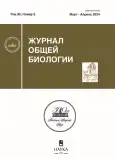Reaction of the movement of hydroplasma in the colony to a prolonged thermal shock and subsequent recovery at the optimal temperature in Dynamena pumila (L., 1758)
- Authors: Marfenin N.N.1, Dementyev V.S.1, Nikolaev E.V.1
-
Affiliations:
- Lomonosov State University
- Issue: Vol 85, No 2 (2024)
- Pages: 124-136
- Section: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/0044-4596/article/view/262614
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044459624020051
- EDN: https://elibrary.ru/vvjjkj
- ID: 262614
Cite item
Full Text
Abstract
It was previously established that the movement of hydroplasma in many species of hydroids is not unidirectional, but pulsates in opposite directions in the common tube-like body (coenosarc) of the colonial organism. However, this pulsating reversible distribution system is effective in moving food particles. We studied the impact of a sharp increase in environmental temperature and a five-day thermal shock on the performance indicators of the distribution system of the colonial hydroid Dynamena pumila: the period and regularity of hydroplasma pulsations, range of movement, growth, coenosarc pulsations, etc. After an abrupt increase of 10 °C in the temperature of the water in which the colonies of the hydroid were kept in the laboratory within several hours, the activity of the distribution system increased (the frequency and amplitude of hydroplasma pulsations and the extent of flows), but already on the second day the growth of colonies stopped, and the coenosarc pulsations of hydroplasma flows became irregular with significant pauses. On the fifth day of thermal shock, the movement of hydroplasma stopped. Within a day after the cessation of the thermal shock, pulsatory movements of hydroplasma in the stolons resumed, and two days later they almost returned to normal, except for the insufficient extent to move food throughout the colony. During this time, the growth of the colonies has not yet recovered. The reaction of hydroplasmic movements in the stolons of D. pumila turned out to be advanced compared to morphological indicators and growth. Thanks to this, it becomes possible to more accurately and quickly determine the body’s response to an increase in ambient temperature.
Full Text
У колониальных гидроидов, представляющих собой один из вариантов модульных организмов, единая полость тела, которая называется гастроваскулярной, объединяет все побеги и гидранты на них (Наумов, 1960; Марфенин, 1993а; Анцулевич, 2015). Жидкость, заполняющая эту полость — гид- роплазма — время от времени перемещается, перенося частички пищи. У многих видов гидроидов гидроплазматические течения (ГПТ) возникают ненадолго. Внутри гастроваскулярной полости ГПТ могут быть направлены дистально (к верхушкам столонов или побегов) или же проксимально (от верхушек столонов или побегов). Направления ГПТ непостоянны, равно как и их скорость. Между отдельными ГПТ могут быть интервалы покоя различной продолжительности (Марфенин, 1985а; Марфенин, Дементьев, 2019).
Перемещения гидроплазмы вызваны пульсация- ми гидрантов и ценосарка — тела колониального организма. Множество пульсаторов не скоординированы между собой. Тем не менее регистрация ГПТ выявляет их ритмичность, которая может быть выражена строго или же с отклонениями от среднего значения возникновения однонаправленных ГПТ (Марфенин, 1985а, 1993а). Графики динамики скорости ГПТ отражают состояние колониального организма, в частности его реакцию на изменение факторов среды, таких как температура. Поэтому мы использовали регистрацию ГПТ в колониях гидроидов для определения температурных пределов вида, влияния опреснения на рост колоний, способности выдерживать непродолжительные осушения, изменения интегрирующей функции распределительной системы в зависимости от факторов среды (Марфенин, Дементьев, 2018б; Дементьев, Марфенин, 2018, 2019, 2021) и пр.
Цель исследования. В данном исследовании нас интересовала возможность гидроида адаптироваться к повышенной температуре воды во время продолжительного термошока. Кроме того, мы хотели выяснить, насколько моментальная реакция распределительной системы на изменение температуры воды информационно значима и отражает ли эта реакция последующее состояние колонии, хотя бы в течение нескольких суток.
В данной статье приведены результаты изучения реакции роста, пульсаций тела колонии у Dynamena pumila (L., 1758) при повышении температуры воды с 14—15 до 24—25 оС, а также последующего понижения температуры до нормального значения 15 оС.
Подобных исследований на гидроидах ранее было выполнено мало. Все они были разрозненными и давали лишь общее представление о реакции колоний на небольшое повышение температуры воды (Kinne, 1964, 1971; Kinne, Paffenhöfer, 1965, 1966; Бурыкин, 1980; Лабас и др., 1981; Boero, 1984; Карлсен, Марфенин, 1988). Лишь в последнее время было проведено исследование моментальной реакции колониального гидроида D. pumila на различное повышение температуры и было установлено, что 25 оС — предельная температура, при которой гидроид не погибал (Дементьев, Марфенин, 2019).
Реакция на экстремальное повышение температуры среды для большинства видов не известна (Poloczanska et al., 2016; Moron et al., 2020). В немногочисленных исследованиях была определена критическая температура для ряда видов, при которой наступал летальный исход (Evans, 1948), однако воздействие экстремально высокой температуры было непродолжительным. Как быстро проявляются изменения в жизнедеятельности при продолжительном повышении температуры? Насколько эти реакции жизнедеятельности обратимы? Возможна ли адаптация к экстремальным условиям существования? Эти и подобные вопросы имеют прямое отношение к прогнозу реакции экосистем на возможное потепление климата.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объект исследования. Для исследования выбран колониальный гидроид Dynamena pumila (L., 1758) — представитель семейства Sertulariidae отряда Leptothecata класса Hydrozoa. На этих гидроидах было ранее проведено немало исследований роста, интеграции колонии, питания и т.д. (Марфенин, 1993б, 2016).
Морфология колоний. Колониям D. pumila свойственны стелющиеся по субстрату нитевидные столоны. От них примерно на равных расстояниях друг от друга (в среднем 3 мм) отходят побеги с двурядным супротивным расположением гидрантов в гидротеках (рис. 1). Новые побеги образуются в пределах верхушки столона, но никогда не между побегами. Зоны роста расположены проксимально от верхушки столона или побега на расстоянии примерно 0.3 мм от апикального конца столона / побега.
Рис. 1. Рисунок короткой колонии Dynamena pumila (L., 1758), выращенной из побега, взятого от большой колонии. Обозначения: 1 — верхушка роста побега; 2 — модуль побега, включающий два гидранта в гидротеках; 3 — гидрант с расправленным венчиком щупалец; 4 — гидрант, поглощающий науплия рачка; 5 — столон; 6 — верхушка роста столона.
Сбор колоний в море. Колонии D. pumila обитают на границе литорали и сублиторали. Их можно найти на Fucus, Ascophyllum и камнях. Материал был собран в плотной популяции D. pumila на Еремеевском пороге (66о33.3′ с.ш., 33о08′ в.д.) в проливе Великая Салма Кандалакшского залива Белого моря вблизи Беломорской биологической станции им. Н.А. Перцова Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, на которой проведено данное исследование.
Во время фазы малой воды 2 июня 2022 г. на Еремеевском пороге был выбран один куст Fucus serratus с чистыми, слабо обросшими колониями D. pumila, а из них отсечены побеги среднего размера, т.е. от 13 до 20 междоузлий ствола побега. Побеги закреплены поодиночке под поперечными нитями на стеклах по методике, описанной ранее (Crowell, 1957; Fulton, 1960, 1962; Марфенин, Дементьев, 2017).
Культивирование колоний. Исследование проведено на колониях, выращенных из отдельных побегов, которые были помещены на предметные стекла или на “фотостекла” 1 (размером 9 × 12 см). Все колонии включали кроме первоначального побега еще короткий столон менее 10 мм в длину и на нем один-два молодых побега (рис. 2). Такие колонии мы называем ювенильными, противопоставляя их разветвленным развитым колониям с множеством столонов и побегов.
Рис. 2. Схемы вторичных (выращенных из отдельных побегов) колоний Dynamena pumila в начале эксперименте (06.07.2022). Справа от схем номера колоний. Обозначения: под столонами указана длина модулей (междоузлий между побегами) в миллиметрах. Над столонами номера модулей от верхушки роста (ВР) к первому (материнскому) побегу. Число пар гидрантов на стволах и ветвях побегов обозначены поперечными черточками. Черные кружки — активные гидранты, белые кружки — рассасывающиеся гидранты, отсутствие кружков — пустые гидротеки без гидрантов. Над побегами указано число модулей (пар гидротек) и стадия верхушки побега при формировании модуля побега в последовательности: о → ˄ → ˅ → Т → П.
Стекла с прикрепленными к ним побегами D. pumila были помещены в десятилитровый аквариум, размещенный в большом непрозрачном контейнере, заполненном водой. Воду с помощью помпы (300 л/ч) постоянно прогоняли через проточный холодильник (Resun CL-200). Так в контейнере с аквариумами поддерживалась заданная температура 14—15 оС, соответствующая температурному диапазону от 10 до 20 оС, оптимальному для быстрого роста данного вида (Дементьев, Марфенин, 2019). С помощью микрокомпрессора воду в аквариуме постоянно аэрировали, в основном для того, чтобы приводить ее в движение, имитируя течение.
Колонии ежедневно кормили в течение одного часа в отдельном кормовом аквариуме свежевылупившимися науплиями Artemia salina. Воду в аквариуме ежедневно обновляли, а аквариум промывали пресной водой, перед тем как заполнить морской водой. В свежую воду добавляли науплиусы Artemia. После кормления концентрация науплиев составляла 0.6—1.7 экз./мл.
Через несколько дней после начала культивирования от основания отсеченных побегов, которые мы называем материнскими, начинался рост столонов, которые стелились по поверхности субстрата, крепко к нему прикрепляясь. Еще через день-два на столонах появлялось по одному дочернему побегу. Не все колонии подходили для подробного исследования. Прежде всего, они различались между собой по размерам, зависящим от даты начала роста столонов. Однако все выращенные колонии участвовали в эксперименте. Из них в случае необходимости можно было выбрать замену для поврежденной колонии.
Количество колоний в эксперименте. Наш опыт многолетних исследований дает основание считать, что выборки при изучении роста, рассасывания, функционирования распределительной системы должны быть небольшими, для того чтобы иметь возможность индивидуально анализировать исследуемые процессы в каждой колонии, наряду со статистической обработкой. Модульные и особенно разветвленные организмы отличаются друг от друга несопоставимо больше, чем унитарные (одиночные). Эти различия не ограничены возрастом и факторами среды. Например, интенсивность ветвления побегов и столонов влияет на скорость роста и характер функционирования распределительной системы. Не меньшее влияние оказывают и процессы рассасывания гидрантов, зависящие от комплекса обстоятельств. Поэтому во время исследования надо стремиться не к увеличению выборки и ограничению параметров, а к комплексному индивидуальному рассмотрению множества показателей на примере оптимального количества особей. Такой подход называется идиографическим (Марфенин, Дементьев, 2022). В эксперименте первоначально было пять колоний D. pumila, но по ходу опыта одна колония выбыла, а вторую удалось в первые дни эксперимента заменить идентичной. Ограничение числа колоний позволяет проводить при необходимости замены, так как все результаты отслеживаются и сравниваются между собой по каждой колонии в отдельности, а не только усредненно. Таким образом, идиографический подход расширяет возможности статистической обработки количественных данных, особенно при отслеживании изменений, происходящих с объектами в ходе мониторинга.
Методика картирования колоний. После выбора колоний для эксперимента начиналась регистрация их размеров: длины столона, числа побегов, величины побегов (выраженной в числе междоузлий — пар гидротек), образования боковых ветвей столона, числа активных гидрантов, рассасывания гидрантов и участков ценосарка материнского побега. Все эти показатели получали с помощью простой методики “картирования” колоний под бинокуляром (Марфенин, 1980), т.е. составления схем колоний, на которые заносятся измерения и подсчеты (рис. 1).
Методика цейтраферной микровидеосъемки. Для регистрации показателей жизнедеятельности колоний D. pumila использовали цейтраферную микровидеосъемку. Для этого видеокамеру Arecont AV3100M закрепляли на тубусе микроскопа и подключали к персональному компьютеру. Съемку проводили покадрово с частотой 4 кадра/сек. На рабочий столик микроскопа помещали прозрачную кювету с двойными стенками и дном. Внутренний объем — это рабочее пространство, заполненное свежей морской водой для помещения стекла с колониями и проведения съемки, а внешнее пространство между двумя стенками и двумя днищами использовали для постоянного протока воды определенной температуры, которую прогоняли помпой через проточный холодильник. Учитывая размеры кюветы, удобнее всего использовать самый простой микроскоп МБИ-1 с прямым тубусом, на котором закреплена видеокамера. Для освещения объекта использовали отдельный осветитель, луч которого направляли в поле зрения через зеркало. Это помогало избегать перегревания рабочей зоны съемки. Для микроскопирования использовали десятикратный объектив микроскопа без окуляра. За счет тубуса общее увеличение было примерно двухсоткратное. Перед съемкой объекта проводили съемку масштабной микролинейки, по которой проводили калибровку экранной линейки для последующих измерений при камеральной обработке видеозаписей.
Благодаря цейтраферной съемке можно регис- трировать: 1) рост верхушки столона, 2) пульсации верхушки и 3) стенок ценосарка в любом прозрачном месте столона, а также 4) перемещение частичек в гастроваскулярной полости столона, которые переносятся гидроплазмой (внутренней жидкостью, заполняющей полость).
Пульсации ценосарка могут быть экспресс-индикаторами состояния колониального организма гидроидов. Наиболее чувствительные и надежные среди всех показателей пульсаций ценосарка — ростовые пульсации (РП), т.е. регулярные поочередные выпячивания и сокращения терминального конца верхушки столонов или побегов (Марфенин, Дементьев, 2018а). В норме ростовые пульсации ритмичны и могут быть охарактеризованы несколькими показателями, в том числе периодом, амплитудой и приростом за один цикл пульсации. Хотя эти показатели не остаются строго постоянными, они тем не менее удобны для сравнения, в том числе графического. На графиках ростовых пульсаций ясно видны различия в деталях. Из них можно извлечь больше информации, чем от усреднения, но для этого надо анализировать ростовые пульсации индивидуально по колониям.
Расшифровку видеозаписей производили следующим образом. Для того чтобы регистрировать процессы в ускоренном режиме, соответствующем полуминутному интервалу, каждые 30 сек экранной микролинейкой осуществляли измерения на мониторе компьютера трех показателей: 1) положения апикального края верхушки столона, 2) величины просвета ценосарка и 3) смещения любых отчетливых частиц в полости колонии в пределах поля зрения2.
Статистическая обработка. В основном при обработке первичных данных мы ограничивались показателями средних значений и отклонениями от среднего. Поскольку распределение количественных данных нередко отличается от нормального, мы применяли непараметрическую статистику, используя медиану (Ме) и квартили Q1 (25%) и Q2 (75%). Достоверность различия между сравнивае- мыми выборками определяли по U-критерию Манна–Уитни.
Терминология и параметры. В тексте статьи используются несколько малоизвестных терминов и параметров, а именно:
Колониальный организм — обычно называется колонией, но термин “колония” полисемантичный, его используют и для обозначения колонии чаек или пчел, и для обозначения модульных колониальных беспозвоночных (гидроидов, кораллов, мшанок и др.), тогда как модульные организмы не являются сообществом особей. Однако термин “колония” настолько закрепился, что его используют чаще, чем “колониальный организм”. В данной статье эти термины используются нами как синонимы.
Модуль побега — часть побега, включающая у D. pumila две супротивно расположенные гид- ротеки и участок ствола между ними. Границы между модулями условны и “привязаны” к самым узким местам на побеге между парами гидротек.
Модуль столона — часть столона между двумя последовательными побегами.
Верхушка роста (ВР) — апикальная (терминальная) часть ценосарка побега или столона, благодаря пульсациям которой происходит продвижение столона вперед. Верхушки роста морфологически отличаются от трубчатого ценосарка, который они венчают.
Прирост за цикл пульсации — расстояние, на которое верхушка роста продвигается вперед за каждый цикл продольной пульсации.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассмотрим динамику функционального состояния колоний по ходу эксперимента.
Изменение ГПТ при повышении температуры с 15 до 24 оC
На графиках скорости ГПТ (рис. 3) хорошо различима некая ритмика, периодичность. Эти периоды далеки от идеальных с неизменной продолжительностью между пиками, однако появление мощных ГПТ, отличающихся большой максимальной скоростью, продолжительностью и значительным объемом перенесенной ими гидроплазмы течений, не выглядит хаотичным, а происходит с некоторой периодичностью.
Рис. 3. Динамика скорости гидроплазматических течений у четырех колоний D. pumila при 14 оС (06.07.22) и после повышения температуры морской воды до 25 оC (07.07.22) (первые сутки термошока). Продолжительность съемки 1.5 ч каждая. По оси Х отложено время с начала видеорегистрации.
07.07.22. При повышении температуры с 14—15 до 24 оC период ГПТ достоверно (p < 0.01) уменьшился более чем в 2 раза, а амплитуда пульсаций ГПТ возросла в 1.5 раза (табл. 1). Уменьшение периода ГПТ произошло в каждой из четырех колоний D. pumila (рис. 3). Если усреднение позволило выявить преобладающую тенденцию к снижению периода ГПТ, то индивидуальный анализ колоний обнаружил существенные вариации в пульсациях ГПТ при 14 оC, т.е. в контроле, и уменьшение вариабельности сразу после повышения температуры воды.
Таблица 1. Динамика показателей течений гидроплазмы (ГПТ) в столоне четырех колоний D. pumila в ходе эксперимента с изменением температуры воды (14оС → 25оС → 15оС). Показатели периода и амплитуды к верхушке столона, протяженности и продолжительности (+)ГПТ представлены как медианы (Me) и квартили (Q1 = 25% и Q3 = 75%); показатель объема гидроплазмы, перенесенной (+)ГПТ, представлен как сумма перенесенной гидроплазмы во всех колониях за час; соотношения фаз пульсаций ГПТ к верхушке столона (+)ГПТ, от верхушки столона (–)ГПТ и покоя представлены в процентном соотношении по четырем колониям совместно. Светло-серым фоном выделены столбцы с данными за период пребывания колоний при температуре 25 оC, темно-серым — строчки с показателем Ме
Дата | 06.07.22 | 07.07.22 | 08.07.22 | 09.07.22 | 10.07.22 | 11.07.22 | 12.07.22 | 13.07.22 | 14.07.22 | 15.07.22 | 16.07.22 | |
Температура, оС | 13.9 | 23.3 | 25.1 | 24.4 | 24.7 | 24.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | |
Период (+)ГПТ, мин | Me | 17.2 | 8.0 | 8.0 | 7.3 | 21.7 | 13.5 | 12.0 | 10.7 | 12.5 | 10.5 | 13.5 |
Q1 | 11.1 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 10.2 | 11.7 | 8.4 | 9.0 | 9.5 | 12.5 | |
Q3 | 18.9 | 9.0 | 9.0 | 11.1 | 37.0 | 17.5 | 17.0 | 11.9 | 20.5 | 15.0 | 17.5 | |
Амплитуда (+)ГПТ, мкм/с | Me | 51.2 | 73.8 | 25.8 | 21.9 | 12.5 | 11.8 | 25.1 | 26.1 | 26.4 | 36.9 | 19.5 |
Q1 | 28.5 | 50.1 | 20.0 | 15.3 | 12.5 | 9.7 | 13.9 | 19.1 | 16.7 | 31.7 | 13.9 | |
Q3 | 71.2 | 107.2 | 40.4 | 37.2 | 20.4 | 13.2 | 32.0 | 38.8 | 42.5 | 42.8 | 33.4 | |
Продолжительность (+)ГПТ, мин | Me | 2.5 | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 |
Q1 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | |
Q3 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | |
Протяженность (+)ГПТ, мкм | Me | 3654 | 5367 | 1503 | 1275 | 1035 | 396 | 1962 | 2328 | 1755 | 2673 | 1608 |
Q1 | 1926 | 3423 | 897 | 813 | 459 | 291 | 1002 | 1482 | 960 | 1953 | 1002 | |
Q3 | 6834 | 7266 | 2214 | 2640 | 1404 | 513 | 2841 | 4119 | 3738 | 3612 | 3258 | |
Суммарный объем гидроплазмы, перенесенной (+)ГПТ за час, млн мкм3 | 42.3 | 378.6 | 59.0 | 38.2 | 4.7 | 0.9 | 23.1 | 106.6 | 89.6 | 103.2 | 82.7 | |
Фаза (+)ГПТ, % | 12.48 | 23.9 | 11.4 | 8.8 | 2.7 | 1.3 | 5.1 | 19.7 | 11.0 | 13.7 | 11.1 | |
Фаза (–)ГПТ, % | 18.29 | 19.2 | 11.4 | 7.7 | 3.0 | 0.0 | 4.9 | 21.3 | 12.4 | 11.6 | 11.1 | |
Фаза покоя (0)ГПТ, % | 69.2 | 56.9 | 77.2 | 83.5 | 94.3 | 98.7 | 90.0 | 59.0 | 76.6 | 74.7 | 77.8 |
На фоне снижения периода ГПТ, т.е. увеличения частоты пульсаций ГПТ, произошло значительное увеличение объема гидроплазмы, перенесенной (+)ГПТ (табл. 1). Продолжительность (+)ГПТ снизилась, а протяженность увеличилась, однако эти изменения по U-критерию Манна–Уитни недостоверны.
Соотношение фаз пульсации ГПТ изменилось. Уменьшилась доля покоя и возросла доля (+)ГПТ, направленных к верхушке столона (табл. 1).
Индивидуальный анализ графиков пульсаций ГПТ (рис. 3) позволяет обнаружить еще несколько закономерностей. Пики на графиках означают, что максимальные скорости ГПТ, как направленных к верхушке столона, так и от нее, непродолжительны. Достигнув максимальной скорости, ГПТ сразу начинают ослабевать и переходят в противоположно направленные (–)ГПТ. Между (+)ГПТ и (–)ГПТ часто нет промежутка покоя.
Нередко пики скорости ГПТ состоят из нескольких пиков, а иногда между однонаправленными пиками есть пауза, т.е. фаза покоя (рис. 3).
По графикам и показателям пульсаций ГПТ видно, что сразу после повышения температуры перемещение гидроплазмы в столоне стало намного более активным, чем в контроле при 14 оC.
08.07.22. Через сутки после повышения температуры среды до 25 оC активность пульсаций ГПТ значительно снизилась (рис. 4, табл. 1). Хотя период пульсаций не изменился по сравнению с предыдущим днем, амплитуда пульсаций уменьшилась почти в 3 раза (p < 0.01), продолжительность (+) ГПТ снизилась более чем в 1.5 раза, протяженность уменьшилась более чем в 3 раза, а суммарный перенесенный (+)ГПТ объем гидроплазмы сократился в 7 раз.
Рис. 4. Динамика скорости гидроплазматических течений у четырех колоний D. pumila на вторые (08.07.22) и третьи (09.07.22) сутки после начала термошока. Продолжительность съемки 1.5 ч каждая. По оси Х время с начала видеорегистрации.
Индивидуальный анализ графиков ГПТ колоний позволяет установить, что периодичность ГПТ через сутки после повышения температуры начала нарушаться, а через двое суток (09.07.22) это нарушение периодичности стало еще сильнее, причем у одной из четырех колоний ГПТ и вовсе прекратились (№ 22—15).
ГПТ при длительном воздействии 25 оC
09.07.22. Через двое суток после повышения температуры воды усредненные характеристики ГПТ изменились незначительно (табл. 1). Все показатели, кроме фазы покоя, стали меньше по сравнению с предыдущим днем, но эти изменения недостоверны. Индивидуальный анализ графиков ГПТ в четырех колониях показал, что элементы ритмичности ГПТ сохранились, но увеличилась протяженность фаз покоя, причем не закономерно. Судя по обобщенным данным (табл. 1), продолжительность покоя возросла в 1.3 раза.
10.07.22. На третьи сутки после повышения температуры воды ГПТ у трех колоний прекратились. Они сохранились лишь в одной колонии, причем преимущественно (–)ГПТ — от верхушки столона в материнский побег (рис. 5). Объем гидроплазмы, перенесенной (+)ГПТ, сократился в 8 раз, а фаза покоя составила 94.3%.
Рис. 5. Динамика скорости гидроплазматических течений у четырех колоний D. pumila на четвертые (10.07.22) и пятые сутки (11.07.22) после начала термошока — повышения температуры морской воды до 25 оC. Продолжительность съемки 1.5 ч каждая. По оси Х время с начала видеорегистрации.
11.07.22. В последний день содержания колоний при 25 оC перемещения гидроплазмы во всех колониях прекратились. Лишь в одной колонии (№ 19—20) время от времени возникали короткие ГПТ, преимущественно от материнского побега в сторону верхушки столона (рис. 5).
К этому дню прекратился рост столонов у всех колоний, а верхушки столонов были втянуты внутрь перисарка (рис. 6). Верхушки столонов уже не контактировали всей своей поверхностью с перисарком, как при нормальном росте, а эпителиальные слои истончились, что свидетельствует о далеко зашедшей их деградации.
Рис. 6. Фотографии верхушек столонов четырех колоний в начале опыта (слева), в конце пятидневной фазы 25 оС (по центру) и в конце пятидневной фазы восстановления при 15 оС (справа). Масштабная линейка 0.1 мм.
Изменение ГПТ при снижении температуры до 15 оC
12.07.22. В первый же день пребывания при 15—16 оC у двух колоний из четырех появились ГПТ (рис. 7). Период неустановившихся пульсаций ГПТ незначительно уменьшился, а амплитуда увеличилась. Возросли продолжительность и протяженность (+)ГПТ. Снизилась доля покоя в ГПТ (табл. 1).
Рис. 7. Динамика скорости гидроплазматических течений у четырех колоний D. pumila в первые (12.07.22) и вторые сутки (13.07.22) восстановления колоний при температуре морской воды до 16 оC. Продолжительность съемки 1.5 ч каждая. По оси Х время с начала видеорегистрации.
13.07.22. Во второй день восстановления у трех колоний из четырех оформились нормальные перио- дичные ГПТ (рис. 7). Период (+)ГПТ оказался не таким, как в начале эксперимента при 14 оC, а меньше в 1.5 раза (р < 0.01) и таким остался в последующие дни. Амплитуда, продолжительность и протяженность (+)ГПТ возросли, но остались существенно ниже аналогичных показателей в первый день эксперимента при 14 оC (табл. 1). В последующие два дня ГПТ не изменились (рис. 8, табл. 1).
Рис. 8. Динамика скорости гидроплазматических течений у четырех колоний D. pumila на третьи (14.07.22) и пятые сутки (16.07.22) восстановления колоний при температуре морской воды до 16 оC. Продолжительность съемки 1.5 ч каждая. По оси Х время с начала видеорегистрации.
16.07.22. В последний день эксперимента, т.е. на пятый день восстановления колоний при 15—16 оC, усредненные показатели мало изменились (табл. 1), но индивидуальный анализ графиков пульсаций выявил некоторое снижение активности ГПТ, что выразилось в появлении промежутков покоя между (+)ГПТ и (–)ГПТ, уменьшении числа мощных ГПТ, достигающих большой скорости, снижении объема гидроплазмы, перемещаемой (+)ГПТ и пр.
К этому дню частично восстановились верхушки столонов (рис. 6), но рост в колониях еще не возобновился, побеги не начали расти, а новые гидранты не восстановились на местах ранее рассосавшихся. Однако упорядоченные ГПТ уже оформились.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проведенные нами ранее исследования (Дементьев, Марфенин, 2019; Марфенин и др., 2023) позволили установить, что колонии D. pumila при быстром повышении температуры воды выдерживают до 25—26 оC, т.е. в них сохраняются гидроплазматические течения (ГПТ). При 27—28 оC ГПТ прекращаются, останавливается рост столонов и побегов и ускоряется рассасывание (дедифференцировка) гидрантов. Реакция колоний в последующие дни (после повышения температуры воды) в процитированных исследованиях не была прослежена.
Результаты эксперимента, представленные в данной статье, подтвердили выводы предыдущих исследований относительно изменения показателей ГПТ при 25 оC и дополнительно показали, что в течение по крайней мере пяти суток колонии не адаптируются к повышенной температуре. Следовательно, метод видеорегистрации ГПТ вполне подходит для тестирования реакции колониальных гидроидов на повышение температуры. Отклонение от нормы параметров ГПТ в первые же часы внешнего воздействия (термошока) отражает долгосрочные, а не временные краткосрочные изменения в функционировании распределительной системы у D. pumila.
При последующем, после пятидневного термошока, снижении температуры воды до исходных значений 14—15 оC возможно восстановление роста колоний (Марфенин и др., 2023), которое осуществляется в течение нескольких дней. Теперь выяснилось, что задолго до появления первых признаков восстановления роста колонии происходит восстановление функционирования распределительной системы (рис. 7, табл. 1).
Восстановление системы ГПТ проявилось в появлении ГПТ, их ритмичности, равномерности пульсаций, значительной протяженности и нормальной продолжительности ГПТ, а также в большом объеме перенесенной одним ГПТ гид- роплазмы (табл. 1).
Для оценки эффективности функционирования восстанавливающейся системы ГПТ надо иметь в виду два обстоятельства. Во-первых, необходимо принять во внимание, что восстановление системы ГПТ произошло еще не в полной мере за пять суток, поскольку амплитуда и протяженность ГПТ остались ниже исходных (06.07.10) почти вдвое (табл. 1). Во-вторых, средней протяженности ГПТ в период восстановления колоний (1.7—2.6 мм) недостаточно для обеспечения переноса частиц пищи к верхушке столона от наиболее удаленной части колонии. Как было показано нами ранее, для обеспечения переноса частиц по колонии достаточно, чтобы ГПТ были более 3 мм по своей протяженности (Дементьев, Марфенин, 2021). За время содержания колоний при 25 оC протяженность ГПТ снизилась до 4 мм (3654 мкм), и тогда перемещения гидроплазмы вовсе прекратились в колониях. Снижение температуры воды до 15 оC сразу же привело к появлению локальных ГПТ, причем средние значения их протяженности возросли в 5 раз. Этого, впрочем, недостаточно для формирования цепочек локальных ГПТ, составляющих совместно “конвейер” транспортировки частиц в полости столона вплоть до верхушек роста.
Протяженное перемещение частиц внутри трубки ценосарка, изолированной от внешней среды и не образующей кольцо, представляется невозможным, так как столб гидроплазмы оказывается в тупике. У некоторых гидроидов ценосарк подразделен на две или более части продольной перегородкой, и гидроплазма может смещаться под воздействием биения жгутиков гастродермы однонаправленно: по одной стороне ценосарка дистально, а по противоположной стороне проксимально (Марфенин, 1985б). Однако у D. pumila, как и у других представителей отряда Leptothecata, ценосарк не подразделен на продольные полутрубки. Гидроплазма не может течь однонаправленно. Она смещается у D. pumila внутри ценосарка на небольшое расстояние за счет пульсаций гидрантов и самого ценосарка. Возникают короткие локальные ГПТ. Перемещение частиц на расстояния, соизмеримые с размером всей колонии, возможно в такой пульсаторной распределительной системе благодаря своеобразной рокировке порциями гид- роплазмы. Находящаяся перед частицей порция гидроплазмы заходит в ближайшее ответвление (обычно в очередной побег), частица прогоняется дальше, а эта порция гидроплазмы выдавливается обратно в столон, но уже после того, как частица прошла вперед (Марфенин, 1985а).
Для успешного однонаправленного и протяженного перемещения частиц в ценосарке необходимо, чтобы локальные ГПТ были не меньше, чем расстояние между соседними разветвлениями ценосарка. У многих гидроидов таковым является расстояние между побегами, отходящими от столона, примерно 3 мм. Поэтому локальных ГПТ менее 3 мм недостаточно для успешного перемещения частиц от одного конца колонии к другому. В нашем случае протяженность локальных ГПТ в начале эксперимента при 14 оC была выше 3 мм, притом что максимальные ГПТ были в 2 раза длиннее (табл. 1), а в первый день воздействия повышенной температуры средняя протяженность ГПТ составила 5367 мкм. Поэтому локальные ГПТ могли складываться в цепочки, достаточные для безостановочного перемещения частиц вплоть до верхушки столона или самого молодого побега, но уже на вторые сутки и позже локальные ГПТ стали слишком короткими, что и привело к разбалансировке системы ГПТ, а фактически — к ее остановке.
При понижении температуры воды 12.07.22 снова возникли перемещения гидроплазмы, но они оставались недостаточно протяженными, чтобы восстановилась полноценная система ГПТ. Верхушки столонов уже начали восстанавливаться (рис. 6). Как только они достигнут нормального размера и станут более объемными, их пульсации уравновесят пульсации на противоположных концах колоний, что будет способствовать увеличению объема перегоняемой гидроплазмы и протяженности локальных ГПТ. Тогда система ГПТ оформится как единое целое, частицы снова будут перемещаться безостановочно на любые расстояния внутри колоний, а пульсации ГПТ станут более стабильными.
ВЫВОДЫ
При скачкообразном повышении температуры воды с 14 до 25 оC перемещение гидроплазмы в колониях гидроида Dynamena pumila сначала активизируется, а через сутки и далее дестабилизируется и прекращается.
В течение пяти суток пребывания колоний при 25 оC не произошло адаптации к повышенной температуре.
После снижения температуры через пять суток до 15 оC гидроплазматические течения сразу восстановились, хотя их мощности еще пять суток не хватало для объединения в единую систему, достаточную для перемещения частиц пищи на трансколониальные расстояния.
Реакция системы гидроплазматических течений на несколько суток опережает восстановление роста столонов и побегов и может быть ранним индикатором состояния колониального организма.
Метод цейтраферной микровидеорегистрации перемещения гидроплазмы в ценосарке колонии может быть использован для экспресс-мониторинга реакции гидроидов на изменения показателей внешней среды.
БЛАГОДАРНОСТИ
Авторы благодарят Беломорскую биологическую станцию им. Н.А. Перцова Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова за предоставленные возможности в проведении исследования.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Исследования проведены в ходе выполнения государственного задания по теме “Адаптивные стратегии в строении, размножении и развитии морских беспозвоночных” № гос. регистрации 121032300118-0 и при финансовой поддержке РНФ, проект № 22-24-00209 “Колониальные гидроиды — индикаторы состояния морской среды”.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ
Биоэтическая экспертиза не требуется, поскольку Директива 2010/63/Eu Европейского парламента и Совета от 22 сентября 2010 г. о защите животных, используемых в научных целях, не распространяется на низших беспозвоночных.
КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
1 Фотопластинки, не покрытые эмульсией.
2 Результаты регистрации скорости перемещения частиц в статье не приведены.
About the authors
N. N. Marfenin
Lomonosov State University
Author for correspondence.
Email: marf47@mail.ru
Faculty of Biology, Department of Invertebrate Zoology
Russian Federation, Leninskiye Gory, 1, Moscow, 119234V. S. Dementyev
Lomonosov State University
Email: marf47@mail.ru
Faculty of Biology, Department of Invertebrate Zoology
Russian Federation, Leninskiye Gory, 1, Moscow, 119234E. V. Nikolaev
Lomonosov State University
Email: marf47@mail.ru
Faculty of Biology, Department of Invertebrate Zoology
Russian Federation, Leninskiye Gory, 1, Moscow, 119234References
- Анцулевич А.Е., 2015. Hydrozoa (гидроиды и гидромедузы) Морей России. СПб.: Изд-во СПбГУ. 859 с.
- Бурыкин Ю.Б., 1980. Регулирующая роль некоторых экологических факторов в процессах роста и интеграции колониальных гидроидов // Теоретическое и практическое значение кишечнополостных. Л.: ЗИН АН СССР. C. 16—19.
- Дементьев В.С., Марфенин Н.Н., 2018. Влияние опреснения на рост, пульсации ценосарка и перемещение гидроплазмы у колониального гидроида Dynamena pumila (L., 1758) // Журн. общ. биологии. Т. 79. № 5. C. 376—392. https://doi.org/10.1134/S0044459618050044
- Дементьев В.С., Марфенин Н.Н., 2019. Воздействие температуры на рост, пульсации ценосарка и перемещение гидроплазмы у колониального гидроида Dynamena pumila (L., 1758) // Журн. общ. биологии. Т. 80. № 1. C. 22—42. https://doi.org/10.1134/S0044459619010032
- Дементьев В.С., Марфенин Н.Н., 2021. Эффективность распределительной системы гидроида Dynamena pumila (L., 1758) при различных абиотических воздействиях // Журн. общ. биологии. Т. 82. № 5. С. 323—336. https://doi.org/10.31857/S0044459621050031
- Карлсен А.Г., Марфенин Н.Н., 1988. Повышение эффективности использования гидроидов при биотестировании: выбор вида, сезона, температурного режима // Изв. АН СССР. Сер. Биол. № 2. С. 198—206.
- Лабас Ю.А., Белоусов Л.В., Баденко Л.А., Летунов В.Н., 1981. О пульсирующем росте у многоклеточных организмов // ДАН СССР. Т. 257. № 5. С. 1247—1250.
- Марфенин Н.Н., 1980. Метод картирования пространственной организации колониальных Hydrozoa и его значение при изучении частей колонии // Теоретическое и практическое значение кишечнополостных. Л.: ЗИН АН СССР. С. 66—69.
- Марфенин Н.Н., 1985а. Функционирование распределительной системы пульсаторно-перистальтического типа у колониальных гидроидов // Журн. общ. биологии. Т. 46. № 2. С. 153—164.
- Марфенин Н.Н., 1985б. Морфофункциональный анализ организации моноподиальных колоний гидроидов с терминально расположенными зооидами на примере Tubularia larynx Ell. et Sol. // Изв. АН СССР. Сер. Биол. № 2. С. 238—247.
- Марфенин Н.Н., 1993а. Феномен колониальности. М.: Изд-во МГУ. 237 с.
- Марфенин Н.Н., 1993б. Функциональная морфология колониальных гидроидов. СПб.: ЗИН РАН. 151 с.
- Марфенин Н.Н., 2016. Децентрализованный организм на примере колониальных гидроидов // Биосфера. Т. 8. № 3. С. 315—337.
- Марфенин Н.Н., Дементьев В.С., 2017. Парадокс протяженных течений гидроплазмы в колониальном гидроиде Dynamena pumila (Linnaeus, 1758) // Журн. общ. биологии. Т. 78. № 4. С. 3—20.
- Марфенин Н.Н., Дементьев В.С., 2018а. Продольные пульсации столона у колониального гидроида Dynamena pumila (Linnaeus, 1758) // Журн. общ. биологии. Т. 79. № 2. С. 85—96.
- Марфенин Н.Н., Дементьев В.С., 2018б. Рост, пульсации ценосарка и перемещение гидроплазмы у колониального гидроида Dynamena pumila (L., 1758) в проточной и непроточной кюветах // Журн. общ. биологии. Т. 79. № 2. С. 97—107.
- Марфенин Н.Н., Дементьев В.С., 2019. К вопросу о протяженности гидроплазматических течений у колониального гидроида Dynamena pumila (L., 1758) // Журн. общ. биологии. Т. 80. № 5. С. 348—363. https://doi.org/10.1134/S0044459619050051
- Марфенин Н.Н., Дементьев В.С., 2022. Влияние потребления пищи на функционирование пульсаторно-реверсивной распределительной системы у гидроидов — идиографический подход // Журн. общ. биологии. Т. 83. № 2. С. 83—105. https://doi.org/10.31857/S0044459622020038
- Марфенин Н.Н., Дементьев В.С., Николаев Е.В., 2023. Выносливость колониального организма к повышению температуры среды в зависимости от его размеров на примере колониального гидрои- да Dynamena pumila (L., 1758) // Rus. J. Ecosyst. Ecol. V. 8. № 3. https://doi.org/10.21685/2500-0578-2023-3-2
- Наумов Д.В., 1960. Гидроиды и гидромедузы морских, солоноватоводных и пресноводных бассейнов СССР. М.; Л.: Изд-во АН СССР. 626 с.
- Boero F., 1984. The ecology of marine hydroids and effects of environmental factors: A review // Mar. Ecol. V. 5. P. 93—118.
- Crowell S., 1957. Differential responses of growth zones to nutritive level, age, and temperature in the colonial hydroid Campanularia // J. Exp. Zool. V. 134. P. 63—90.
- Evans R.G., 1948. The lethal temperatures of some common British littoral molluscs // J. Anim. Ecol. V. 17. № 2. P. 165—173.
- Fulton C., 1960. Culture of a colonial hydroid under controlled conditions // Science. V. 132. P. 473—474.
- Fulton C., 1962. Environmental factors influencing the growth of Cordylophora // J. Exp. Zool. V. 151. № 1. P. 61—78.
- Kinne O., 1964. Non-genetic adaptation to temperature and salinity // Helgolander Wiss. Meeresunters. V. 9. P. 433—458.
- Kinne O., 1971. Salinity: 3. Animals: 1. Invertebrates // Marine Ecology. V. 1. Environmental Factors, part 2 / Ed. Kinne O. L.: Willey. P. 821—995.
- Kinne O., Paffenhöfer G.-A., 1965. Hydranth structure and digestion rate as a function of temperature and salinity in Clava multicornis (Cnidaria, Hydrozoa) // Helgoland Mar. Res. V. 12. № 4. P. 329—341.
- Kinne O., Paffenhöfer G.-A., 1966. Growth and reproduction as a function of temperature and salinity in Clava multicornis (Cnidaria, Hydrozoa) // Helgolander Wiss. Meeresunters. V. 13. P. 62—72.
- Moron L.S.C., Baumeister M., Nour O.M., Wolf F., Stumpp M., Pansch C., 2020. Warming and temperature variability determine the performance of two invertebrate predators // Sci. Rep. V. 10. № 1. https://doi.org/10.1038/s41598-020-63679-0
- Poloczanska E.S., Burrows M.T., Brown C.J., García Molinos J., Halpern B.S., et al., 2016. Responses of marine organisms to climate change across oceans // Front. Mar. Sci. V. 3. Art. 62. https://doi.org/10.3389/fmars.2016.00062
Supplementary files