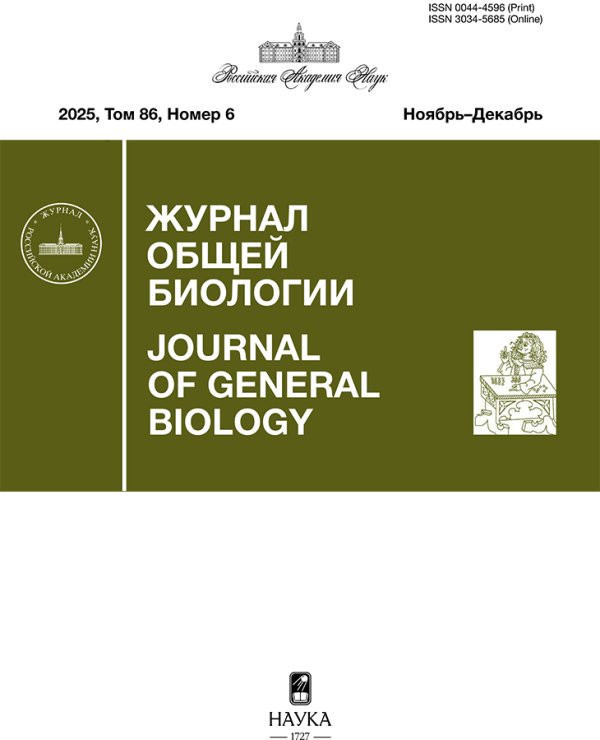Доминанты в растительных сообществах: характер воздействия на биомассу определяет пороги воздействия на локальное видовое богатство
- Авторы: Акатов В.В.1,2, Акатова Т.В.2, Ескина Т.Г.2, Сазонец Н.М.1, Чефранов С.Г.1
-
Учреждения:
- Майкопский государственный технологический университет
- Кавказский государственный природный биосферный заповедник
- Выпуск: Том 85, № 2 (2024)
- Страницы: 95-108
- Раздел: Статьи
- URL: https://bakhtiniada.ru/0044-4596/article/view/262611
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044459624020025
- EDN: https://elibrary.ru/vvvzeb
- ID: 262611
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В соответствии с существующими представлениями достижение состояния доминирования некоторыми видами (в том числе чужеродными и экспансивными) в растительных сообществах может осуществляться путем использования ресурсов других видов (1), таким же способом и дополнительно за счет использования ранее неиспользованных ресурсов (2), так же и дополнительно путем аллелопатии или изменения условий среды (3). Считается, что в первом случае этот процесс не влияет на общую биомассу сообществ, во втором – сопровождается ее увеличением, в третьем – преимущественно снижением. Можно предположить, что механизм роста степени доминирования отдельных видов определяет также характер их влияния на видовое богатство. Для проверки этой гипотезы мы сопоставили участие доминантов, биомассу и число сопутствующих видов в сериях проб биомассы, отобранных на 67 участках наземных растительных сообществ Западного Кавказа и Предкавказья (высокогорные и нижнегорные луга и степи, сообщества пустырей, старых залежей и т.д.). Результаты показали, что: 1) в этих сообществах наблюдаются разные варианты соотношения между участием доминантов и биомассой, а значит, предположительно, реализуются разные механизмы воздействия доминирующих видов на сопутствующие; 2) масштаб распространения этих механизмов различается в естественных (полуестественных) и синантропных сообществах, а также зависит от происхождения доминирую- щего вида (аборигенный или чужеродный); 3) характер воздействия доминантов на биомассу определяет пороги их воздействия на локальное видовое богатство; 4) в синантропных сообществах с доминированием чужеродных видов эти пороги выражены в большей степени, чем в сообществах других типов. При этом, как показали результаты исследований, выполненных ранее, аборигенные и чужеродные виды не часто достигают степени доминирования, соответствующей уровню порогов воздействия, превышение которых представляет существенную угрозу для видового богатства растительных сообществ.
Полный текст
Известно, что рост участия доминантов в растительном покрове может иметь негативные последствия для его видового богатства, по крайней мере в локальном масштабе (Gaertner et al., 2009; Powell et al., 2011, 2013; Акатов и др., 2021, 2022а). Эта проблема чаще рассматривается применительно к чужеродным доминантам, число и область распространения которых непрерывно увеличиваются в последние десятилетия (Неронов, Лущекина, 2001; Hejda et al., 2009; Виноградова и др., 2010; Rejmánek et al., 2013; Сенатор, Розенберг, 2016). Однако некоторые аборигенные виды также расширяют свое распространение, колонизируют новые местообитания, увеличивают частоту и степень доминирования в сообществах (экспансивные виды; по: Prach, Wade, 1992). Например, в ряде публикаций для Европы в качестве проблемных аборигенных видов указываются: Brachypodium pinnatum, Molinia caerulea, Stipa pulcherrima, Calamagrostis villosa и C. epigeios (обзор: Czarniecka-Wiera et al., 2019). При этом подчеркивается, что аборигенные доминанты, усиливающие свои позиции, могут угрожать местному биоразнообразию в той же степени, что и чужеродные виды, а соответственно, требуют к себе такого же внимания (Houlahan, Findlay, 2004; Pyšek et al., 2004; Czarniecka-Wiera et al., 2019; Hejda et al., 2021, и др.). Прогнозируется также, что глобальные изменения среды, в том числе потепление климата, изменение биогеохимических циклов, рост доступности углекислого газа и эвтрофирование местообитаний могут оказаться благоприятными для многих других доминантов, и в будущем они смогут достигать более высокого участия (степени доминирования) в растительных сообществах, чем в настоящее время (Hillebrand et al., 2008). Учитывая значительный масштаб всех этих процессов, эффективное управление ими требует определения видов-мишеней (как чужеродных, так и аборигенных), представляющих наибольшую угрозу для растительных сообществ, а также механизма и характера их воздействия на другие виды и типы сообществ, наиболее уязвимых к их вторжениям (Неронов, Лущекина, 2001; Дгебуадзе, 2014; Vinogradova, Kuklina, 2020; Vinogradova et al., 2021).
Каким образом инвазивные и экспансивные виды растений достигают состояния доминирования в растительном покрове? Как следует из многих известных нам публикаций, в значительном числе случаев это связано либо с их более высокой скоростью проникновения на вновь возникшие открытые местообитания, либо с устойчивостью к нарушениям (Sheley et al., 1998; Didham et al., 2005; Eyre et al., 2009; Piazzi et al., 2016; Абрамова и др., 2021, и др.), т.е. скорее с присвоением пустых или плохо используемых ниш (первичное вторжение; по: Chabrerie et al., 2019), чем с аннексией уже занятых (вторичное вторжение). Если же виды, как инвазивные, так и экспансивные, усиливают свои позиции в ранее сформированных травостоях, то в соответствии с существующими представлениями это может осуществляться несколькими способами: 1) путем использования (перераспределения) пространства и ресурсов других видов (Vilá, Weiner, 2004); 2) таким же образом и дополнительно за счет использования ранее неиспользованных ресурсов (the biomass ratio hypothesis; Grime, 1998; Vilá, Weiner, 2004); (3) так же и дополнительно путем аллелопатии или ухудшения среды обитания для других видов (Работнов, 1983; Levine et al., 2003; Vilá, Weiner, 2004; Callaway, Ridenour, 2004; Bartha et al., 2014, и др.).
По мнению Вилá и Вейнера (Vilá, Weiner, 2004), представление о преобладании одного из этих механизмов в конкретных сообществах можно получить через характер реакции их биомассы на рост участия доминантов. Так, если реализуется первый способ, то доминирующий вид не должен влиять на биомассу травостоя, второй — рост его участия должен сопровождаться увеличением биомассы, третий — ее снижением. При этом необходимо учитывать, что увеличение биомассы травостоя можно ожидать и в случаях, когда доминанты сами формируют ресурсы или создают условия для использования ранее неиспользованных ресурсов другими видами. Например, если они обогащают почву доступными формами азота, улучшают температурный, снеговой или солевой режимы, режим увлажнения, создают укрытия и т.д. (обзоры: Миркин, Наумова, 2012; Онипченко, 2013). В свою очередь, снижение общей биомассы сообщества по мере роста участия доминанта может также наблюдаться, если сопутствующие виды с различными функциональными признаками благодаря эффекту взаимодополняемости способны более полно, чем доминант, использовать ресурсы (the complementarity hypothesis; Tilman et al., 2001; Vilá, Weiner, 2004). Отметим, однако, что экспериментальные и полевые исследования механизмов образования биомассы в сообществах разных типов (как растений, так и животных), как правило, чаще обнаруживают эффекты доминирования, чем комплементарности ниш (Mokany et al., 2008; Vilà et al., 2011; Elumeeva et al., 2017; Wasof et al., 2018; Maureaud et al., 2019; Eger et al., 2021; Lisner et al., 2023, и др.). В частности, как следует из метаанализа результатов исследований, изложенных в 199 статьях, в сообществах со значительным участием чужеродных видов разнообразие аборигенных видов обычно ниже, а первичная продукция, напротив, выше (Vilà et al., 2011).
Можно предположить, что характер воздействия доминантов на биомассу сообществ в какой-то степени должен определять силу и характер (линейный, нелинейный) их влияния на видовое богатство. Так, можно было бы ожидать, что при реализации третьего механизма связь между участием доминантов и числом сопутствующих видов должна быть наиболее тесной, а второго — наименее. Крайним случаем реализации второго механизма была бы ситуация, когда рост степени доминирования видов осуществлялся бы только за счет ранее неиспользованных ресурсов, не влияя отрицательно на численность (соответственно, продукцию) и разнообразие других видов (Vilá, Weiner, 2004). Кроме того, гипотетически, в случае реализации второго и третьего из этих механизмов, неблагоприятные последствия их воздействия на разнообразие видов могут возникнуть после превышения ими определенных (пороговых) значений их участия в травостое. Например, если использование инвазивными и экспансивными видами ранее неиспользованных ресурсов происходит преимущественно на первых этапах внедрения (при относительно низкой степени доминирования), а значимые изменения среды обитания — после достижения ими высокого участия. Кроме того, такая ситуация может также возникнуть, если доминирующий вид имеет существенно более крупные размеры (высоту), чем другие. На первом этапе внедрения в сообщество биомасса небольшого числа его побегов может быть достаточно высокой, но поскольку большая ее часть будет концентрироваться на значительной высоте, она не окажет ощутимого влияния на размер доступного для других видов пространства, так же как и на освещенность местообитания. Например, воздействие Heracleum mantegazzianum на видовое богатство становится ощутимым только после достижения им проективного покрытия около 50% (Thiele et al., 2010).
Несмотря на общенаучную и практическую значимость описанного выше аспекта организации растительных сообществ, знания о нем остаются ограниченными. В частности, нам не удалось обнаружить в доступных публикациях ответы на следующие вопросы: 1. В какой степени реализация того или иного механизма воздействия доминантов на биомассу сообществ зависит от их типа и происхождения доминирующих видов? 2. Действительно ли характер их воздействия на биомассу определяет силу и пороги воздействия на видовое богатство сообществ? 3. Насколько часто феномен “порога” встречается в сообществах естественных (полуестественных) и антропогенных местообитаний, а также с доминированием аборигенных и чужеродных видов? Мы постарались рассмотреть эти вопросы на примере растительных сообществ юга России.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Методы сбора фактического материала
Район исследования включал предгорье и горные массивы Западного Кавказа в бассейнах рек Белая, Малая и Большая Лаба, Хоста и Абин (Республика Адыгея, Краснодарский край, 200—2500 м над ур.м.), Ставропольскую возвышенность (Ставропольский край, 585 м) и западную часть Кубано-Приазовской низменности (Краснодарский край).
Объектом изучения явились однородные по условиям среды участки растительных сообществ с хорошо выраженным доминированием определенного вида, расположенные на нелесных естественных (полуестественных) (NAT) и антропогенных (с доминированием аборигенных видов — DISTa, чужеродных — DISTex) местообитаниях. В том числе: сообщества альпийского и суб- альпийского поясов с доминированием Alchemilla retinervis (1 участок), A. persica (1), Calamagrostis arundinacea (5), Chamaenerion angustifolium (1), Kobresia macrolepis (1), Geranium gymnocaulon (1), Inula orientalis subsp. grandiflora (1); нижнегорные луговые и степные сообщества с доминированием Agropyron cristatum s.l. (1), Botriochloa ischaemum (2), Brachypodium pinnatum (1), Calamagrostis epigeios (2), Geranium sanguineum (1); травяной ярус лесов с доминированием аборигенных видов — Allium ursinum (1) и Equisetum telmateia (1); чужеродного вида — Duchesnea indica (1); сообщества лесных опушек, пустырей, участков с нарушенным почвенным покровом, обезлесенных участков с доминированием аборигенных видов — Botriochloa ischaemum (3), Calamagrostis epigeios (3), Cynanchum acutum (1), Echinochloa crus-galli (1), Echium vulgare (1), Glycyrrhiza glabra (1), Medicago falcata (5), Melilotus officinalis (1), Trifolium arvense (1), T. pratense (1), Rubus caesius (5), Setaria viridis (1), Sisymbrium loeselii (1); чужеродных — Ambrosia artemisiifolia (5), Asclepias syriaca (2), Bidens frondosa (1), Helianthus tuberosus (1), Impatiens glandulifera (1), Parthenocissus quinquefolia (2), Paspalum thunbergii (1), Silphium perfoliatum (1), Solidago сanadensis (6), Xanthium albinum (1).
В пределах каждого участка сообществ было заложено по 25—30 площадок размером 0.5 × 0.5 м. Часть площадок была заложена регулярным способом в виде одной или двух трансект, включающих по 10 площадок; другие — сериями по 5—10 штук на участок. Во втором случае выбирали варианты сообществ с высоким и относительно низким проективным покрытием определенного доминирующего вида, которое оценивали визуально. С каждой площадки была отобрана проба надземной биомассы. Для каждой пробы были определены: 1) сырая биомасса в целом (WG); 2) биомасса доминирующего вида (WD); 3) биомасса сопутствующих видов (WA); 4) число сопутствующих видов (S). Общее число изученных участков сообществ составило 67, отобранных и обработанных проб — 1925.
Разделение видов на аборигенные и чужеродные было выполнено по А.С. Зернову (2006). При этом не исключено, что некоторые из аборигенных видов в районе исследований являются археофитами, однако объективное определение этого статуса весьма затруднительно (Морозова, 2023). Номенклатура сосудистых растений дана также по А.С. Зернову (2006).
Методы анализа фактического материала
Участие доминирующих видов оценивали через соотношение WD / WG = D (степень доминирования, индекс Бергера–Паркера; Berger, Parker, 1970; Magguran, 1988). Именно с этим показателем обычно ассоциируется воздействие доминирующих видов на растительные сообщества (Hejda et al., 2009). С целью оценки характера (знака) и тесноты связи между D и биомассой пробы (WG) был использован коэффициент корреляции рангов Спирмена (RWD). Дополнительно для каждого участка сообщества определили отношение средней биомассы в целом для пяти проб с наиболее высоким участием доминанта к значению этой характеристики для пяти проб с наименьшим его участием (QWG), а также аналогичное отношение для биомассы сопутствующих видов (QWA). Тесноту связи между участием доминантов (D) и числом сопутствующих видов (S) в пробах также оценивали с использованием коэффициента корреляции рангов (RSD). Пороговые значения D в соотношении между D и S определяли с использованием модели апериодического звена первого порядка (Бесекерский, 2007):
, (1)
где k — константа, отражающая предел роста значения S на градиенте снижения D (установившийся уровень), T — параметр, отражающий характер изменения S на этом градиенте (инерционное запаздывание апериодического звена).
По модели (1) определяли два пороговых значения (THR1 и THR2). THR1 соответствует точке по оси D, для которой (отклонение от максимально возможного значения S не более чем на 5%); THR2 — отклонение от максимально возможного значения S равно 1/e (соответствует существенному ускорению снижения S на градиенте D). Данные пороговые значения являются функционально связанными:
, (2)
. (3)
При росте T вид зависимости (1) постепенно приближается к линейному. В этом случае на определенном этапе THR1 и THR2 принимают отрицательные значения. Они означают отсутствие порогов и в работе принимаются равными нулю. Рис. 1 иллюстрирует разные варианты расположения THR1 и THR2 на градиенте D на примере участков сообществ с доминированием Calamagrostis arundinacea (NAT), C. epigeios (NAT), Rubus caesius (NAT), Medicago falcata (DISTa), Silphium perfoliatum (DISTex) и Helianthus tuberosus (DISTex).
Рис. 1. Иллюстрация разных вариантов расположения порогов THR1 и THR2 в соотношении между участием доминантов (D) и видовым богатством (S). По оси абсцисс — D = WD/WG, где WG — сырая биомасса сообщества в целом на 0.25 м2, WD — биомасса доминирующего вида на 0.25 м2; по оси ординат — число сопутствующих видов на 0.25 м2 (S). THR1 и THR2 — пороговые значения D в соотношении между D и S, определенные с использованием модели аперио- дического звена первого порядка (Бесекерский, 2007); THR1 соответствует точке по оси D, для которой отклонение от максимально возможного значения S не более чем на 5%; THR2 — соответствует существенному ускорению снижения S на градиенте D.
В работе средние значения характеристик даны с их стандартными ошибками. Статистическую значимость разницы между ними оценивали с использованием однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Значения рассчитанных характеристик отдельно для NAT, DISTa и DISTex сообществ представлены в табл. 1—3. Расположение в них участков сообществ сверху вниз соответствует росту значений RWD и, соответственно, примерно росту QWG. Так, отрицательные RWD соответствуют значениям QWG от 0.6 до 1.0, значения RWD в пределах от 0 до 0.5, от 0.5 до 0.8 и более 0.8 — значениям QWG преимущественно от 1.0 до 1.5, от 1.5 до 2.5 и от 2.5 до 5.0 соответственно.
Таблица 1. Характеристика участков естественных (полуестественных) растительных сообществ с доминированием отдельных видов
Доминанты | n | RWD | QWG | QWA | RSD | THR1 | THR2 | R2 |
Agropyron cristatum s.l. | 30 | –0.54 | 0.72 | 0.10 | –0.80 | 0.35 | 0.78 | 0.60 |
Rubus caesius | 30 | –0.43 | 0.71 | 0.20 | –0.71 | 0.00 | 0.00 | 0.78 |
Calamagrostis arundinacea | 30 | –0.30 | 0.64 | 0.09 | –0.50 | 0.30 | 0.77 | 0.25 |
Brachypodium pinnatum | 30 | –0.26 | 0.82 | 0.21 | –0.61 | 0.58 | 0.86 | 0.34 |
Calamagrostis epigeios | 30 | –0.21 | 0.96 | 0.24 | –0.71 | 0.34 | 0.78 | 0.49 |
Kobresia macrolepis | 25 | –0.15 | 0.95 | 0.16 | –0.82 | 0.00 | 0.67 | 0.75 |
Geranium sanguineum | 30 | –0.09 | 0.93 | 0.39 | –0.20 | – | – | – |
Calamagrostis arundinacea | 30 | –0.08 | 0.8 | 0.10 | –0.65 | 0.64 | 0.88 | 0.32 |
Botriochloa ischaemum | 25 | 0.00 | 1.0 | 0.19 | –0.69 | 0.38 | 0.79 | 0.50 |
Calamagrostis epigeios | 25 | 0.04 | 1.1 | 0.10 | –0.81 | 0.00 | 0.34 | 0.68 |
Geranium gymnocaulon | 30 | 0.12 | 1.27 | 0.22 | –0.33 | – | – | – |
Medicago falcata | 30 | 0.16 | 1.32 | 0.52 | –0.40 | 0.00 | 0.64 | 0.20 |
Calamagrostis arundinacea | 30 | 0.22 | 1.15 | 0.12 | –0.85 | 0.45 | 0.82 | 0.65 |
Alchemilla retinervis | 25 | 0.23 | 1.24 | 0.08 | –0.83 | 0.48 | 0.83 | 0.70 |
Botriochloa ischaemum | 30 | 0.34 | 1.58 | 0.41 | –0.34 | – | – | – |
Alchemilla persica | 30 | 0.34 | 1.02 | 0.30 | –0.76 | 0.24 | 0.75 | 0.65 |
Calamagrostis arundinacea | 30 | 0.35 | 1.29 | 0.21 | –0.59 | 0.59 | 0.86 | 0.38 |
Allium ursinum | 25 | 0.41 | 1.44 | 0.27 | –0.63 | 0.82 | 0.94 | 0.27 |
Rubus caesius | 30 | 0.46 | 1.26 | 0.46 | –0.51 | 0.07 | 0.69 | 0.25 |
Rubus caesius | 30 | 0.48 | 1.13 | 0.33 | –0.68 | 0.00 | 0.37 | 0.42 |
Calamagrostis arundinacea | 30 | 0.50 | 1.38 | 0.26 | –0.32 | – | – | – |
Chamaenerion angustifolium | 30 | 0.51 | 1.64 | 0.40 | –0.42 | 0.62 | 0.87 | 0.12 |
Inula orientalis subsp. grandiflora | 30 | 0.60 | 1.56 | 0.24 | –0.73 | 0.41 | 0.80 | 0.29 |
Примечание. Здесь и в табл. 2 и 3: n — число проб; RWD — теснота связи межу степенью доминирования определенного вида (D) и биомассой сообщества (WG), оцененная путем расчета коэффициента корреляции рангов Спирмена (полужирным выделены значения RWD и RSD выше критических для P < 0.05); RSD — коэффициент корреляции Спирмена для соотношения между степенью доминирования определенного вида (D) и числом сопутствующих видов (S); QWG — отношение средней биомассы для пяти проб с наиболее высоким участием доминанта к значению этой характеристики для пяти проб с наименьшим его участием; QWA — аналогичное отношение для биомассы сопутствующих видов; THR1 и THR2 — пороговые значения D в соотношении между D и S, определенные с использованием модели апериодического звена первого порядка (Бесекерский, 2007); R2 — коэффициент детерминации, отражающий долю дисперсии соотношения S(D), объясняемую этой моделью.
Таблица 2. Характеристика участков синантропных растительных сообществ с доминированием аборигенных видов (обозначения как в табл. 1)
Доминанты | n | RWD | QWG | QWA | RSD | THR1 | THR2 | R2 |
Rubus caesius | 30 | –0.46 | 0.67 | 0.08 | –0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.57 |
Calamagrostis epigeios | 30 | –0.20 | 0.7 | 0.03 | –0.88 | 0.28 | 0.76 | 0.68 |
Botriochloa ischaemum | 25 | –0.20 | 0.85 | 0.32 | –0.75 | 0.00 | 0.30 | 0.66 |
Setaria viridis | 25 | –0.15 | 0.78 | 0.06 | –0.78 | 0.46 | 0.82 | 0.57 |
Calamagrostis epigeios | 30 | 0.04 | 1.0 | 0.26 | –0.34 | – | – | – |
Medicago falcata | 30 | 0.23 | 1.37 | 0.25 | –0.57 | 0.10 | 0.70 | 0.20 |
Botriochloa ischaemum | 30 | 0.24 | 1.2 | 0.23 | –0.10 | – | – | – |
Echinochloa crus-galli | 25 | 0.27 | 2.0 | 0.33 | –0.69 | 0.23 | 0.74 | 0.47 |
Sisymbrium loeselii | 30 | 0.28 | 1.34 | 0.29 | –0.25 | – | – | – |
Glycyrrhiza glabra | 25 | 0.31 | 1.19 | 0.50 | –0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
Botriochloa ischaemum | 30 | 0.36 | 1.35 | 0.20 | –0.36 | – | – | – |
Cynanchum acutum | 30 | 0.38 | 1.12 | 0.27 | –0.45 | 0.48 | 0.83 | 0.18 |
Trifolium pratense | 30 | 0.52 | 1.66 | 0.30 | –0.61 | 0.54 | 0.85 | 0.28 |
Medicago falcata | 30 | 0.55 | 1.75 | 0.37 | –0.52 | 0.43 | 0.81 | 0.34 |
Melilotus officinalis | 30 | 0.59 | 1.73 | 0.20 | –0.65 | 0.82 | 0.94 | 0.18 |
Rubus caesius | 30 | 0.60 | 1.85 | 0.37 | –0.73 | 0.04 | 0.68 | 0.41 |
Medicago falcata | 30 | 0.68 | 2.17 | 0.33 | –0.71 | 0.34 | 0.78 | 0.53 |
Echium vulgare | 30 | 0.69 | 5.17 | 0.16 | –0.15 | – | – | – |
Calamagrostis epigeios | 30 | 0.71 | 1.64 | 0.28 | –0.70 | 0.00 | 0.63 | 0.47 |
Medicago falcata | 30 | 0.71 | 2.09 | 0.26 | –0.61 | 0.69 | 0.90 | 0.28 |
Trifolium arvense | 30 | 0.75 | 2.28 | 0.45 | –0.40 | 0.37 | 0.79 | 0.20 |
Equisetum telmateia | 30 | 0.82 | 4.29 | 0.53 | –0.31 | – | – | – |
Таблица 3. Характеристика участков синантропных растительных сообществ с доминированием чужеродных видов (обозначения как в табл. 1)
Доминанты | n | RWD | QWG | QWA | RSD | THR1 | THR2 | R2 |
Parthenocissus quinquefolia | 25 | –0.41 | 0.63 | 0.04 | –0.76 | 0.88 | 0.96 | 0.22 |
Parthenocissus quinquefolia | 25 | –0.40 | 0.81 | 0.21 | –0.16 | – | – | – |
Paspalum thunbergii | 30 | –0.02 | 0.98 | 0.30 | –0.30 | – | – | – |
Duchesnea indica | 30 | 0.00 | 1.14 | 0.20 | –0.23 | – | – | – |
Bidens frondosa | 30 | 0.04 | 1.47 | 0.18 | –0.16 | – | – | – |
Ambrosia artemisiifolia | 30 | 0.08 | 1.09 | 0.12 | –0.56 | 0.32 | 0.77 | 0.31 |
Ambrosia artemisiifolia | 30 | 0.15 | 0.84 | 0.19 | –0.33 | – | – | – |
Ambrosia artemisiifolia | 30 | 0.29 | 1.20 | 0.40 | –0.63 | 0.00 | 0.59 | 0.37 |
Ambrosia artemisiifolia | 30 | 0.32 | 1.18 | 0.24 | –0.28 | – | – | – |
Ambrosia artemisiifolia | 30 | 0.45 | 1.72 | 0.32 | –0.19 | – | – | – |
Solidago canadensis | 25 | 0.56 | 1.32 | 0.07 | –0.66 | 0.52 | 0.84 | 0.35 |
Xantium albinum | 25 | 0.58 | 1.64 | 0.12 | –0.64 | 0.78 | 0.93 | 0.31 |
Solidago canadensis | 25 | 0.65 | 1.40 | 0.15 | –0.74 | 0.41 | 0.80 | 0.41 |
Solidago canadensis | 30 | 0.68 | 1.51 | 0.38 | –0.79 | 0.58 | 0.86 | 0.64 |
Solidago canadensis | 25 | 0.68 | 2.0 | 0.09 | –0.42 | 0.92 | 0.97 | 0.27 |
Asclepias syriaca | 30 | 0.75 | 2.56 | 0.26 | –0.68 | 0.53 | 0.84 | 0.46 |
Solidago canadensis | 25 | 0.76 | 1.94 | 0.10 | –0.71 | 0.73 | 0.91 | 0.57 |
Solidago canadensis | 25 | 0.79 | 2.33 | 0.22 | –0.65 | 0.63 | 0.87 | 0.52 |
Helianthus tuberosus | 30 | 0.85 | 3.01 | 0.04 | –0.66 | 0.87 | 0.95 | 0.63 |
Impatiens glandulifera | 30 | 0.86 | 2.78 | 0.43 | –0.69 | 0.66 | 0.89 | 0.36 |
Silphium perfoliatum | 30 | 0.87 | 4.03 | 0.07 | –0.89 | 0.76 | 0.92 | 0.79 |
Asclepias syriaca | 30 | 0.89 | 3.42 | 0.31 | –0.57 | 0.77 | 0.92 | 0.33 |
Из этих таблиц и рис. 2 следует, что на изученных нами участках растительных сообществ реализованы разные варианты соотношения между участием доминантов и биомассой. При этом соотношение частоты их встречаемости в NAT, DISTa и DISTex сообществах оказалось различным. Так, в NAT сообществах доля участков с отсутствием статистически значимой корреляции между D и WG составила 65.2%, DISTa — 40.9%, DISTex — 31.8%. Доля участков с отрицательными значениями RWD выше критических для P < 0.05 — 8.7, 4.5 и 9.1% соответственно. Доля участков естественных (полуестественных) сообществ со значимыми положительными значениями RWD составила 26.1%, выше 0.8 — 0%. Среди участков синантропных сообществ с доминированием аборигенных видов — 54.5 и 8.7% соответственно; с доминированием чужеродных видов — 59.1 и 18.1%. Средние значения RWD с их ошибками для сообществ рассматриваемых типов составили: 0.12 ± 0.07 (n = 23), 0.35 ± 0.08 (n = 22) и 0.43 ± 0.09 (n = 22) соответственно. Разница является статистически значимой: F3.14 = 4.40, P < 0.05 (здесь и далее нижний индекс параметра F означает его критическое значение для P < 0.05).
Рис. 2. Гистограммы соотношения изученных естественных (полуестественных) и синантропных растительных сообществ с разным характером и теснотой связи между участием доминанта (D) и сырой биомассой на 0.25 м2 (WG). Характер (знак) и теснота связи межу D и WG оценивались с использованием коэффициента корреляции рангов Спирмена (RWD): insign — доля участков с отсутствием статистически значимой (P < 0.05) корреляции между D и WG, negat — доля участков с отрицательными значениями RWD выше критических для P < 0.05, posit — со статистически значимыми (P < 0.05) положительными значениями RWD. Здесь и на рис. 3 и 5: NAT — естественные (полуестественные) сообщества, DISTa — синантропные сообщества с доминированием аборигенных видов, DISTex — синантропные сообщества с доминированием чужеродных видов.
Сообщества с доминированием ряда видов изучены на двух–шести участках. Среди них только Rubus caesius воздействует на биомассу на разных участках сообществ разным способом (табл. 1—3). На двух участках с доминированием Asclepias syriaca, на всех пяти участках с доминированием Medicago falcata и на всех шести с доминированием Solidago сanadensis выявлена положительная статистически значимая корреляция между значениями D и WG, или по крайней мере существенное превышение значениями QWG единицы. На двух участках с доминированием Parthenocissus quinquefolia — статистически значимая отрицательная корреляция между значениями D и WG (QWG < 1). На участках с доминированием Botriochloa ischaemum, Ambrosia artemisiifolia, Calamagrostis arundinacea и C. epigeios статистически значимая корреляция между значениями этих характеристик преимущественно отсутствует (табл. 1—3).
На всех изученных участках пробы с наиболее высоким участием доминанта характеризуются значительно более низкой биомассой сопутствующих видов, по сравнению с пробами с относительно низким его участием, — значения QWA варьируют от 0.03 до 0.53, среднее значение — 0.24 ± 0.02 (n = 67) (табл. 1—3). При этом средние значения этого показателя статистически незначимо отличаются в NAT, DISTa и DISTex: 0.24 ± 0.03 (n = 23), 0.28 ± 0.03 (n = 22) и 0.20 ± 0.03 (n = 22), F3.14 = 1.97; в низкогорных и высокогорных естественных (полуестественных) сообществах: 0.20 ± 0.03 (n = 11) и 0.29 ± 0.03 (n = 12), F4.32 = 2.96; на участках сообществ со статистически значимой положительной корреляцией между D и WG и на участках, где корреляция между значениями этих характеристик отсутствует или отрицательна: 0.27 ± 0.02 (n = 30) и 0.22 ± 0.02 (n = 37), F3.99 = 2.67.
В NAT сообществах доля участков с отсутствием статистически значимой корреляции между D и S составила 17.4%, DISTa — 27.3%, DISTex — 31.8%; с относительно тесной связью между этими характеристиками (RSD ниже –0.7) — 39.1, 31.8 и 22.7% соответственно (табл. 1—3, рис. 3). То есть в естественных (полуестественных) сообществах теснота такой связи в среднем выше, чем в синантропных, в отличие от ситуации с соотношением между D и WG. Это может свидетельствовать о том, что характер воздействия доминантов на биомассу сообществ не оказывает существенного влияния на тесноту связи между степенью их участия и видовым богатством. На рис. 4 показано соотношение между значениями RWD и RSD. Видно, что связь между ними в целом отсутствует, но несколько более высокие значения RSD наблюдаются на участках сообществ с отрицательной и наиболее тесной положительной связью между D и WG (RWD менее 0 и более 0.5). Однако различие средних значений RSD для этих двух групп сообществ и сообществ на участке градиента RWD от 0 до 0.5 оказалось статистически незначимым (F3.14 = 2.74).
Рис. 3. Гистограммы соотношения естественных (полуестественных) и синантропных растительных сообществ с разной теснотой связи между участием доминанта (D) и числом сопутствующих видов на 0.25 м2 (S). Теснота связи межу D и S оценивалась с использованием коэффициента корреляции рангов Спирмена (RSD): insign — доля участков с отсутствием статистически значимой (P < 0.05) корреляции между D и S, moderate — доля участков со статистически значимыми (P < 0.05) отрицательными значениями RWD ниже –0.7, strong — выше –0.7.
Рис. 4. Соотношение между характером связи WG(D) и S(D) на участках естественных (полуестественных) и синантропных растительных сообществ. По оси абсцисс — RWD, по оси ординат — RSD. RWD — теснота связи между степенью доминирования определенного вида (D) и биомассой сообщества (WG), оцененная путем расчета коэффициента корреляции рангов Спирмена; RSD — коэффициент корреляции Спирмена для соотношения между степенью доминирования определенного вида (D) и числом сопутствующих видов (S).
Участки сообществ с отсутствием значимой корреляции между D и S были исключены из анализа соотношения между RWD и значениями порогов первого и второго типов (THR1 и THR2). Его результаты показали, что между данными характеристиками наблюдается статистически значимая связь. Средние значения THR1 на участках сообществ с RWD менее 0.5 (n = 29) равны 0.28 ± 0.05 (пределы варьирования — от 0 до 0.5), более 0.5 (n = 22) — 0.53 ± 0.06 (0.4—0.8) (F4.04 = 11.14, P < 0.05); THR2: 0.65 ± 0.06 (0.4—0.8) и 0.83 ± 0.03 (0.8—0.9) соответственно (F4.04 = 8.37, P < 0.05).
Учитывая, что характер и теснота связи между D и WG в среднем отличаются в NAT, DISTa и DISTex сообществах, можно было бы ожидать, что в среднем будут отличаться и значения THR1 и THR2. Так, в NAT сообществах они в среднем должны были бы быть наиболее низкими, в DISTex сообществах — наиболее высокими. Это предположение подтвердилось, но не полностью. Средние значения THR1 для сообществ этих типов составили 0.33 ± 0.06 (n = 19), 0.30 ± 0.06 (n = 16) и 0.60 ± 0.06 (n = 16) (F3.2 = 6.78, P < 0.05); THR2 — 0.71 ± 0.05, 0.66 ± 0.07 и 0.86 ± 0.02 (F3.2 = 3.46, P < 0.05). То есть в NAT и DISTa сообществах средние значения THR1 и THR2 оказались близкими. При этом существенно более высокими значениями порогов обоих типов характеризуются синантропные сообщества с доминированием чужеродных видов (рис. 5).
Рис. 5. Гистограммы распределения пороговых значений D в соотношении между D и S: а — THR1, б — THR2. По оси абсцисс — классы значений D (доля доминанта в сырой биомассе сообщества на 0.25 м2), по оси ординат — частота встречаемости значений THR1 и THR2 в пределах каждого класса. Обозначения как на рис. 1.
ОБСУЖДЕНИЕ
В изученных растительных сообществах наблюдаются разные варианты соотношения между участием доминантов и биомассой, а значит, в соответствии с Вилá и Вейнером (Vilá, Weiner, 2004), реализуются разные механизмы воздействия доминирующих видов на сопутствующие. При этом масштаб распространения этих механизмов существенно отличается в естественных (полуестественных) и синантропных сообществах, а также зависит от происхождения доминирующего вида (аборигенный или чужеродный). Так, на большинстве участков естественных (полуестественных) сообществ (NAT) чаще наблюдается отсутствие статистически значимой связи между D и WG, реже она положительная. В синантропных сообществах (DISTa и DISTex) — наоборот. Причем в сообществах с доминированием чужеродных видов (DISTex) доля участков с положительной связью между значениями этих характеристик наиболее высокая. В соответствии с Вилá и Вейнером (Vilá, Weiner, 2004), это может свидетельствовать о том, что рост участия доминантов в NAT чаще происходит путем перераспределения ресурсов других видов; в DISTa и DISTex — так же, но и в значительной степени за счет потребления ресурсов, не использованных другими видами. Если бы рост степени доминирования сопровождался увеличением биомассы сопутствующих видов или значения этой характеристики в сообществах с высоким и низким участием доминантов были бы в среднем близкими (QWA ≥ 1), то это могло бы свидетельствовать о положительном воздействии доминанта на большинство других видов, или по крайней мере об отсутствии конкуренции между ними (Vilá, Weiner, 2004). Однако на всех изученных нами участках сообществ значения QWA оказались существенно ниже единицы (преимущественно менее 0.3). Причем средние значения QWA на участках синантропных и естественных сообществ, так же как расположенных в низкогорной и высокогорной зонах с доминированием аборигенных и чужеродных видов, оказались сходными.
К росту биомассы сообществ чаще ведет увеличение степени доминирования видов, которые существенно превышают по размеру (высоте) сопутствующие виды растений: Equisetum telmateia, Echium vulgare, Silphium perfoliatum, Impatiens glandulifera, Asclepias syriaca и Helianthus tuberosus (табл. 2 и 3). Это преимущественно синантропные (чаще чужеродные) виды. В сообществах с их высоким участием сырая биомасса может быть в 3—5 раз выше, чем в травостое, расположенном рядом, но где их доминирование выражено слабо. Можно предположить, что в определенной степени это связано с формированием такими видами более сложной ярусной структуры, позволяющей эффективнее (в целом для сообщества) использовать солнечное излучение. В естественных (полуестественных) среднетравных и низкотравных сообществах, которые были объектом нашего изучения, различие доминирующих и сопутствующих видов по размеру (высоте) выражено в меньшей степени. Однако, как следует из работы К.В. Дудовой с соавт. (2019), низкопродуктивные сообщества, занимающие небольшой объем воздушной среды, не обязательно характеризуются относительно низкой степенью дифференцированности видов по высоте, по сравнению с более продуктивными, занимающими большой объем воздушной среды.
Значимое снижение биомассы при росте участия доминантов мы выявили только на пяти участках сообществ. Причем на четырех из них доминировали фанерофиты со стелющимися и укореняющимися побегами, образующими над травяным покровом плотный полог (Rubus caesius и Parthenocissus quinquefolia). Можно предположить, что они существенно ухудшают освещенность для других видов, а также механически препятствуют их росту вверх. При этом, достигая высокого проективного покрытия, эти виды имеют относительно невысокую плотность побегов, а соответственно, относительно низкую биомассу. То есть, достигнув господства, они менее эффективно используют ресурсы, чем вытесненные ими виды. Однако отметим, что отрицательная связь между D и WG была обнаружена на обоих изученных участках с доминированием Parthenocissus quinquefolia, но только на двух из четырех участков сообществ с доминированием Rubus caesius. На двух других наблюдалась противоположная тенденция. В связи с этим обратим внимание, что особенности доминирования девяти видов были изучены нами на нескольких участках, но только Rubus caesius на разных участках воздействовал на биомассу сообществ разным способом.
В целом наши данные подтверждают результаты других авторов, свидетельствующие о невысокой роли эффекта взаимодополняемости между видами в образовании биомассы сообществ (Mokany et al., 2008; Elumeeva et al., 2017; Wasof et al., 2018; Lisner et al., 2023, и др.). Кроме того, если отрицательную связь между участием доминантов и биомассой рассматривать как признак ухудшения ими среды обитания для других видов (Vilá, Weiner, 2004), то можно предположить, что данное явление также не имеет широкого распространения в нелесном растительном покрове района исследования. К такому выводу мы уже приходили ранее на основе результатов изучения другого аспекта организации растительных сообществ — характера (избирательного, случайного) вытеснения доминантами сопутствующих видов (Акатов и др., 2022а). Отметим также, что возможности эффектов доминирования и комплементарности ниш по созданию биомассы могут оказаться примерно равными (Mokany et al., 2008). Можно предположить, что именно с этим связано отсутствие значимой связи между участием доминантов и биомассой на многих изученных нами участках сообществ.
Характер (знак) и сила воздействия доминантов на биомассу, вопреки ожиданию, не оказывает существенного влияния на тесноту связи между степенью их доминирования и видовым богатством, но в значительной степени определяет пороги их воздействия на видовое богатство. Из 51 участка растительного покрова, на котором была выявлена статистически значимая отрицательная связь между D и S, только на 10 участках отсутствовал порог первого типа (THR1), на трех (все с доминированием Rubus caesius) — второго (THR2). При этом на участках сообществ с отсутствием либо умеренным положительным или отрицательным воздействием доминирующих видов на биомассу пороги их воздействия на видовое богатство находятся на уровне D менее 0.5 (THR1) и 0.35—0.85 (THR2). На участках с RWD выше 0.5 доминанты начинают существенно воздействовать на сопутствующие виды лишь при достижении ими весьма значительного участия: 0.4—0.8 (THR1) и 0.8—0.9 (THR2). Поскольку положительная связь между D и WG наиболее выражена в синантропных сообществах с доминированием чужеродных видов (DISTex), то и пороги их воздействия на видовое богатство сообществ также выражены в большей степени, чем в сообществах других типов. В среднем оно начинает проявляться, когда их участие в формировании биомассы достигает 60%, становится существенным при достижении участия более 85%. В сообществах других типов — при степени доминирования примерно 30 и 65% соответственно. По мнению Тиле с соавт. (Thiele et al., 2010), пороги воздействия на видовое богатство сообществ конкретных доминантов могут зависеть также от особенностей типа местообитания. Наши данные в одних случаях подтверждают это предположение, в других нет. Так, на шести участках с доминированием Solidago canadensis значения THR1 варьируют в относительно широком пределе — от 0.41 до 0.92, так же как на пяти участках с доминированием Medicago falcata — 0.10—0.68. При этом на четырех участках с Calamagrostis arundinacea амплитуда варьирования ниже — от 0.30 до 0.64; на всех пяти участках с Rubus caesius порог первого типа (THR1) отсутствует.
Но насколько часто аборигенные и чужеродные виды достигают степени доминирования, превышающей THR2, и, соответственно, представляют реальную угрозу для видового богатства синантропных сообществ? Ранее мы оценили частоту и степень доминирования аборигенных и чужеродных видов на девяти крупных участках синантропной растительности в окрестностях нескольких населенных пунктов юга России (Акатов и др., 2022б). С этой целью в пределах обследованных участков было регулярным способом заложено 24 847 учетных площадок по 1 м2. На каждой из них глазомерно определяли проективное покрытие доминантов. Результаты показали, что доля учетных площадок с покрытием доминантов более 60% (независимо от происхождения) в среднем составляет около 24%, более 80% — 11%. При этом чужеродные виды в среднем для всех участков доминировали только на 12% учетных площадок, а покрытия более 80% достигали лишь на 2.9% (Акатов и др., 2022б). Исследование наиболее распространенных естественных (полуестественных) сообществ в высотном интервале от нижнегорного (340 м над ур. моря) до альпийского (2200 м) поясов Западного Кавказа (крупнотравье, луга, пустоши, ковры) показало, что доля учетных площадок с отсутствием доминирующих видов или с низкой степенью их участия (покрытие менее 40%) от общего числа площадок в среднем составила около 80%, с покрытием доминантов более 60% — 7.7%, более 80% — только 2.4% (неопубликованные данные). Это означает, что в настоящее время доминанты растительных сообществ (как аборигенные, так и чужеродные) нечасто достигают участия, превышающего пороговый уровень второго типа (THR2). То есть их существенное воздействие на видовое богатство можно ожидать лишь на относительно небольших по площади участках естественной и синантропной растительности этого региона.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, нами показано, что в растительных сообществах района исследования наблюдаются разные варианты соотношения между участием доминантов и биомассой, а значит, предположительно, реализуются разные механизмы воздействия доминирующих видов на сопутствующие. При этом масштаб распространения этих механизмов существенно отличается в естественных (полуестественных) и синантропных сообществах, а также зависит от происхождения доминирующего вида (аборигенный или чужеродный). Так, рост участия доминантов в первых (NAT) чаще происходит путем перераспределения ресурсов других видов, во вторых (DISTa и DISTex) — так же, но и в значительной степени за счет использования ресурсов, не использованных другими видами. Значимое снижение биомассы при росте участия доминантов было выявлено только в 10% изученных сообществ.
Мы также обнаружили, что характер воздействия доминантов на биомассу в той или иной степени определяет пороги их воздействия на локальное видовое богатство. Поскольку положительная связь между доминированием и биомассой наиболее выражена в синантропных сообществах с доминированием чужеродных видов (DISTex), то и пороги их воздействия на видовое богатство этих сообществ также выражены в большей степени, чем в сообществах других типов. При этом, как показали результаты исследований, выполненных нами ранее, аборигенные и чужеродные виды не часто достигают степени доминирования, представляющей реальную угрозу для видового богатства сообществ (пороговый уровень второго типа — THR2). Соответственно, наши результаты свидетельствуют в поддержку точки зрения, что программы борьбы с инвазивными и экспансивными видами растений должны быть направлены не столько на полное их уничтожение, сколько на ограничение плотности их популяций на уровне порога воздействия или немного ниже (Thiele et al., 2010).
ФИНАНСИРОВАНИЕ
В статье приведены результаты исследований, выполненных при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты № 16-04-00228 и 20-04-00364).
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с использованием животных в качестве объектов.
Об авторах
В. В. Акатов
Майкопский государственный технологический университет; Кавказский государственный природный биосферный заповедник
Автор, ответственный за переписку.
Email: akatovmgti@mail.ru
Россия, ул. Первомайская, 191, Майкоп, 385000; ул. Советская, 187, Майкоп, 385000
Т. В. Акатова
Кавказский государственный природный биосферный заповедник
Email: akatovmgti@mail.ru
Россия, ул. Советская, 187, Майкоп, 385000
Т. Г. Ескина
Кавказский государственный природный биосферный заповедник
Email: akatovmgti@mail.ru
Россия, ул. Советская, 187, Майкоп, 385000
Н. М. Сазонец
Майкопский государственный технологический университет
Email: akatovmgti@mail.ru
Россия, ул. Первомайская, 191, Майкоп, 385000
С. Г. Чефранов
Майкопский государственный технологический университет
Email: akatovmgti@mail.ru
Россия, ул. Первомайская, 191, Майкоп, 385000
Список литературы
- Абрамова Л.М., Голованов Я.М., Рогожникова Д.Р., 2021. Борщевик Сосновского (Heraclеum sosnоwskyi Manden., Apiaceae) в Башкортостане // Росс. журн. биол. инвазий. № 1. С. 2—12.
- Акатов В.В., Акатова Т.В., Афанасьев Д.Ф., Ескина Т.Г., Сазонец Н.М. и др., 2022а. Воздействие доминантов на видовое богатство растительных сообществ в контексте энергетической гипотезы // Журн. общ. биологии. Т. 83. № 5. С. 336—345 [Akatov V.V., Akatova T.V., Afanasyev D.F., Eskina T.G., Sazonets N.M., et al., 2023. Effect of dominants on the species richness of plant communities in the context of the species–energy hypothesis // Biol. Bull. Rev. V. 13. № 3. P. 238—246].
- Акатов В.В., Акатова Т.В., Афанасьев Д.Ф., Сушкова Е.Г., Чефранов С.Г., 2021. Результат воздействия доминантов на видовое богатство растительных сообществ: упорядоченное или случайное исчезновение видов? // Экология. № 4. C. 243—253 [Akatov V.V., Akatova T.V., Afanasyev D.F., Eskina T.G., Sushkova E.G., Chefranov S.G., 2021. Result of impact of dominants on species richness of plant communities: ordered or random species loss? // Russ. J. Ecol. V. 52. № 4. P. 257—266].
- Акатов В.В., Акатова Т.В., Ескина Т.Г., Сазонец Н.М., Чефранов С.Г., 2022б. Частота и степень доминирования чужеродных и аборигенных видов в синантропных растительных сообществах юга России // Росс. журн. биол. инвазий. № 3. С. 2—17 [Akatov V.V., Akatova T.V., Eskina T.G., Sazonets N.M., Chefranov S.G., 2022. Frequency of occurrence and level of dominance of alien and native species in synanthropic plant communities of southern Russia // Russ. J. Biol. Invasions. V. 13. № 4. P. 399—411].
- Бесекерский В.А., 2007. Теория систем автоматического управления. М.: Профессия. 752 c.
- Виноградова Ю.К., Майоров С.Р., Хорун Л.В., 2010. Черная книга флоры Средней России: чужеродные виды растений в экосистемах Средней России. М.: ГЕОС. 512 с.
- Дгебуадзе Ю.Ю., 2014. Чужеродные виды в Голарктике: некоторые результаты и перспективы исследований // Росс. журн. биол. инвазий. № 1. С. 2—8.
- Дудова К.В., Атабаллыев Г.Г., Ахметжанова А.А., Гулов Д.М., Дудов С.В. и др., 2019. Опыт изучения функционального разнообразия альпийских сообществ на примере анализа высоты растений // Журн. общ. биологии. Т. 80. № 6. С. 439—450.
- Зернов А.С., 2006. Флора Северо-Западного Кавказа. М.: Т-во науч. изд. КМК. 664 с.
- Миркин Б.М., Наумова Л.Г., 2012. Современное состоя- ние основных концепций науки о растительности. Уфа: АН РБ, Гилем. 488 с.
- Морозова О.В., 2023. Археофиты во флоре Европейской России // Росс. журн. биол. инвазий. № 1. С. 53—129.
- Неронов В.М., Лущекина А.А., 2001. Чужеродные виды и сохранение биологического разнообразия // Успехи соврем. биологии. Т. 121. № 1. С. 121—128.
- Онипченко В.Г., 2013. Функциональная фитоценология: синэкология растений. M.: Красанд. 640 с.
- Работнов Т.А., 1983. Фитоценология. М.: Изд-во МГУ. 296 с.
- Сенатор С.А., Розенберг А.Г., 2016. Эколого-экономическая оценка ущерба от инвазивных видов растений // Успехи соврем. биологии. Т. 136. № 6. С. 531—538.
- Bartha S., Szentes Sz., Horváth A., Házi J., Zimmermann Z., et al., 2014. Impact of mid-successional dominant species on the diversity and progress of succession in regenerating temperate grasslands // Appl. Veg. Sci. V. 17. № 2. Р. 201—213.
- Berger W.H., Parker F.L., 1970. Diversity of planktonic foraminifera in deep-sea sediments // Science. V. 168. P. 1345—1347.
- Callaway R.M., Ridenour W.M., 2004. Novel weapons: Invasive success and the evolution of increased competitive ability // Front. Ecol. Environ. V. 2. № 8. Р. 436—443.
- Chabrerie O., Massol F., Facon B., Thevenoux R., Hess M., et al., 2019. Biological invasion theories: Merging perspectives from population, community and ecosystem scales // Preprints. https://www.researchgate.net/publication/336894588.
- Czarniecka-Wiera M., Kacki Z., Chytry M., Palpurina S., 2019. Diversity loss in grasslands due to the increasing dominance of alien and native competitive herbs // Biodivers. Conserv. V. 28. P. 2781—2796.
- Didham R.K., Tylianakis J.M., Hutchison M.A., Ewers R.M., Gemmell N.J., 2005. Are invasive species the drivers of ecological change // Trends Ecol. Evol. V. 20. P. 470—474. https://doi.org/10.1016/j.tree.2005.07.006
- Eger A., Best R.J., Baum J.K., 2021. Dominance determines fish community biomass in a temperate seagrass ecosystem // Ecol. Evol. V. 11. № 15. P. 10489—10501. https://doi.org/10.1002/ece3.7854
- Elumeeva T.G., Onipchenko V.G., Weger M.J.A., 2017. No other species can replace them: Evidence for the key role of dominants in an alpine Festuca varia grassland // J. Veg. Sci. V. 28. P. 674—683.
- Eyre T.J., Wang J., Venz M.F., Chilcott C., Whish G., 2009. Buffel grass in Queensland’s semi-arid woodlands: Response to local and landscape scale variables, and relationship with grass, forb and reptile species // Rangeland J. V. 31. P. 293—305.
- Gaertner M., Breeyen A.D., Hui C., Richardson D.M., 2009. Impacts of alien plant invasions on species richness in Mediterranean-type ecosystems: A meta-analysis // Prog. Phys. Geogr. V. 33. P. 319—338.
- Grime J.P., 1998. Benefits of plant diversity to ecosystems: immediate, filter and founder effects // J. Ecol. V. 86. P. 902—910.
- Hejda M., Pyšek P., Jarošík V., 2009. Impact of invasive plants on the species richness, diversity and composition of invaded communities // J. Ecol. V. 97. P. 393—403.
- Hejda M., Sádlo J., Kutlvašr J., Petřík P., Vítková M., et al., 2021. Do invasive alien plants impact the diversity of vegetation more compared to native expansive dominants? // Invasion of Alien Species in Holarctic. Borok-VI: sixth International Symposium. Book of abstracts / Eds Dgebuadze Yu.Yu., Krylov A.V., Petrosyan V.G., Karabanov D.P. Kazan: Buk. Р. 88—89.
- Hillebrand H., Bennett D.M., Cadotte M.W., 2008. Consequences of dominance: A review of evenness effects on local and regional ecosystem processes // Ecology. V. 89. № 6. P. 1510—1520.
- Houlahan J.E., Findlay C.S., 2004. Effect of invasive plant species on temperate wetland plant diversity // Conserv. Biol. V. 18. № 4. P. 1132—1138.
- Levine J.M., Vilá M., D’Antonio C.M., Dukes J.S., Grigulis K., Lavorel S., 2003. Mechanisms underlying the impacts of exotic plant invasions // Proc. Biol. Sci. V. 270. P. 775—781. https://doi.org/10.1098/rspb.2003.2327
- Lisner A., Konečná M., Blažek P., Lepš J., 2023. Community biomass is driven by dominants and their characteristics — The insight from a field biodiversity experiment with realistic species loss scenario // J. Ecol. V. 111. № 1. P. 240—250. https://doi.org/10.1111/1365-2745.14029
- Magguran A., 1988. Ecological Diversity and its Measurement. Princeton: Princeton Univ. Press. 181 р.
- Maureaud A., Hodapp D., Denderen P.D., van, Hillebrand H., Gislason H., et al., 2019. Biodiversity–ecosystem functioning relationships in fish communities: Biomass is related to evenness and the environment, not to species richness // Proc. Roy. Soc. B. Biol. Sci. V. 286. № 1906. https://doi.org/10.1098/rspb.2019.1189
- Mokany K., Ash J., Roxburgh S., 2008. Functional identity is more important than diversity in influencing ecosystem processes in a temperate native grassland // J. Ecol. V. 96. P. 884—893.
- Piazzi L., Balata D., Bulleri F., Gennaro P., Ceccherelli G., 2016. The invasion of Caulerpa cylindracea in the Mediterranean: the known, the unknown and the knowable // Mar. Biol. V. 163. № 7. Art. 161. https://doi.org/10.1007/s00227-016-2937-4
- Powell K.I., Chase J.M., Knight T.M., 2011. A synthesis of plant invasion effects on biodiversity across spatial scales // Am. J. Bot. V. 98. № 3. Р. 539—548. https://doi.org/10.3732/ajb.1000402
- Powell K.I., Chase J.M., Knight T.M., 2013. Invasive plants have scale-dependent effects on diversity by altering species-area relationships // Science. V. 339. P. 316—318. https://doi.org/10.1126/science.1226817
- Prach K., Wade M., 1992. Population characteristics of expansive perennial herbs // Preslia. V. 64. P. 45—51.
- Pyšek P., Richardson D.M., Rejmánek M., Webster G., Williamson M., Kirschner J., 2004. Alien plants in checklists and floras: towards better communication between taxonomists and ecologists // Taxon. V. 53. P. 131—143.
- Rejmánek M., Richardson D.M., Pyšek P., 2013. Plant invasions and invasibility of plant communities // Vegetation Ecology, 2nd ed. / Eds Maarel E., van der Franklin J. Chichester: Wiley & Sons, Ltd. P. 387—424.
- Sheley R.L., Jacobs J.S., Carpinelli M.F., 1998. Distribution, biology, and management of diffuse knapweed (Centaurea diffusa) and spotted knapweed (Centaurea maculosa) // Weed Technol. V. 12. P. 353—362.
- Thiele J., Kollmann J., Markussen B., Otte A., 2010. Impact assessment revisited — improving the theoretical basis for management of invasive alien species // Biol. Invasions. V. 12. P. 2025—2035. https://doi.org/10.1007/s10530-009-9605-2
- Tilman D., Reich P.B., Knops J., Wedin D., Mielke T., Lehman C., 2001. Diversity and productivity in a long-term grassland experiment // Science. V. 294. P. 843—845. https://doi.org/10.1126/science.1060391
- Vilà M., Espinar J.L., Hejda M., Hulme P.E., Jarošík V., et al., 2011. Ecological impacts of invasive alien plants: A meta-analysis of their effects on species, communities and ecosystems // Ecol. Lett. V. 14. № 7. P. 702—708.
- Vilá M., Weiner J., 2004. Are invasive plant species better competitors than native plant species? Evidence from pair-wise experiments // Oikos. V. 105. № 2. P. 229—238.
- Vinogradova Y.K., Kuklina A.G., 2020. Genesis of the scientific discipline “Invasive Biology” in Russia // IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. V. 579. Art. 012164. https://doi.org/10.1088/1755-1315/579/1/012164
- Vinogradova Y.K., Tokhtar V.K., Notov A.A., Mayorov S.R., Danilova E.S., 2021. Plant invasion research in Russia: Basic projects and scientific fields // Plants. V. 10. Art. 1477. https://doi.org/10.3390/plants10071477
- Wasof S., Lenoir J., Hattab T., Jamoneau A., Gallet-Moron E., et al., 2018. Dominance of individual plant species is more important than diversity in explaining plant biomass in the forest understory // J. Veg. Sci. V. 29. № 3. P. 521—531. https://doi.org/10.1111/jvs.12624
Дополнительные файлы