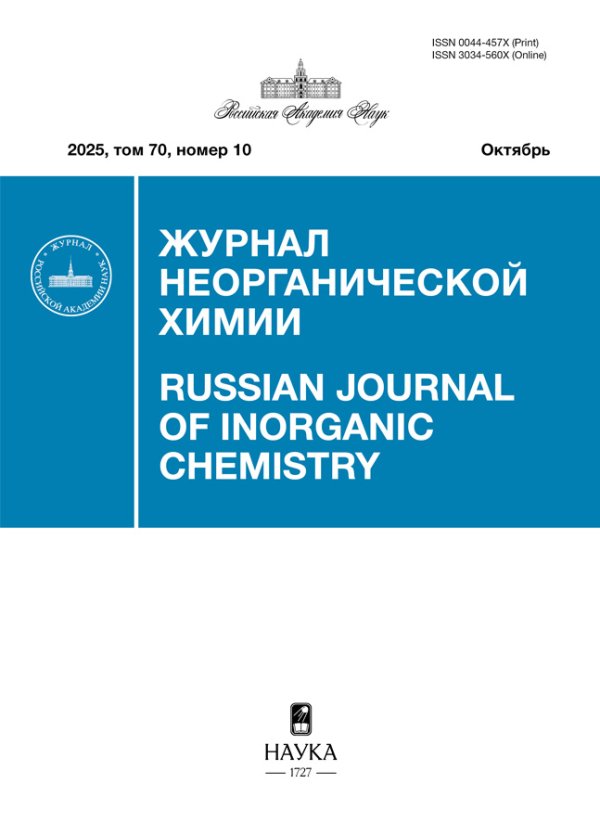Теплоемкость и магнитные свойства PrMgAl11O19
- Авторы: Гагарин П.Г.1, Гуськов А.В.1, Гуськов В.Н.1, Хорошилов А.В.1, Ефимов Н.Н.1, Гавричев К.С.1
-
Учреждения:
- Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН
- Выпуск: Том 69, № 10 (2024)
- Страницы: 1424-1431
- Раздел: ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0044-457X/article/view/281870
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0044457X24100081
- EDN: https://elibrary.ru/JIHKWV
- ID: 281870
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Калориметрическими методами измерена изобарная теплоемкость гексаалюмината магния-празеодима PrMgAl11O19 со структурой магнетоплюмбита в интервале температур 2–1865 K. По согласованным и сглаженным значениям теплоемкости рассчитаны термодинамические функции (энтропия, изменение энтальпии и приведенная энергия Гиббса) в указанном интервале температур. Обнаружена пологая аномалия теплоемкости с максимумом при ~ 8 K, рассчитаны ее энтропия и энтальпия. С помощью метода динамической магнитной восприимчивости исследованы магнитные свойства в диапазоне температур 2–300 K. По результатам измерений магнитных свойств обнаружена аномалия на мнимой компоненте динамической магнитной восприимчивости, температурный диапазон которой согласуется с областью аномалии теплоемкости.
Ключевые слова
Полный текст
ВВЕДЕНИЕ
Согласно литературным данным, теплопроводность гексаалюминатов магния и редкоземельных элементов (RE) REMgAl11O19 со структурой магнетоплюмбита почти на 20% ниже теплопроводности стабилизированного оксидом иттрия диоксида циркония YSZ [1], что создает перспективы их использования в качестве материалов термобарьерных покрытий [2–6]. Это свойство магнетоплюмбитов связывают с особенностями структуры, в которой чередуются слои оксидов и шпинели MgAl2O4, а также с существенным различием масс редкоземельных элементов, магния и алюминия [7]. Кроме того, обнаружено незначительное спекание гексаалюминатов магния-РЗЭ при температурах ~1500°C [3], что существенно для технологии нанесения и эксплуатации плотных оксидных защитных покрытий. Известно, что на поверхности сплава, нанесенного на поверхность турбинных лопаток, образуется тонкий оксидный слой, содержащий оксид алюминия [2, 8], поэтому при использовании в качестве защитного покрытия гексаалюмината магния-РЗЭ, термическое расширение которого [1, 3, 9, 10] сопоставимо с Al2O3 [11, 12], не возникает существенных механических напряжений.
В литературе описаны различные способы синтеза гексаалюминатов магния-РЗЭ со структурой магнетоплюмбита (например, [13–15]), однако в основном применяли методы спекания оксидов с промежуточной гомогенизацией и финальным отжигом при высоких температурах [16], а также осаждение из водных растворов гидроксидов с последующим отжигом осадка [10].
Термодинамические свойства гексаалюминатов со структурой магнетоплюмбита, включая теплоемкость, до настоящего времени не изучены, тогда как они важны для оценки вероятности взаимодействия этих веществ с окружающей средой при различных условиях и их термодинамической стабильности по отношению к сосуществующим фазам на фазовой диаграмме в широком диапазоне температур. Температурная зависимость теплоемкости необходима, в том числе для более точных расчетов теплопроводности, тогда как для приближенной оценки теплопроводности PrMgAl11O19 авторы [17] были вынуждены воспользоваться правилом Неймана–Коппа [18].
Следует отметить, что величины термодинамических функций в широком диапазоне температур важны также для корректной оценки энтальпийного и энтропийного факторов при расчете энергии Гиббса, поэтому требуется максимальная точность измерений теплоемкости, особенно в области низких температур, где наблюдается существенный прирост энтропии.
Цель настоящей работы – измерение теплоемкости PrMgAl11O19 в широком интервале температур, согласование данных, полученных различными калориметрическими методами, расчет термодинамических функций в диапазоне 2–1865 K, а также исследование магнитных свойств методом динамической магнитной восприимчивости в области температур 2–300 K.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Гексаалюминат магния-празеодима PrMgAl11O19 синтезировали методом обратного осаждения, например [19]. Для этого готовили водные растворы нитратов Pr(NO3)3 · 6H2O (х. ч., 99.9 мас. %), Al(NO3)3 · 9H2O (ч., РусХим) и Mg(NO3)2 · 6H2O (99.0 мас. %, РЕАХИМ). Раствор со стехиометрическим соотношением металлов готовили взвешиванием необходимых количеств растворов нитратов с предварительно определенными моляльными концентрациями, а затем приливали во взятый с избытком концентрированный водный раствор аммиака при интенсивном перемешивании. Полученный осадок гидроксидов сушили и ступенчато отжигали. На последней стадии образец отжигали при 1700°С (1973 K) в течение 6 ч. Ранее этот метод получения гексаалюминатов был использован при изучении высокотемпературной теплоемкости LaMgAl11O19 и SmMgAl11O19 [20].
Структуру, состав и морфологию образца PrMgAl11O19 изучали методами рентгенофазового анализа, растровой электронной микроскопии и элементного анализа. Параметры структуры и отсутствие в образце примесных фаз определяли методом порошковой рентгеновской дифракции на дифрактометре Bruker D8 Advance (CuKα-излучение, λ = 1.5418 Å, Ni-фильтр, детектор LYNXEYE, геометрия на отражение) в интервале углов 2θ = 10°–80°. Результаты исследования обрабатывали с помощью программы BrukerEVA, использовали базу данных ICDDPDF-2. Параметры решетки рассчитывали методом полнопрофильного анализа с помощью программного комплекса TOPAS V4.2.
Морфологию образцов исследовали на электронном микроскопе Tescan Amber с неиммерсионной колонной BrightBeam и ультравысоким разрешением 1.3 нм при ускоряющем напряжении 1 кэВ. В качестве детектора использовали BSE-детектор. Для определения состава поверхности применяли EDX-спектрометр при ускоряющем напряжении до 20 кэВ.
Теплоемкость полученного вещества измеряли тремя независимыми калориметрическими методами: с помощью релаксационной (установка PPMS-9, Quantum Design Inc.), адиабатической (БКТ-3, ИП Малышев) и дифференциальной сканирующей калориметрии (DSC 404F1 Pegasus, Netzsch) [21]. Перед изучением теплоемкости гексаалюмината магния-празеодима для оценки калориметрических установок выполняли измерения теплоемкости стандартных образцов меди, бензойной кислоты и альфа-корунда.
Сглаживание экспериментальных значений и расчет термодинамических функций проводили с помощью полиномов и опубликованного программного комплекса CpFit [22, 23].
Измерения динамической магнитной восприимчивости осуществляли с использованием автоматизированного комплекса для проведения физических измерений PPMS-9 Quantum Design в нулевом внешнем магнитном поле и магнитном поле напряженностью 1000 Э при амплитудах переменного магнитного поля 1 и 10 Э на частотах 100–10000 Гц в интервале температур от 2 до 300 K.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Полученный образец гексаалюмината магния-празеодима, согласно результатам рентгеновской дифракции, имеет структуру магнетоплюмбита (рис. S1) с параметрами решетки (пр. гр. P63/mmc) a = 5.587(2), c = 21.896(3) Å, V = 591.9(2) Å3, которые удовлетворительно согласуются с данными [17].
Изучение поверхности образца методом растровой электронной микроскопии показало, что размер частиц превышает 200 нм (рис. S2).
Судя по EDX-спектру, образец гаксаалюмината Mg-Pr не содержит заметного количества примесных элементов (рис. S3). Картографическое исследование поверхности образца продемонстрировало однородность и равномерное распределение составляющих элементов (рис. S4). По данным EDX-спектроскопии, соотошение элементов Pr : Mg : Al : O в образце гексаалюмината магния-празеодима составило (3.69 ± 0.93) : (3.28 ± 0.24) : (33.01 ± 3.02) : (58.57 ± 2.63), что в пределах погрешности определения соответствует стехиометрическому 3.13 : 3.13 : 34.37 : 59.37 = 1 : 1 : 11 : 19.
Теплоемкость PrMgAl11O19 измерена методами релаксационной (2.11–34.5 K), адиабатической (23.79–346.12 K) и дифференциальной сканирующей калориметрии (335–1865 K) (табл. S1). При расчетах теплоемкости использовали величину мольной массы 765.995 г/моль, вычисленную из атомных масс, рекомендованных в [24].
Измеренные различными методами значения теплоемкости согласовали, приняв за опорные величины данные адиабатической калориметрии. Полученная температурная зависимость Ср,m(Т) не имеет выраженных аномалий, которые могли бы свидетельствовать о протекании структурных фазовых превращений (рис. 1).
Рис. 1. Температурная зависимость теплоемкости PrMgAl11O19.
Поскольку кривая температурной зависимости теплоемкости имеет достаточно сложный вид, аппроксимация температурной зависимости теплоемкости выполнена в трех температурных диапазонах. В области экстраполяции к 0 ниже 2.9 K она описана уравнением:
. (1)
Участок кривой теплоемкости между 2.6 и 7.9 K аппроксимирован с использованием полинома вида:
, (2)
где A0–A7 – коэффициенты полинома.
Выше 7.9 K температурная кривая теплоемкости описана с помощью линейной комбинации функций Эйнштейна [22, 23]:
, (3)
где R – универсальная газовая постоянная, ai и θi – варьируемые параметры.
Значения коэффициентов уравнений (1)–(3) приведены в табл. S2.
Относительные отклонения экспериментальных значений теплоемкости от сглаживающей кривой (δCp,m, %) не превысили 0.5% в интервале 300–1865 K, увеличиваясь до 2% при самых низких температурах.
Из литературы известно, что в области самых низких температур соединения празеодима претерпевают магнитный фазовый переход, но природа низкотемпературного магнитного состояния может быть различной: антиферромагнитное состояние [25], динамический спиновый лед [26], спиновое стекло и спиновая жидкость [27]. В настоящей работе в области самых низких температур наблюдали пологую аномалию теплоемкости с максимумом ~10 K (рис. 1, вставка). Для оценки энтропии и изменения энтальпии аномалии была определена разность теплоемкости PrMgAl11O19 и суммы теплоемкости изученного нами ранее диамагнитного LaMgAl11O19 [28] и расчетных значений теплоемкости аномалии Шоттки для уровня 50 см–1, полученных ранее для станната празеодима Pr2Sn2O7 [29] (рис. 2). В результате этого в области температур ~23 K выделена пологая линзообразная аномалия теплоемкости, значения энтропии и энтальпии для которой составили Sanom = 3.22 Дж/(моль K) и ΔНanom = 26.3 Дж/моль.
Рис. 2. Теплоемкость в области низкотемпературной аномалии: 1 – теплоемкость PrMgAl11O19, 2 – теплоемкость LaMgAl11O19 [27], штриховая линия – (Ср(LaMgAl11O19) + СSch (50 см–1).
Полученное значение энтропии удовлетворительно согласуется с величиной 3.1 Дж/(моль (Pr) K) для перехода Pr2Sn2O7 в состояние динамического спинового льда [26], хотя теоретическое значение энтропии такого перехода имеет несколько большую величину: Smag = R[ln2 – 0.5ln(3/2)] = 4.1 Дж/(моль (Pr) K).
Сглаженные значения теплоемкости и рассчитанные величины термодинамических функций (энтропии, изменения энтальпии и приведенной энергии Гиббса) в области температур 2–1865 K приведены в табл. 1.
Таблица 1. Стандартные термодинамические функции PrMgAl11O19
T, K | Cp, Дж/(моль K) | H°(T) – H°(0 K), Дж/моль | S°(T) – S°(0 K), Дж/(моль K) | Φ°(T), Дж/(моль K) |
2 | 0.4942 | 0.4790 | 0.4739 | 0.2344 |
3 | 0.7942 | 1.120 | 0.7297 | 0.3564 |
4 | 1.088 | 2.063 | 0.9990 | 0.4832 |
5 | 1.370 | 3.292 | 1.272 | 0.6136 |
6 | 1.649 | 4.803 | 1.547 | 0.7462 |
7 | 1.896 | 6.580 | 1.820 | 0.8802 |
8 | 2.082 | 8.574 | 2.086 | 1.014 |
9 | 2.239 | 10.73 | 2.341 | 1.148 |
10 | 2.390 | 13.05 | 2.584 | 1.279 |
15 | 3.367 | 27.24 | 3.721 | 1.906 |
20 | 4.974 | 47.76 | 4.892 | 2.503 |
25 | 7.502 | 78.53 | 6.254 | 3.113 |
30 | 11.00 | 124.4 | 7.918 | 3.771 |
35 | 15.21 | 189.7 | 9.923 | 4.502 |
40 | 19.87 | 277.3 | 12.25 | 5.322 |
45 | 24.89 | 389.0 | 14.88 | 6.236 |
50 | 30.32 | 526.9 | 17.78 | 7.243 |
60 | 42.99 | 891.1 | 24.39 | 9.535 |
70 | 58.69 | 1397 | 32.15 | 12.20 |
80 | 77.36 | 2075 | 41.18 | 15.24 |
90 | 98.38 | 2952 | 51.48 | 18.68 |
100 | 121.0 | 4048 | 63.01 | 22.53 |
110 | 144.8 | 5376 | 75.65 | 26.78 |
120 | 169.1 | 6945 | 89.29 | 31.41 |
130 | 193.7 | 8759 | 103.8 | 36.42 |
140 | 218.4 | 10820 | 119.1 | 41.77 |
150 | 243.0 | 13130 | 135.0 | 47.45 |
160 | 267.2 | 15680 | 151.4 | 53.43 |
170 | 291.0 | 18470 | 168.3 | 59.69 |
180 | 314.2 | 21500 | 185.6 | 66.21 |
190 | 336.7 | 24750 | 203.2 | 72.95 |
200 | 358.5 | 28230 | 221.1 | 79.91 |
210 | 379.4 | 31920 | 239.0 | 87.06 |
220 | 399.4 | 35810 | 257.2 | 94.38 |
230 | 418.6 | 39900 | 275.3 | 101.8 |
240 | 436.8 | 44180 | 293.5 | 109.5 |
250 | 454.2 | 48640 | 311.7 | 117.2 |
260 | 470.6 | 53260 | 329.9 | 125.0 |
270 | 486.3 | 58050 | 347.9 | 132.9 |
280 | 501.0 | 62980 | 365.9 | 140.9 |
290 | 515.0 | 68070 | 383.7 | 149.0 |
298.15 | 525.87 ± 0.27a | 72308 ± 30a | 398.14 ± 0.15a | 155.62 ± 0.05a |
300 | 528.3 | 73280 | 400.3 | 156.1 |
310 | 540.8 | 78630 | 418.9 | 165.3 |
320 | 552.6 | 84100 | 436.3 | 173.5 |
330 | 563.7 | 89680 | 453.5 | 181.7 |
340 | 574.3 | 95370 | 470.4 | 189.9 |
350 | 584.2 | 101200 | 487.2 | 198.2 |
400 | 626.5 | 131500 | 568.1 | 239.4 |
500 | 683.6 | 197200 | 714.6 | 320.2 |
600 | 719.1 | 267500 | 842.6 | 396.8 |
700 | 743.2 | 340700 | 955.4 | 468.7 |
800 | 761.6 | 415900 | 1056 | 535.9 |
900 | 777.0 | 492900 | 1146 | 598.8 |
1000 | 790.9 | 571300 | 1229 | 657.8 |
1100 | 803.9 | 651100 | 1305 | 713.2 |
1200 | 816.2 | 732100 | 1376 | 765.5 |
1300 | 827.9 | 814300 | 1441 | 815.0 |
1400 | 839.0 | 897600 | 1503 | 862.0 |
1500 | 849.4 | 982000 | 1561 | 906.7 |
1600 | 859.1 | 1067500 | 1616 | 949.3 |
1700 | 868.2 | 1153800 | 1669 | 990.1 |
1800 | 876.6 | 1241100 | 1719 | 1029 |
1865 | 881.7 | 1298200 | 1750 | 1054 |
Примечание. Курсивом выделены значения теплоемкости, полученные в результате экстраполяции уравнения (1) к абсолютному нулю; a значение соответствует стандартному отклонению.
Данные по теплоемкости PrMgAl11O19, полученные методом ДСК, были аппроксимированы с использованием уравнения Майера–Келли [30], которое обычно применяется для описания теплоемкости в области высоких температур:
. (4)
Для оценки применимости правила Неймана–Коппа [17] к описанию теплоемкости PrMgAl11O19 в области высоких температур проанализированы два соотношения:
, (5)
. (6)
В результате установлено, что значения теплоемкости, рассчитанные по соотношениям (5) и (6), согласуются с полученными в настоящей работе данными в пределах 2.5% (рис. 3). Значения теплоемкости оксидов празеодима, магния и алюминия, а также алюмомагниевой шпинели заимствованы из работ [32–34].
Рис. 3. Разность теплоемкостей PrMgAl11O19, определенных в настоящей работе и рассчитанных по правилу Неймана–Коппа: 1 – по соотношению (5) (∆), 2 – по соотношению (6) (○). Штриховая линия 3 соответствует разности в 2.5%.
Магнитные свойства в области аномалии теплоемкости
Для измерений динамической магнитной восприимчивости использовали тот же образец PrMgAl11O19, что и для изучения теплоемкости. Измерения образца в нулевом внешнем магнитном поле показали, что зависимости динамической магнитной восприимчивости от температуры имеют вид, характерный для парамагнетиков, во всем диапазоне температур 2–300 K (рис. S5).
Магнитные аномалии на действительных компонентах динамической магнитной восприимчивости (χʹ) при всех значениях частот и амплитуд модуляции переменного магнитного поля отсутствуют как в нулевом внешнем магнитном поле, так и в поле напряженностью 1000 Э. В то же время на температурных зависимостях мнимых компонент динамической магнитной восприимчивости (χʺ) при частотах переменного магнитного поля 500–2100 Гц обнаруживается отчетливый сигнал при температурах 7–8 K (рис. 4, S6–S9).
Рис. 4. Температурные зависимости действительной (χʹ, пустые символы) и мнимой (χʺ, заполненные символы) частей динамической магнитной восприимчивости образца PrMgAl11O19 в нулевом магнитном поле при различных частотах. Амплитуда переменного магнитного поля 1 Э.
Положение максимума на температурной зависимости χʺ при увеличении частоты переменного магнитного поля смещается в область более высоких температур (рис. 4, 5). Изменение амплитуды модуляции с 1 на 10 Э, как и приложение внешнего магнитного поля напряженностью 1000 Э, не оказывает существенного влияния на вид зависимостей χʺ (рис. S7, S8).
Рис. 5. Температурные зависимости мнимой компоненты динамической магнитной восприимчивости образца PrMgAl11O19 в магнитном поле 1000 Э при различных частотах. Амплитуда переменного магнитного поля 1 Э.
Следует отметить, что величина χʺ при 8 K более чем в 50 раз меньше сигнала χʹ при той же температуре (рис. 4). При этом положение сигнала на χʺ точно совпадает с максимумом на аномалии теплоемкости (рис. 2).
Неудовлетворительные соотношения сигнал/шум на температурных зависимостях χʹ при частоте 100 Гц (рис. S5) и температурных зависимостях χʺ при частотах <500 и >2500 Гц могут быть обусловлены возможностями используемого оборудования на низких частотах модуляции магнитного поля (100 Гц) или иными факторами, способными приводить к локальному разогреву образца при высоких частотах и амплитудах переменного магнитного поля.
Изменение положения максимума на температурных зависимостях χʺ при изменении частоты переменного магнитного поля (рис. 4, 5, S8, S9) может быть рассмотрено как признак спин-стекольного поведения, однако отсутствие влияния напряженности внешнего магнитного поля на положение максимума (рис. S8) не позволяет подтвердить это предположение. Сам факт наличия максимума на χʺ(Т) указывает на медленную релаксацию намагниченности в PrMgAl11O19, однако соотношение χʹ/χʺ не позволяет говорить о медленной магнитной релаксации всех парамагнитных центров, содержащихся в исследуемом образце.
Выполненные исследования магнитных свойств не дали однозначного ответа на природу аномалии теплоемкости и магнитного состояния PrMgAl11O19 в области самых низких температур.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате изучения теплоемкости гексаалюмината магния-празеодима со структурой магнетоплюмбита тремя калориметрическими методами впервые получена согласованная температурная зависимость Cp(T), на основании которой рассчитаны термодинамические функции PrMgAl11O19 в интервале температур 2–1865 K. Исследование магнитных свойств с использованием метода динамической магнитной восприимчивости подтвердило наличие сигнала на температурной зависимости мнимой компоненты магнитной восприимчивости χʺ(Т).
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 23-13-00051).
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Онлайн-версия содержит дополнительные материалы, доступные по адресу https://doi.org/10.31857/S0044457X24100072
Об авторах
П. Г. Гагарин
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: gagarin@igic.ras.ru
Россия, Ленинский пр-т, 31, Москва, 119991
А. В. Гуськов
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН
Email: gagarin@igic.ras.ru
Россия, Ленинский пр-т, 31, Москва, 119991
В. Н. Гуськов
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН
Email: gagarin@igic.ras.ru
Россия, Ленинский пр-т, 31, Москва, 119991
А. В. Хорошилов
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН
Email: gagarin@igic.ras.ru
Россия, Ленинский пр-т, 31, Москва, 119991
Н. Н. Ефимов
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН
Email: gagarin@igic.ras.ru
Россия, Ленинский пр-т, 31, Москва, 119991
К. С. Гавричев
Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН
Email: gagarin@igic.ras.ru
Россия, Ленинский пр-т, 31, Москва, 119991
Список литературы
- Lu H., Wang C.-A., Zhang C. // Ceram. Int. 2014. V. 40. P. 16273. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2014.07.064
- Gadow R., Lischka M. // Surf. Coat. Technol. 2002. V. 151–152. P. 392. https://doi.org/10.1016/S0257-8972(01)01642-5
- Bansal N.P., Zhu D. 2008. V. 202. P. 2698. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2007.09.048
- Zhang Y., Wang Y., Jarligo M.O. et al. // Opt. Lasers Eng. 2008. V. 46. P. 601. https://doi.org/10.1016/j.optlaseng.2008.04.001
- Friedrich C., Gadow R., Schirmer T.J. // Therm. Spray Technol. 2001. V. 10. P. 592. https://doi.org/10.1361/105996301770349105
- Liu Z.-G., Ouyang J.-H., Zhou Y. // J. Alloys Compd. 2009. V. 472. P. 319. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2008.04.042
- Iyi N., Takekawa S., Kimura S. // J. Solid State Chem. 1989. V. 83. P. 8. https://doi.org/10.1016/0022-4596(89)90048-0
- Lee K.N. Protective Coatings for Gas Turbines, The Gas Turbine Handbook, Section 4.4.2, U.S. Department of Energy, NETL, 2006, p. 431.
- Wang Y.-H., Ouyang J.-H., Liu Zh.-G. // J. Alloys Compd. 2009. V. 485. P. 734. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2009.06.068
- Chen X., Gu L., Zou B. et al. // Surf. Coat. Technol. 2012. V. 206. P. 2265. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2011.09.076
- Cao X.Q., Zhang Y.F., Zhang J.F. et al. // J. Eur. Ceram. Soc. 2008. V. 28. P. 1979. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2008.01.023
- Halvarsson M., Langer V., Vuorinen S. // Surf. Coat. Technol. 1995. V. 76–77. P. 358. https://doi.org/10.1016/0257-8972(95)02558-8
- Doležal V., Nádherný L., Rubešová K. et al. // Ceram. Int. 2019. V. 45. P. 11233. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2019.02.162
- Lefebvre D., Thery J., Vivien D. // J. Am. Ceram. Soc. 1986. V. 69. P. 289. https://doi.org/10.1111/j.1151-2916.1986.tb07380.x
- Kahn A., Lejus A.M., Madsac M. et al. // J. Appl. Phys. 1981. V. 52. P. 6864. https://doi.org/10.1063/1.328680
- Lu X., Yuan J., Xu M. et al. // Ceram. Int. 2021. V. 47. P. 28892. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2021.07.050.
- Lu H., Wang C.-A., Zhang C., Tong S. // J. Eur. Ceram. Soc. 2015. V. 35. P. 1297. http://dx.doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2014.10.030
- Leitner J., Voňka P., Sedmidubský D., Svoboda P. // Thermochim. Acta. 2010. V. 497. P. 7. https://doi.org/10.1016/j.tca.2009.08.002
- Guskov V.N., Tyurin A.V., Guskov A.V. et al. // Ceram. Int. 2020. V. 46. P. 12822. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.02.052.
- Гагарин П.Г., Гуськов А.В., Гуськов В.Н. и др. // Журн. неорган. химии. 2023. Т. 68. № 11. С. 1607.
- Рюмин М.А., Никифорова Г.Е., Тюрин А.В. и др. // Неорган. материалы. 2020. Т. 56. № 1. С. 102. https://doi.org/10.31857/S0002337X20010145
- Voskov A.L., Kutsenok I.B., Voronin G.F. // Calphad. 2018. V. 16. P. 50. https://doi.org/10.1016/j.calphad.2018.02.001
- Voronin G.F., Kutsenok I.B. // J. Chem. Eng. Data. 2013. V. 58. P. 2083. https://doi.org/10.1021/je400316m
- Prohaska T., Irrgeher J., Benefield J. et al. // Pure Appl. Chem. 2022. V. 94. P. 573. https://doi.org/10.1515/pac-2019-0603
- Colwelland J.H., Magnum B.W. // J. Appl. Phys. 1967. V. 38. P. 1468.
- Zhou H.D., Wiebe C.R., Janik J.A. et al. // Phys. Rev. Lett. 2008. V. 101. P. 227204. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.101.227204
- Greedan J.E. // J. Alloys Compd. 2006. V. 408–412. P. 444. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2004.12.084
- Гагарин П.Г., Гуськов А.В., Гуськов В.Н. и др. // Журн. неорган. химии. 2024. Т. 69. № 6. (в печати)
- Тюрин А.В., Хорошилов А.В., Рюмин М.А. и др. // Журн. неорган. химии. 2020. Т. 65. № 12. С. 1668. al.
- Maier C.G., Kelley K.K. // J. Am. Chem. Soc. 1932. V. 54. P. 3243. https://doi.org/10.1021/ja01347a029
- Gruber G.B., Justice B.H., Westrum E.F., Zandi B. // J. Chem. Thermodyn. 2002. V. 34. P. 457. https://doi.org/ 10.1006/jcht.2001.0860
- Chase M.W. Jr. NIST-JANAF Thermochemical Tables. Am. Chem. Soc., 1998.
- Barin I. Thermochemical Data of Pure Substances. Weinheim: VCH, 1995.
- Ditmars D.A., Ishihara S., Chang S.S. et al. // J. Res. Natl. Bur. Stand. 1982. V. 87. P. 159.
Дополнительные файлы