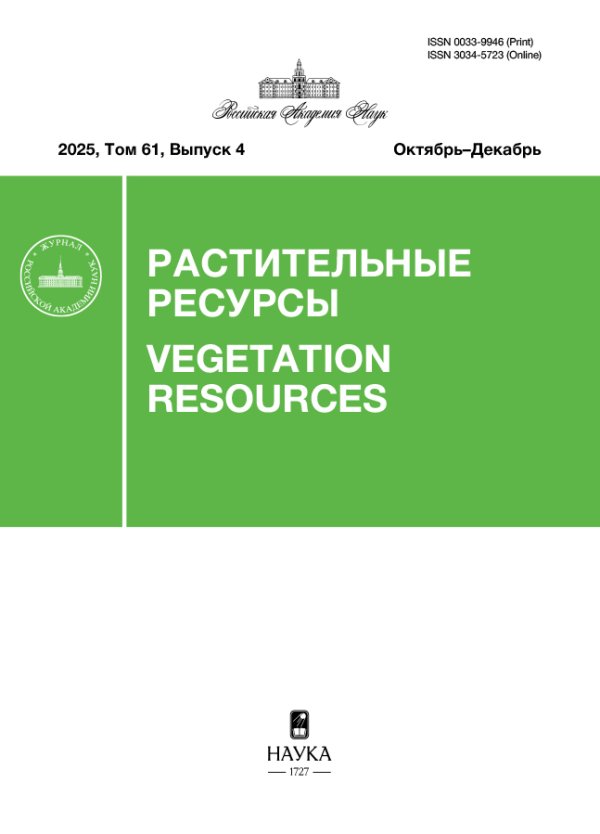Reindeer pasture vegetation studies: history and basic approaches in modern research
- Authors: Karsonova D.D.1
-
Affiliations:
- Komarov Botanical Institute RAS
- Issue: Vol 60, No 2 (2024)
- Pages: 21-41
- Section: Articles
- URL: https://bakhtiniada.ru/0033-9946/article/view/277557
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0033994624020027
- EDN: https://elibrary.ru/PYYZUP
- ID: 277557
Cite item
Full Text
Abstract
It highlights the main directions of vegetation studies in the USSR and Russia, the USA, Canada, Sweden, Norway and Finland in 20th century. The article also discusses modern approaches in this field, outlines the main trends of research, and provides an overview of recent publications on the most promising directions.
Keywords
Full Text
Вопросы оценки состояния растительности пастбищ и ее изменения под влиянием оленеводства относятся к важным направлениям научных исследований в государствах арктической зоны, поскольку оленеводство служит основой жизнедеятельности коренного населения районов Крайнего Севера. Пастбища северного оленя занимают значительную часть (335.2 млн га, 19.6% земельного фонда страны) северных территорий нашей страны [1]. Будучи основной ресурсной базой Арктики, пастбища являются уникальным объектом исследований в силу своей динамичности из-за географических и климатических особенностей. Работы советских геоботаников [2—4 и др.] по изучению оленьих пастбищ легли в основу современных подходов по изучению растительности российской Арктики.
ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПАСТБИЩ ПРИПЕЧОРСКИХ ТУНДР В XX ВЕКЕ
Изучение растительности восточноевропейских тундр связывают, в первую очередь, с именами таких исследователей, как А. Шренк [2] и Г. И. Танфильев [3], заложившими основу для последующей работы нескольких поколений геоботаников. В 1837 г. А. Шренк осуществил свою первую экспедицию на ранее не исследованные территории припечорских тундр (Большеземельская тундра), во время которой сделал ряд важных ботанических открытий, уделив внимание продвижению некоторых древесных пород на север, островным участкам леса в тундре, описал 352 вида растений. Исследователем впервые была предпринята попытка районирования тундр, подробно описана практика тундрового оленеводства, изучен ресурсный потенциал тундровой растительности. Кроме того, он одним из первых заинтересовался вопросом распространения многолетнемерзлых пород, измеряя толщину промерзания на ключевых участках [2].
Впоследствии Г. И. Танфильев (1892 г.) проводил исследования на территории Малоземельской (Тиманской) тундры, детально описал растительность Припечорья и обработал внушительный объем данных о тундрах, имеющихся в мировой литературе. Результаты исследований, проведенных Г. И. Танфильевым в Тиманской тундре, были опубликованы в 1894 г. в статье [4], представлявшей собой предварительный отчет об экспедиции. В одной из работ [5] ученым охарактеризованы метеорологические условия изучаемой территории, предпринята попытка типизации растительности тундр с выделением: 1) тундры каменистой; 2) торфяно-кочкарной; 3) пятнистой, или лысой (глинистой или песчаной) и 4) торфяно-бугристой. По его мнению, на этой территории наибольшее распространение имеет торфяно-бугристая тундра. Приводя подробное описание различных «типов растительности» тундровой зоны, исследователь детально объясняет процесс формирования бугристой торфяной тундры и подробно останавливается на причинах отступления к югу полярной границы лесов в Тиманской тундре. Причиной, ведущей к уничтожению лесов вдоль южных окраин Тиманской тундры, по мнению Г. И. Танфильева, служит процесс заболачивания почвы, приводящий к повышению горизонта залегания многолетнемерзлых пород.
В советское время наступает новый этап в изучении растительности пастбищ припечорских тундр. Было проведено комплексное изучение всего Крайнего Севера, в котором для Большеземельской тундры необходимо отметить вклад А. А. Григорьева [6]. Исследователь впервые установил моренный характер возвышенностей, уточнил положение северной границы древесной растительности, определил основные закономерности в процессе почвообразования и формирования микрорельефа тундры. Вместе с промышленным освоением Севера с 1930-х годов начинаются комплексные геоботанические исследования для решения многих практических задач. Значительный вклад в инвентаризацию пастбищ внес Институт оленеводства (НИИ Оленеводства) при ВАСХНИЛ. Была организована комплексная экспедиция по изучению растительности оленьих пастбищ восточноевропейских тундр. На востоке Малоземельской тундры в 1930 г. в районе Ненецкой гряды на водоразделе озера Голодная губа и р. Нерута работал отряд Ф. В. Самбука; год спустя в северо-восточной части Малоземельской тундры между Печорской и Колоколковой губой работал отряд А. И. Лескова, параллельно с ними отряд А. А. Дедова обследовал бассейны рр. Седуиха и Нерута. Результаты этих экспедиций отражены в ряде публикаций [7, 8 и др.], благодаря которым была установлена граница лесотундры и прослежена динамика ее продвижения. Полоса лесотундры охарактеризована исследователями как территория со смешанной растительностью, которая представляла собой переход от южных тундр к зоне таежных лесов. Она была ограничена, с одной стороны, типичными тундровыми сообществами с ерником, а с другой — лесными массивами. Лесные острова, заходящие в подзону южных тундр, было принято считать северной границей для полосы лесотундры [7]. В своей работе, посвященной растительности Тиманской тундры (в последствии уточненной и изданной под редакцией Н. В. Матвеевой), А. А. Дедов подробно описал все типы растительных сообществ и определил их важнейшие экологические характеристики, опубликовал геоботанические описания с оценкой обилия для всех видов, процентом покрытия и высотой ярусов [8]. Во всех подзонах тундр А. А. Дедов выделил сообщества тундр (лишайниковые, моховые, кустарничковые), кустарников (ольховники, ивняки, ерники, заросли можжевельника), болот (торфяно-кочкарные тундры, грядово-мочажинные тундры, крупнобугристые болота, низинные (осоковые) болота), лугов (кочкарные, луговины, долинные, приморские или тампы), лесов и редколесий (сосновые, лиственничные, еловые леса и редколесья, березовые редколесья). Для каждого из сообществ он дал исчерпывающую характеристику, привел факторы формирования ценозов, определил их приуроченность к элементам ландшафта и эдафические характеристики [8]. Исследования А. А. Дедова по кормовой базе оленеводства начались в 1928 г. с Тиманской тундры [9]. Кроме того, были изданы два сборника «Оленьи пастбища Северного края». В первом из них, вышедшем в 1931 г., была опубликована статья А. А. Дедова «Оленьи пастбища Тиманской тундры», а во втором (1933 г.) — статья «Летние оленьи пастбища восточной части Малоземельской тундры» [9, 10].
В 1932 г. в г. Нарьян-Мар была организована Оленеводческая сельскохозяйственная опытная станция для разработки основ ведения хозяйства и ботанико-топографического обследования Крайнего Севера. Станция должна была проводить экспедиции и вырабатывать мероприятия по совершенствованию хозяйства, поскольку одни лишь экспедиционные исследования уже не справлялись с решением многих важных практических вопросов. В 1935 г. было решено организовать отдел оленеводства во Всесоюзном Арктическом институте. Кроме того, предполагалось значительное расширение исследовательской работы путем усиления зоотехнических работ, изучения биологии оленя и его кормовой базы. Стоит отметить, что все основные исследования оленьих пастбищ припечорских тундр с этого момента были связаны с деятельностью станции. Реформирование работы станции в г. Нарьян-Маре было проведено А. А. Дедовым. Хотя большая загруженность организационной деятельностью на станции и отразилась на его публикационной активности, результаты работ отражены в годовых отчетах, которые до настоящего времени хранятся в архивах станции. Стоит подчеркнуть, что именно с участием А. А. Дедова значительное внимание в исследованиях стали уделять изучению тундровой растительности и пастбищ с акцентом на кормовую характеристику видов и распределению пастбищ по сезонам. В работе по летним пастбищам восточной части Малоземельской тундры А. А. Дедов [10] приводит подробный физико-географический очерк района, а также впервые для этой территории — подробные метеорологические данные, которые позволили ему обобщить информацию о климатических особенностях района исследования. Были установлены средние величины проективного покрытия для разных кормовых групп растений во всех растительных сообществах. Интересны выводы и наблюдения, к которым пришел А. А. Дедов при описании торфяно-бугристого типа тундр: 1) по окраине бугров оттаивание мерзлоты глубже, заметна разница между южными и северными краями; 2) сплошной растительный покров повышает уровень мерзлоты в буграх: в наибольшей степени ерник и морошка, в наименьшей — лишайники; 3) под кустами ерника наблюдается резкое повышение уровня мерзлоты, которое в свою очередь объясняется затенением почвы, поглощением солнечных лучей листовой поверхностью кустарника, наличием у поверхности почвы под кустами малоподвижного слоя воздуха, который менее теплопроводен, чем сам торф [10].
При описании пастбищных угодий первого Ненецкого оленеводческого колхоза и в обобщающей публикации по всем кормовым угодьям Ненецкого округа Ф. В. Самбук [11] представил важные сведения по районированию восточноевропейских тундр, детально охарактеризовал кормовые виды, дал оценку изменения растительности под воздействием выпаса домашнего оленя. В своей работе по методике маршрутного обследования тундровых пастбищ, Ф. В. Самбук [12] классифицирует основные растительные сообщества тундр, объясняет подходы к определению типа тундры, дает оценку роли микрорельефа и экологических характеристик местообитаний в формировании тундровых сообществ. Методика Ф. В. Самбука дает возможность установить кормовую значимость того или иного типа растительного сообщества на основе характеристик фитомассы и ее объема на единицу площади, позволяет выделить наиболее предпочтительные и значимые кормовые виды. Автор впервые приводит подробное разъяснение особенностей работы исследователя-геоботаника в тундре, дает обоснование для расчета проективного покрытия, описывает динамику тундровых сообществ под воздействием многолетнего выпаса оленя, уделяя внимание ландшафтным особенностям. В частности, им предложено привязывать типы тундр к геоморфологическим районам, определяя их связь с особенностями рельефа и характеристиками субстрата [7]. Он первым обращает внимание на необходимость определения природы изменений в растительном покрове, будь то изменение состава растительного сообщества в ходе выпаса, или же в связи с естественными процессами.
Ф. В. Самбук впервые разделяет пастбища по категориям сезонности: к зимним пастбищам отнесены следующие типы тундр: 1) песчано-лишайниковая тундра; 2) лишайниково-кустарничковая, торфяно-лишайниковая; к летним пастбищам: 1) луговинная тундра; 2) мохово-пятнистая тундра; 3) дерновинная тундра; 4) злаково-дернистая тундра; 5) моренно-кочковатая тундра; 6) ивняки; 7) осочники; 8) эрозионные комплексы; 9) поемные луга; к переходным: 1) мочажинные комплексы; 2) ерники. Для каждого из сезонов он подготовил бонитировочные шкалы и объяснил принципиальные различия сезонности, а также важность чередования нагрузки и отдыха для пастбища [11]. Исследователь первым замечает вытеснение лишайников другими видами при перевыпасе, в частности, полное исчезновение кормовых лишайников (Cladonia rangiferina, C. stellaris) и преобладание видов цетрариевых лишайников (Flavocetraria nivalis) на пастбищах с многолетним интенсивным выпасом. Он подчеркивает, что растительность на некоторых субстратах наиболее подвержена вытаптыванию, отмечает появление накипных лишайников, не представляющих кормового значения на вытоптанных элементах нанорельефа.
В 1930 г. растительность и флору района, прилегающего к Болванской Губе (Вангурейская возвышенность), изучал В. Н. Андреев, который дал описание растительности пастбищ Большеземельской тундры и определил их кормовые характеристики. В. Н. Андреев, как и Ф. В. Самбук, являлся сотрудником Нарьян-Марской сельскохозяйственной станции. Он — автор трудов по геоботаническому районированию тундровой зоны, а также целого ряда работ, посвященных исследованию пастбищ северного оленя [13—22 и др.]. Его научно-исследовательская работа, посвященная геоботаническому районированию восточноевропейской тундры, а также разработанная им методика воздушно-глазомерного обследования пастбищ (в масштабе 1: 200 000) создали основу для современных дистанционных исследований с применением беспилотных летательных аппаратов (далее — БПЛА) и анализом спутниковых снимков [16].
Помимо этого, В. Н. Андреев активно использовал в своей работе метод укосов, и одним из первых подготовил таблицы кормовых растений Субарктики с указанием запаса надземной фитомассы, проективного покрытия и высоты растений [19]. Отчетливая корреляция запасов надземной фитомассы с занимаемой площадью и высотой растительного покрова была установлена ещё Л. Г. Раменским [20]. В. Н. Андреев был не первым, кто стал изучать продуктивность фитомассы в зоне тундр, но именно ему, с привлечением материалов предшественников, удалось обобщить эти данные и подготовить обзор основных результатов исследований припечорских тундр в контексте использования пастбищ и расчета их оленеёмкости. В своей работе «Кормовые ресурсы оленеводства…» [21] он впервые дал подробную экономическую характеристику пастбищ обширной территории — от Вангурейской возвышенности до долины р. Куи и Припечорской низменности. Им подготовлены и опубликованы таблицы с подробным расчетом оленеёмкости для территорий, на которых осуществляли выпас сразу несколько оленеводческих совхозов: «Харп», «Полоха», «Кара-харбей». В. Н. Андреев впервые выполнил детальное районирование этой территории, охарактеризовал сезонные различия кормовой ценности для всех типов тундр на основе данных о проективном покрытии разных кормовых групп растений [15]. В своей работе он много внимания уделил причинам сезонной динамики в связи с климатическими изменениями, разностью субстратов и т. д. В. Н. Андреев подробно раскрыл значение понятия «оленеёмкость» и основной принцип ее определения на основе учета следующих факторов: 1) потребности одного оленя в кормовых единицах в определенный промежуток времени; 2) продолжительности периода выпаса или кормления; 3) кормовой продукции. Он подчеркивал, что недостаточно установить норму потребности оленя в кормовых единицах и кормовую продукцию пастбищ на данном отрезке времени, необходимо рассматривать пастбища в процессе их развития и взаимодействия с выпасаемыми оленями. Еще в 1930-х годах геоботаники отмечали, что практически вся растительность тундр в той или иной степени находится под воздействием выпаса, а участки, где растительный покров не изменён, уже тогда были большой редкостью. В связи с этим В. Н. Андреев и А. А. Дедов говорили о важности изолирования определенных районов тундр от выпаса, не просто на время, а на постоянной основе для создания охраняемых природных территорий.
В. Н. Андреев выступил автором методического пособия по организации и использованию пастбищ в северном оленеводстве [19]. Пособие было рассчитано на широкий круг читателей, в нем дана краткая физико-географическая характеристика всех районов, в которых на тот момент осуществлялось оленеводство. По сезонам и типам растительности описаны все кормовые виды растений, указана их ценность для оленя. Автор сжато и четко указал основные пункты, без которых грамотное оленеводство и рациональное использование тундр невозможно: правильное сезонное использование пастбищ, сохранение системности в выпасе, правильное проведение инвентаризации на пастбищах, расчёт пастбищеоборота и непременное улучшение и оборудование пастбищ под нужды конкретных стад; в конце пособия приведена таблица с кормовыми видами.
Б. Н. Городков был одним из советских геоботаников-тундроведов, изучавших растительность припечорских тундр. С 1932 г. он возглавлял отдел геоботаники и кормов в созданном по его инициативе Институте оленеводства ВАСХНИЛ. В работе Б. Н. Городкова [23] отражены уточненные подходы к районированию пастбищ, ранее описанные у Ф. В. Самбука, ему удалось продолжить и развить тему районирования и бонитировки. Исследователь выполнил районирование всей территории тундровой зоны страны. В монографии «Растительность тундровой зоны СССР», Б. Н. Городков особое внимание уделил связям между распределением многолетнемерзлых пород и почвенно-растительным покровом [24]. Несмотря на то, что работы Б. Н. Городкова, посвещенные изучению растительности оленьих пастбищ, не столь многочисленны, как работы В. Н. Андреева или Ф. В. Самбука, они сыграли большую роль в решении вопросов их рационального использования.
Огромный вклад в изучение растительности припечорских тундр и пастбищ внес Г. И. Карев, оценивший их кормовые характеристики на территории Ненецкого АО (далее НАО). Он, также как В. Н. Андреев и Ф. В. Самбук, был сотрудником Нарьян-Марской сельскохозяйственной станции. В архивах станции сохранилось множество отчетов, рукописей и большой личный архив Г. И. Карева. Исследователь большое внимание уделял изучению роли лишайников в рационе северного оленя. Он детально изучил виды кормовых лишайников, их прирост и влагоемкость. Под руководством Г. И. Карева было проведено множество экспериментов с применением ростовых веществ для ускорения роста кустистых лишайников. В ходе экспериментов было выяснено, что ни одно из удобрений, кроме хлористого калия, не стимулировало рост и развитие лишайников, напротив, они действовали в целом негативно. При изучении влагоёмкости лишайников исследователем было отмечено, что им необходимо именно достаточное увлажнение, поскольку избыточное негативно отражается на состоянии нижней части таллома лишайника, вызывая ее гниение. При заболачивании тундр кормовые виды лишайников постепенно гибнут, а при иссушении тундры таллом лишайников становится очень хрупким и легко ломается. В периоды достаточного увлажнения лишайники чувствуют себя наиболее комфортно, более интенсивно растут и поглощают углекислый газ. Г. И. Карев детализировал сезонное районирование пастбищ. Он разделил, в частности, весенний сезон на ранневесенний (период отела), для которого выделил наиболее подходящие для выпаса типы тундр, и поздневесенний, который определил как время перехода на летние зелёные пастбища. В его отчетах уделяется внимание определению периодов отдыха пастбищ (на основе характера лишайникового покрова), которые различны для тундровой, лесотундровой и таежной зон. Впоследствии, с наращиванием производства, Г. И. Кареву приходилось регулярно пересчитывать и обновлять данные по пастбищам, делать перерасчёты для укрупнённых стад. В 1956 г. вышла его работа «Корма и пастбища северного оленя» под редакцией В. Н. Андреева [25].
В работе Нарьян-Марской сельскохозяйственной станции принимал участие советский геоботаник В. В. Уткин. В архивах станции сохранились детальные отчеты, позволяющие оценить значимость его вклада в изучение оленьих пастбищ. Спустя более чем 40 лет этот исследователь решил повторить маршрут А. А. Дедова, совершенный в 1930 г. по Малоземельской тундре [26], обосновав необходимость повторных исследований изменением состояния растительных сообществ пастбищ разных категорий за прошедшие десятилетия. Цель состояла в изучении процессов, происходящих в растительном покрове и обогащении пастбищ новыми, более ценными, в кормовом отношении, видами. Группа исследователей прошла по маршруту экспедиции 1930 г. и провела более детальное обследование всех летних и осенних пастбищ в восточном районе Малоземельской тундры. Работа базировалась на материалах, полученных в ходе наземного геоботанического маршрута, при сравнении были использованы контуры, выделенные ранее на основе аэровизуальных методов. Сотрудниками экспедиции под руководством В. В. Уткина были обследованы 74 геоботанических контура на площади более 50 тыс. га. Были составлены две карты-схемы растительности пастбищ обследованного района [26], одна по данным 1953 г., а вторая — по данным 1974 г.
Сравнительный анализ показал, что проективное покрытие лишайников снизилось наполовину (47.4%), плотность лишайникового покрова внутри контура также упала на 18.2%. Меньше всего плотность лишайникового покрова снизилась на поздневесенних пастбищах, а в наибольшей степени — на раннеосенних. Высота живой части лишайников больше всего снизилась на поздневесенних пастбищах, где она первоначально составляла 2.3 см, а спустя 20 лет — 1.5 см. В отчете авторы отметили, что в некоторых районах происходят процессы «отравянивания» тундры, которые отчасти компенсируют падение запасов лишайниковых кормов за счет появления ценных в кормовом отношении зеленых растений. По результатам исследования В. В. Уткиным и его коллегами было принято решение ввести обязательный трехлетний пастбищеоборот [27].
В своих работах В. В. Уткин [27, 28] выделяет проблему зарастания зимних оленьих пастбищ на припечорских песках на фоне многолетнего выпаса. За первоначальные данные были взяты 19 геоботанических описаний Ф. В. Самбука [29]. Последний различал условно пять стадий зарастания песков, где прежде размещалась часть зимних пастбищ: 1-я стадия — надвигание кустарников на открытые пески, подготовка субстрата к появлению мхов, лишайников и высших растений; 2-я стадия — сплошной покров мхов (Polytrichum piliferum) и появление лишайников; 3-я стадия — сомкнутый покров из березы (Betula tortuosa); 4-я стадия — кустарничковая (Empetrum, Arctous, Loiseleuria) с выпадением лишайников; 5-я стадия — на кустарничковый и лишайниковый покров надвигаются Betula nana и B. tortuosa. По результатам повторных описаний В. В. Уткин пришел к выводу, что видовой состав претерпел значительные изменения, половина открытого песчаного субстрата стала зарастать лишайниками, разнотравьем и злаками. При этом лишайниково-моховый покров сменился покровом с преобладанием Festuca ovina и участием кустарников. Исследователь пишет, что несмотря на длительный выпас, в обследованном районе в окрестностях г. Нарьян-Мар кормовые запасы возросли в связи с повышеним покрытия лишайникового и травяно-кустарничкового покрова. Интересно предположение В. В. Уткина о том, что злаково-кустарничковая фаза может перейти в фазу кустарниковую, характеризующуюся слабым оподзоливанием почвы [28].
Одна из фундаментальных работ по кормовым ресурсам Арктики принадлежит В. Д. Александровой. Под её редакцией в 1940 г. в Трудах Института Полярного земледелия вышла статья «Кормовая характеристика растений Крайнего Севера» [30], впоследствии доработанная и вышедшая с дополнениями в 1964 г. Эта работа представляет собой крупнейшую сводку по видам ресурсных растений, произрастающих на советском севере. Она является важнейшим этапом в изучении растительности северных территорий: приведенные в ней данные до настоящего времени сохраняют актуальность для исследователей.
В связи с геоботаническими исследованиями тундр следует отметить важные результаты, полученные И. Д. Богдановской-Гиенэф. Несмотря на то, что она не работала в районе припечорских тундр, её работы по растительности о-ва Колгуев (Баренцево море) [31, 32] имели большое значение для исследований сотрудников Лаборатории Крайнего Севера Ботанического института им. В. Л. Комарова АН СССР. И. Д. Богдановской-Гиенэф была подготовлена схематическая карта растительности острова, на которой она выделила 8 геоботанических районов, различающихся соотношением формаций или их классов и имеющих разное пастбищное значение, определила запасы фитомассы лишайников и зеленых растений в растительных ассоциациях и рассчитала оленеёмкость пастбищ всех сезонов выпаса. Впоследствии, И. А. Лавриненко, О. В. Лавриненко, С. С. Холод, С. А. Уваров, работавшие в этом районе, включали в обработку не только геоботанические описания, выполненные И. Д. Богдановской-Гиенэф, но и учитывали её районирование острова при картографировании растительности пастбищ на основе дешифрирования материалов спутниковых снимков [33—35].
ИЗУЧЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПАСТБИЩ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ В XX ВЕКЕ (США, КАНАДА, НОРВЕГИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, ШВЕЦИЯ)
Значительный вклад в изучение растительности пастбищ в XX в. внесли исследователи-геоботаники ряда зарубежных стран. Следует отметить, что особенности выпаса оленей и подходы к изучению растительности в этих странах, значительно отличаются от описанных выше, что делает затруднительным сравнение их данных с результатами исследований пастбищ восточноевропейских тундр. Так, в США олени породы карибу обитают на территории Аляски, где, по сравнению с Россией, площадь пастбищ невелика. Исследования на Аляске проводились в начале XX в., в частности, Л. Палмером [36] были рассмотрены основные подходы в оленеводстве с конца XIX в. до начала XX в. Автор охарактеризовал распределение кормовых видов растений по сезонам (в том числе с детальной инвентаризацией лишайников), а также упомянул влияние климатических изменений на состояние пастбищ. Он провел ряд экспериментов по изменению состава кормов оленя карибу, а также изучал динамику растительного покрова пастбищ, уделяя при этом особое внимание лишайниковым пастбищам. Позднее вышла работа J. G. Dickson [37] о кормовых растениях и почвах пастбищ на юге Аляски.
- E. Pegau [38] занимался изучением изменения состояния лишайникового покрова при различных вариантах использования территорий пастбищ, а также выявлением наиболее предпочтительных для карибу видов лишайников. Кроме этого, исследователь уделял внимание особенностям восстановления лишайников после выпаса и вытаптывания. Ссылаясь на В. Н. Андреева, и свои предыдущие работы, R. E. Pegau замечает, что для кустистых лишайников рода Cladonia средний ежегодный прирост составляет около 5 мм, и для полного восстановления лишайникам необходимо по меньшей мере 10 лет [39].
В Канаде в 1920-х гг. была проведена экспедиция под названием The Great Canadian Reindeer Project, поскольку в этот период отмечалась очень низкая численность карибу. По результатам работ было принято решение о переводе нескольких тысяч особей оленей карибу с территории Аляски. В 1926 г., по поручению канадского правительства, датский ботаник A. E. Porsild исследовал растительность западной части канадской Арктики в поисках оптимальных территорий с наиболее подходящими пастбищами для дальнейшего разведения оленя карибу. Его выбор пал на дельту реки Маккензи, растительный покров которой был описан в его трудах [40, 41].
Изучение растительности пастбищ северного оленя проводили и в скандинавских странах (Финляндия, Норвегия, Швеция). В 1932 г. вышла работа W. Leach, в которой были представлены результаты изучения растительности пастбищ Лапландии на территории Финляндии, Швеции и Норвегии. Исследуемая территория была разделена на несколько районов, подготовлены списки видов лишайников, мхов и сосудистых растений для разных типов растительности, приведены подробные экологические характеристики местообитаний [42].
В книге F. Skuncke [43], которая до настоящего времени не теряет актуальности, систематизированы и охарактеризованы подходы к ведению оленеводства в Швеции, приведены описания оленьих пастбищ по сезонам и типам ландшафтов. Эта комплексная работа, затрагивающая все аспекты оленеводства, стала одной из главных классических монографий по данной теме на английском языке, на которую традиционно ссылаются многие зарубежные исследователи.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПАСТБИЩ
В настоящее время изучением растительности оленьих пастбищ севера России и, в частности, припечорских тундр, занимаются многие исследователи, но преимущественно в рамках работ по Договорам с нефтегазодобывающими компаниями, другими землепользователями и администрациями субъектов РФ. К сожалению, вследствие ограниченных сроков выполнения проектов и недостатка времени для серьезного анализа данных, результаты этих работ часто не могут быть основой полноценных научных публикаций. Кроме этого, следует учитывать удаленность и труднодоступность многих арктических территорий, где развито оленеводство, и необходимость значительных финансовых затрат на проведение длительных полевых работ. По-видимому, это основные причины относительно небольшого числа публикаций по растительности оленьих пастбищ за последние десятилетия, по сравнению с обилием работ 1930—1960-х гг.
Вместе с тем, нужно отметить значительное разнообразие современных подходов к изучению растительного покрова оленьих пастбищ. В обзоре финских коллег [44] отражены исследования со статистической обработкой материалов, опубликованные в период 1995—2015 гг. Обзор позволяет ознакомиться с основными методиками и направлениями исследований по оценке влияния выпаса северного оленя на динамику растительного покрова. В обзор включены публикации на семи языках (английский, финский, шведский, датский, норвежский, немецкий и русский). Авторы анализировали следующие параметры: высоту над уровнем моря; среднегодовую температуру; среднегодовое количество осадков; влажность почвы (сухая/мезогенная/влажная); тип почвы/коренных пород; тип растительности; подвид северного оленя; сезонность выпаса северных оленей; статус одомашнивания северного оленя; контроль присутствия и видовой принадлежности других травоядных животных (для мелких травоядных животных с использованием соответствующих ограждений); историю стада (например, аборигенного или интродуцированного); структуру исследования и обработку данных; сроки и сезонность проведения исследований. После обработки и анализа данных выборки авторы статьи пришли к следующим выводам: 1) несмотря на актуальность направления исследований, публикаций по данной теме по-прежнему очень мало, и данных недостаточно для того, чтобы составить более или менее полное представление о воздействии выпаса северного оленя на тундры в циркумполярном масштабе; 2) результаты часто зависят от цели и задач исследования. Локальные изменения в растительном покрове, зависящие от определенных экологических условий, очень часто невозможно соотнести с изменениями, происходящими на других арктических территориях. Для эффективного использования растительности пастбищ следует ориентироваться, в первую очередь, на типологию и продуктивность растительности территории, а также на историю выпаса. Ценность данной публикации заключается, в первую очередь, в довольно большой выборке данных, проанализированных и обобщенных, представленных в графиках и таблицах, позволяющих сравнить их в дальнейшем с результатами других исследований.
При картографировании растительного покрова лидирующие позиции в настоящее время занимают работы с использованием данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и дешифрирования спутниковых снимков [45—47]. С помощью анализа серий спутниковых снимков можно не только проследить тренды в изменении растительного покрова пастбищ за определенный временной период, но и прогнозировать дальнейшие изменения с учетом динамики запасов фитомассы и оленеёмкости для определенной территории. Широкое распространение такого подхода обусловлено, прежде всего, труднодоступностью и обширностью площадей пастбищ и отсутствием возможности выполнения геоботанических описаний на всех участках обследуемой территории. Кроме того, возросла доступность мультизональных спутниковых снимков, прежде всего Landsat и Sentinel.
Напомним, что первым обосновал и разработал методику аэровизуального обследования пастбищ В. Н. Андреев [16]. Она состояла в том, что с вертолета проводили оценку состояния пастбищ, а затем, на основе полученных данных, рассчитывали пастбищеоборот. Эта методика получила дальнейшее развитие в современных исследованиях пастбищ с помощью анализа материалов спутниковых снимков и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) [33, 34 и др.].
В конце 1970-х — начале 1980-х гг., с появлением снимков высокого разрешения со спутника Landsat в открытом доступе, появились первые публикации, посвященные дистанционному изучению оленьих пастбищ [49—54]. A. Colpaert и J. Kumpula [46] описали несомненные преимущества использования ДЗЗ для изучения пастбищ северного оленя в Финляндии. Все финские пастбища были отнесены к 57 районам. К моменту начала этой работы возникла проблема недостатка лишайников в районах зимнего сезона выпаса. При помощи снимков высокого разрешения Landsat 5 TM группа исследователей провела инвентаризацию состояния пастбищ всей территории и классификацию растительности; полученные материалы сравнили с полевыми данными. В результате была зарегистрирована деградация пастбищ в шести из семи районов выпаса зимнего сезона. Использование ГИС и спутниковых снимков позволило выполнить работу быстро и эффективно, а полученные результаты помогли перераспределить нагрузку на пастбища и оценить их качество. Впоследствии применение ДЗЗ становится всё более востребованным [48], в том числе и среди российских исследователей. В. В. Елсаков [52, 53] в работах по ресурсной оценке пастбищ при помощи обработки данных ДЗЗ (2018—2019) продемонстрировал возможности оперативной инвентаризации пастбищ, подготовки проектов землепользования, создания ресурсных геоботанических карт с количественными характеристиками запаса отдельных кормовых групп (в частности, лишайниковых и зеленых кормов). Автор подчеркнул, что преимущество использования спутниковых снимков состоит, в первую очередь, в объективизации данных и значительно меньшей финансовой нагрузке. Кроме того, автором предложено на основе материалов ДЗЗ проводить мониторинговые наблюдения за состоянием пастбищ северного оленя. Полученные данные могут быть использованы для составления проектов землепользования оленеводческих хозяйств с учетом сезонных и годичных различий погодных условий. Конечно, при всех достоинствах данного подхода в отношении зеленых пастбищ, стоит отметить и его явные недостатки, заключающиеся в сложности обработки данных по лишайниковым пастбищам, которые должны быть проверены наземными методами.
Группа исследователей из Канады на основе полевых данных разработала модель для вычисления долговременных изменений в лишайниковом покрове и их воздействия на местного оленя карибу [54]. Полученные данные авторы исследования экстраполировали на территорию площадью более 700 000 км2. На основании этих данных были спрогнозированы изменения в лишайниковом покрове и кормовой базе оленя на несколько десятков лет вперёд. Авторы работы подчеркивают важность сбора полевых данных, и, в случае отсутствия таковых, отмечают сложность перехода от индексов, используемых в данном исследовании (Normalized Differenced Lichen Index и Normalized Difference Moisture Index), к конкретным оценкам состояния лишайникового покрова.
В настоящее время в открытом доступе имеется актуальная карта [55], отражающая распределение территорий Ненецкого АО, занятых оленеводческими хозяйствами. На ней можно видеть, что районов, не занятых пастбищами, на нынешний день в Ненецком АО почти не осталось. В работах О. В. Лавриненко и И. А. Лавриненко по пастбищам северного оленя на о. Колгуев [33, 34] в основу инвентаризации растительности положена фитосоциологическая классификация по методу Браун-Бланке, показана значимость корректной классификации растительных сообществ при дешифрировании спутниковых снимков для картографирования растительности по данным ДЗЗ. Оленьи пастбища любого сезона сложены комбинацией сообществ разной синтаксономической принадлежности. В связи с этим, наряду с важностью изучения видового состава растительных сообществ и оценки участия видов, значимых в кормовом отношении, принципиально значимой также является классификация растительности пастбищ разных сезонов. Так, эколого-флористическая классификация, в основе которой лежит информация о полном видовом составе и обилии видов (в том числе доминантных) в пределах сообществ, дает возможность рассматривать все многообразие оленьих пастбищ любых сезонов в качестве комбинаций сообществ разных синтаксонов. Сообщества каждого из них отличаются биологическими и хозяйственными характеристиками (продуктивностью, экологией, чувствительностью к внешним факторам, темпами восстановления после выпаса и другими). И задача геоботаника — после выполнения описаний, разработать классификацию растительности, оценить долю сообществ каждого синтаксона в пределах пастбищ определенного сезона, и, на основании этого, рассчитать кормовые характеристики выдела.
Учитывая, что продуктивность относится к важнейшим характеристикам пастбищ, представляет большой интерес изучение связи этого показателя с их синтаксономическим составом. С. А. Уваровым с коллегами были выполнены геоботанические описания и проведен отбор фитомассы в сообществах 10 районов восточноевропейских тундр, расположенных в подзонах арктических, типичных, южных тундр и в северной лесотундре [56]. Надземная фитомасса была отобрана с 74 пробных площадок, которые были отнесены к семи ассоциациям (включая четыре субассоциации) и трём типам сообществ из четырех классов растительности. Результаты исследований показали выраженные различия в запасах фитомассы лишайников, мхов и зеленых частей сосудистых растений для сообществ разных синтаксонов, установленных в традициях фитосоциологической классификации. В работе приведены продромус растительности и таблица распределения надземной фитомассы сообществ разных синтаксонов с графиками, отражающими различия между ними, а также средние максимальные и минимальные значения фитомассы для всех описанных сообществ. В этой работе продемонстрирована важность классификации растительности и синтаксономического анализа, позволяющего оценить различия в запасах фитомассы как в ненарушенных сообществах, так и в трансформированных под воздействием выпаса. Отмечено изменение запасов фитомассы на широтном градиенте в ценозах разных синтаксонов, приуроченных к различным местообитаниям. Стоит отметить, что при исследовании пастбищ северного оленя, используются разные классификации, как основанная на эколого-физиономическом принципе (она же эколого-фитоценотическая или доминантно-детерминантная классификация), так и эколого-флористическая классификация.
В ряде зарубежных публикаций [57, 58] были использованы разные методы расчёта запаса надземной фитомассы, как полевые, так и дистанционные. При выполнении полевых работ методические подходы различаются незначительно. На пробных площадках (чаще всего 50×50 см, 1×1 м) определяется покрытие видов в процентах и средняя высота покрова лишайников и сосудистых растений; в работах некоторых исследователей (советских и российских) для лишайников отмечается годичный прирост по коленам талломов [58]. После этого вся надземная фитомасса делится по фракциям: травы, кустарники, кустарнички, лишайники и мхи, в некоторых случаях выделяются кормовые и некормовые виды.
На полуострове Ямал был изучен годовой прирост отдельных видов лишайников рода Cladonia [59]. Авторы отмечают, что на зональном градиенте наименьшие значения прироста изученных видов зарегистрированы в сообществах южных субарктических тундр. Факторами среды, оказывающими положительное влияние на рост лишайников, являются сомкнутость кустарникового яруса в сообществах южных тундр и толщина мохово-лишайникового покрова в сообществах северных тундр. Наиболее стабильный параметр — возраст живой части талломов.
Наряду с исследованием растительного покрова зимних лишайниковых пастбищ, активно изучаются запасы зеленых кормовых ресурсов. Один из современных подходов для их изучения при помощи спутниковых данных — метод индекса зеленой массы, который используется для оценки питательной ценности растительности. Этот индекс (Green Mass Index, GMI) рассчитывается на основе количества зеленой фитомассы на единицу площади. Методика определения GMI включает в себя использование спутниковых данных и дополнительные наземные исследования растительности и почв [60].
К методам работы с данными ДЗЗ можно отнести мультиспектральную фотометрию, с помощью которой проводят измерение ряда параметров растительности (площадь листовой поверхности, фитомасса и структура растительного покрова). С этой целью используют специальные датчики, которые измеряют отражение электромагнитного излучения от растительного объекта в разных спектральных диапазонах, включая видимый и ближний инфракрасный спектр [61]. Исследователи из Финляндии [62] провели спектральный анализ и описали спектры для 12 бореальных видов лишайников. Измерения спектров отражения проводили в лабораторных условиях с помощью стандартного спектрорадиометра (350—2500 нм) и мобильной гиперспектральной камеры (400—1000 нм). Обнаружены значительные межвидовые различия в отражающих способностях разных видов лишайников.
В настоящее время вопросы изменения состава и структуры растительного покрова вследствие интенсивного выпаса находятся в центре внимания исследователей. В одной из работ была поставлена цель — на основании спутниковых снимков проследить миграцию крупных домашних стад оленей с помощью GPS-трекеров, и оценить интенсивность влияния выпаса на трансформацию экосистем в Арктике на территории 67 000 км2 [63]. При использовании ГИС-инструментов и индекса VSI (Vegetation Sensitivity Index), который отражает чувствительность растительности к климатическим изменениям на региональном уровне, ученые пришли к выводу, что в местах с интенсивным выпасом (июньский период) олени больше всего употребляют в пищу низкорослые кустарники, численность которых сокращается.
В работе Д. В. Веселкина с соавторами [64] была установлена тесная отрицательная связь между показателем NDVI (нормализованный относительный индекс растительности) и численностью оленей на п-ове Ямал, что свидетельствует о том, что в настоящее время поголовье домашнего северного оленя является важнейшим фактором, определяющим состояние растительного покрова в южной части полуострова. На основе полевых исследований, которые включали отбор надземной фитомассы, было установлено снижение доли кормовых видов кустарников, лишайников и трав, и четырех кратное увеличение доли кустарничков на участках, деградировавших после выпаса [65, 66]. Сравнение показателей кормовых запасов на двух ключевых участках на юге п-ова Ямал, рассчитанных В. Н. Андреевым в 1932 г., с данными полевых сезонов 2017—2019 гг., выявило следующие тренды: делихенизация, снижение абсолютной массы кормовых лишайников и их участия в растительном покрове, снижение общих запасов лишайниковых кормов в пять раз. Изменение растительного покрова авторы связывали прежде всего с интенсивным выпасом. Стоит отметить, что необходимо с осторожностью относиться к сравнению результатов современных полевых исследований с данными, полученными в 1932 г. Это связано с возможными ошибками при идентификации мест проведения полевых исследований В. Н. Андреевым, что впоследствии может привести к затруднениям в интерпретации данных.
Для прогноза краткосрочного и долговременного влияния выпаса оленей на величину надземной фитомассы используют как сравнение архивных и актуальных данных ДЗЗ [47], так и регулярные измерения этого показателя в полевых условиях через определенные промежутки времени [67]. В последние два десятилетия активно используется метод исключения влияния выпаса оленей, который описан исследователями в Финляндии и Норвегии, а также на территории России [67, 68]. В основе метода лежит сооружение заграждений, изолирующих небольшие площадки (5×5 м, 10×10 м), на которых выпас прекращается. Им соответствуют контрольные площадки, на которых выпас сохраняется, а также площадки, на которых выпас оленей никогда не проводили. Такой подход позволяет отследить изменения в растительном покрове пастбищ и определить основные тренды динамики растительности за большие промежутки времени, используя в том числе спутниковые снимки и регулярную фотосъемку площадок с БПЛА в разные сезоны и годы. В одном из подобных исследований [67] описаны последствия выпаса разной длительности (50 лет и 4 года) на пастбищах с водно-болотной растительностью субарктической тундры на территории вдоль границы Финляндии и Норвегии. На финской территории проводили активный выпас в течение всего года, а на норвежской — только зимой. С использованием метода исключений авторами установлено уменьшение высоты кустарникового яруса (в частности Salix lapponum) с одновременным увеличением покрытия травяного яруса, для которого интенсивный выпас оказался благоприятным фактором на обоих ключевых участках. В заключении сделан вывод, что несмотря на круглогодичный выпас, в целом водно-болотная растительность на ключевом участке, находящемся в Финляндии, способна выдержать умеренную пастбищную нагрузку в течение нескольких десятилетий.
В одном из последних исследований [69] группа шведских ученых проанализировала изменения растительности на четырех огороженных от выпаса экспериментальных участках, находящихся на Аляске (США), в Норвегии и Швеции. Участки были заложены в промежутке между 1989 и 1998 гг., таким образом, их возраст составил от 20 до 30 лет. На каждом участке было выделено по восемь пробных площадок (50 × 50 см), на которых с помощью метода уколов (point intercept method) было измерено проективное покрытие видов. Помимо проективного покрытия для каждой пробной площадки были измерены LAI (leaf area index — индекс листовой поверхности) и NDVI, которые впоследствии были усреднены. Исходя из данных о количестве видов на каждой площадке, ученые рассчитали индекс разнообразия Симпсона. Данные с пробных площадок были обработаны с применением неметрического многомерного шкалирования и статистического анализа в программе R. Состояние растительности площадок, размещенных на пастбищах, сравнивали с площадками, на которых выпас никогда не проводили. На основании полученных данных авторы [70] установили, что в результате выпаса снизились показатели индексов LAI, NDVI и обилие сосудистых растений на всех четырех ключевых участках, независимо от интенсивности выпаса. На трех ключевых участках присутствие оленя привело к формированию мозаичности растительных сообществ, при этом их продуктивность была крайне низкой. Высота некоторых видов сосудистых растений изменилась после выпаса большого стада; выпас небольших стад увеличивал разнообразие видов сосудистых растений вследствие снижения обилия доминантов, что позволяло другим видам увеличивать свое участие. По аналогичной методике была проведена работа группой финских ученых [71], которые изучали воздействие выпаса северного оленя на растительность в Финляндии и Норвегии. Авторы предположили, что выпас может препятствовать закустариванию тундры. В работе изучали изменения в растительных сообществах с Salix lapponum на границе Финляндии и Норвегии, сравнивали структуру сообществ, обилие видов и характеристики S. lapponum на пастбищных болотах (Финляндия), экспериментальных участках, исключенных из выпаса на 13 лет (Финляндия), а также в аналогичных болотных сообществах, которые не были затронуты выпасом (Норвегия). Зарастание кустарниками изучали с использованием NDVI и LAI. Установлено отсутствие какого-либо единообразного тренда в изменении растительности и достоверных различий в величинах использованных индексов. В то же время, были получены важные результаты по общему обилию групп видов сосудистых растений и выявлены изменения характеристик S. lapponum. Авторы отмечают, что выпас северных оленей может влиять на распространение ивняков и на общую численность отдельных групп видов сосудистых растений. Установлено также снижение обилия, высоты, интенсивности цветения S. lapponum и увеличение концентрации азота в листьях этого вида.
Исследователи из Финляндии и Эстонии с помощью мультиспектральной съемки БПЛА и RGB (red, green and blue) модели проследили, как разные способы выпаса отражаются на распространении Salix lapponum на территории Финляндии и Норвегии [72]. Исследованная часть территории Норвегии используется исключительно для зимнего выпаса, в то время как на исследованной части Финляндии осуществляется поздневесенний и летний выпас. На основе построенной модели исследователи проследили распространение S. lapponum и установили её угнетенность на территории с весенним и летним выпасом, в то время как на территории с зимним выпасом возросло участие S. lapponum и увеличилась ее фитомасса. Снежный покров зимой защищает иву, к тому же зимний рацион оленя в основном состоит из кладониевых лишайников, а в весенний и летний период олень активнее использует зеленые корма, что отражается на фитомассе S. lapponum на финской территории.
- M. Petit Bonn с соавторами [73] в своём исследовании на о-ве Шпицберген при помощи камер измеряли показатели поглощения CO2 листьями растений в период светлого и темного времени суток (во время пика вегетации на двух участках, исключенных из выпаса). Было установлено, что исключение выпаса оленей на 21 год привело к заметному увеличению общей фитомассы, запаса углерода и азота в листьях растений, а также высоты мохового покрова.
В последнее время особое внимание уделяется изучению влияния климатических изменений на территории Арктики на динамику растительного покрова оленьих пастбищ [73, 74]. Ученые выявили климатические изменения, которые заключаются в эпизодических повышениях температур и количества осадков, и, в свою очередь, вызывают изменения экологических условий в Арктике. Основной проблемой при изучении трендов многолетней динамики растительности в Арктике до настоящего времени является выяснение причин трансформации растительного покрова: в какой степени наблюдаемые изменения связаны с климатическими факторами, в какой — с антропогенной нагрузкой (включая выпас оленя) [48]. Для прогноза изменений в растительном покрове Арктики используют математические модели, построенные на основе имеющихся данных и сценариев изменения растительности под влиянием разных факторов [75]. Так, в исследовании пастбищ Скандинавии и Норвегии была использована модель GLOBIO3, в которой учитывалось несколько факторов: изменения в характере природопользования, воздействие инфраструктуры, фрагментация пастбищ (разделение пастбищ, исключение территории из пастбищеоборота), климатические изменения. Модель позволяет оценивать прошлое, настоящее и будущее биоразнообразия в разных масштабах; основывается на принципах причинно-следственных связей между воздействием и состоянием биологического разнообразия; получает данные из доступной литературы с использованием метаанализа [76, 77].
В. В. Михайлов с соавторами [52] использовали несколько подходов к выбору и построению модели прогноза динамики и запаса фитомассы растительных сообществ о-ва Колгуев. Разработка и верификация модели была выполнена по данным NDVI. В работе Ф. В. Кряжемского с соавторами [78] по системному анализу биогеоценозов п-ова Ямал было выполнено имитационное моделирование воздействия крупностадного оленеводства на растительный покров. Были построены картосхемы распределения зеленых и лишайниковых кормов в районе исследования, разработана имитационная модель динамики для зеленых и лишайниковых кормов с учетом других ключевых компонентов тундровой экосистемы (хищные птицы, другие млекопитающие, коренное население, олени, растительность). Модель была верифицирована путем сравнения с данными, зарегистрированными с 30-х годов до конца XX в.
В 2023 г. впервые был опубликован список кормовых растений, лишайников и грибов пастбищ северного оленя для территории Олюторского р-на Корякского округа. При наличии довольно больших территорий пастбищ, кормовые виды для этого района были исследованы и описаны впервые [79]. Это говорит о необходимости продолжения исследований современных пастбищ северного оленя на территории России.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщая историю отечественных исследований растительности пастбищ северного оленя в прошлом веке, можно выделить три основных этапа. К первому этапу можно отнести исследования растительности тундр, проводившиеся А. Шренком и Г. И. Танфильевым, включавшие районирование тундр. Ими впервые были изучены флора и ландшафты восточноевропейских тундр, заложена база для последующих исследований. Второй этап связан с исследованиями сотрудников Нарьян-Марской сельскохозяйственной станции А. А. Дедова, Ф. В. Самбука, В. Н. Андреева и Г. И. Карева, которые внесли огромный вклад в геоботаническое изучение и оценку кормовых ресурсов пастбищ северного оленя на примере Припечорских тундр. На третьем этапе, благодаря работам В. Д. Александровой, И. Д. Богдановской-Гиенэф и последним трудам В. Н. Андреева, были подготовлены детализированные карты пастбищных угодий, выполнено обобщение всех данных по ресурсным видам Крайнего Севера. Кроме того, В. Н. Андреевым впервые разработана методика воздушно-глазомерного обследования тундр.
Изучение растительности оленьих пастбищ представляет собой комплексную проблему. Важнейшей задачей таких исследований является выявление взаимосвязей биологических особенностей популяций оленя с экономической ситуацией в исследуемом регионе и традициями местных оленеводческих хозяйств. С момента начала изучения растительности пастбищ северного оленя (конец XIX в.) и до нынешнего дня геоботаники совершенствовались в подходах и методах исследований. Как советские, так и зарубежные исследователи активно изучали кормовую базу северного оленя, разделили пастбища по типам и сезонам. Расчет таких показателей как оленеёмкость и пастбищный оборот помогали решать многие проблемы землепользования в тундре, как на протяжении XX в., так и в настоящее время. В дальнейшем стали возможными исследования пастбищ сперва на основе аэросъемки, а затем — космических снимков. Один из наиболее актуальных методов в современном исследовании пастбищ — использование данных ДЗЗ для наблюдения динамики растительного покрова и изменения ландшафта. На нынешний день эта методика стала необходимой и основополагающей при исследовании такого масштабного и комплексного объекта, как пастбища. Однако по-настоящему успешной в реализации она может стать только в комплексе с полевыми исследованиями, и как раз в этом отношении применение БПЛА на сегодняшний день играет ключевую роль в проведении полевых работ. Рассмотренные в обзоре работы российских и зарубежных исследователей отражают широкий спектр подходов и методов, которыми на нынешний день располагают современные исследователи растительности пастбищ северного оленя.
Таким образом, проблемы северного оленеводства и состояние растительности тундр как основной кормовой базы северного оленя до настоящего времени находятся в фокусе внимания современных исследователей. Восточноевропейские тундры Российской Арктики можно рассматривать как эталон равнинных тундр Европы, оптимальный по климатическим условиям и благоприятный для развития оленеводства, что подтверждается многовековой историей использования этой территории в качестве пастбищ разных сезонов, обеспечивающих круглогодичный выпас оленьих стад. В связи с этим, стоит отметить, что те полевые методы, которые были разработаны и апробированы для этих территорий, на нынешний день зачастую сложно повторить, в первую очередь, из-за труднодоступности многих территорий. Однако развитие научно-технической базы позволяет решить эту проблему.
Следует отметить, что в настоящее время обилие выбитых вследствие перевыпаса оленей пастбищ, масштабная разработка нефтяных месторождений, строительство инфраструктуры и трубопроводов, а также колебания климата приводят к радикальным изменениям в распределении пастбищ разных сезонов по территории Ненецкого АО. В связи с этим, изучение состояния растительности разных типов оленьих пастбищ и оценка изменений, происходящих в результате выпаса, являются в настоящее время актуальными задачами, решение которых требует применения новейших подходов и методов в области геоботаники.
БЛАГОДАРНОСТИ
Автор выражает огромную благодарность И. А. Лавриненко и И. В. Лянгузовой за всестороннюю помощь, поддержку и советы при подготовке публикации; В. Ю. Нешатаевой за ценные замечания и рекомендации при критическом анализе литературы; В. В. Нешатаеву за помощь и поддержку при написании рукописи; Т. М. Романенко и сотрудникам ФГБНУ «Нарьян-Марская опытная станция» за возможность работать с архивами в библиотеке опытной станции г. Нарьян-Мара.
Работа проведена в рамках государственного задания согласно тематическому плану БИН РАН по теме № 122041100242-5.
About the authors
D. D. Karsonova
Komarov Botanical Institute RAS
Author for correspondence.
Email: dariakarson@gmail.com
Russian Federation, Saint-Petersburg
References
- Lipsky S. A. 2018. The condition of reindeer pastures in the Arctic zone of the Russian Federation, the major factors of their degradation and measures to ease the situation. — Remote Sensing and Land Monitoring. 62(6): 695—702. https://www.miigaik.ru/upload/iblock/883/88321c02615b7612ce30a233b5631ee3.pdf
- Shrenk A. I. 1855. [Travelling to the North-East of European Russia through the Samoyed tundras to the northern Ural Mountains, undertaken by the Imperial order in 1837 by Alexander Shrenk]: Transl. from German. St. Petersburg. 665 p. https://www.prlib.ru/item/441230 (In Russian)
- Belozerov S. T. 1951. [Gavriil Ivanovich Tanfiliev]. Moscow. 1928 p. (In Russian)
- Tanfiliev G. I. 1894. [On the tundras of the Timan Samoyeds in the summer of 1892]. St. Petersburg. 42 p. (In Russian)
- Tanfiliev G. I. 1911. [Limits of forests in Polar Russia according to studies in the tundra of the Timan Samoyeds: With an appendix of the travel diary]. Odessa. 287 p. (In Russian)
- Grigoriev A. A. 1924. [Geology and relief of the Bolshezemelskaya tundra and related problems]. — Transactions of Northern scientific and industrial expedition. Vol. 22. Moscow. 64 p. (In Russian)
- Sambuk F. V., Dedov A. A. 1934. [Subzones of the Pechora tundras]. — Tr. BIN AS USSR. Ser. 3. Geobotany. 1: 29—50. (In Russian)
- Matveeva N. V. 2006. (A review) A. A. Dedov. [Vegetation of the Malozemelskaya and Timanskaya tundras]. Syktyvkar. 160 p. — Vegetation of Russia. 8: 93—95. https://doi.org/10.31111/vegrus/2006.08.93 (In Russian)
- Dedov A. A. 1931. [Reindeer pastures of the Timanskaya tundra. — In: [Reindeer pastures of the Northern Territory]. Vol. 1. Arkhangelsk. P. 86—135. (In Russian)
- Dedov A. A. 1933. [Summer reindeer pastures of the eastern part of the Malozemelskaya tundra]. — In: [Reindeer pastures of the Northern Territory]. Vol. 2. Leningrad. P. 53—119. (In Russian)
- Sambuk F. V. 1933. [Pasture lands of the first Nenets reindeer herding collective farm]. — In: [Reindeer pastures of the Northern Territory]. Vol. 2. Leningrad. P. 9—53. (In Russian)
- Sambuk F. V. 1931. [Methods of route studies of tundra pastures]. — Proc. of the Polar Commission. Leningrad. Vol. 6. 48 p. (In Russian)
- Andreev V. N. 1931. [Vegetation of the tundra of the northern Kanin Peninsula]. — In: [Reindeer pastures of the Northern Territory]. Vol. 1. Arkhangelsk. P. 5—85. (In Russian)
- Andreev V. N. 1940. [Methods of visual aerial survey of reindeer pastures]. — Proc. of the Research institute of polar agriculture, animal husbandry and commercial farming. Ser. Reindeer Breeding. 12: 13—66. (In Russian)
- Andreev V. N. 1948. [Reindeer forages and pastures]. — In: [Reindeer breeding]. 100—157. (In Russian)
- Andreev V. N. 1952. [Application of airborne methods for geobotanical mapping and inventory of foraging areas]. — Bot. Zhurn. (St. Petersburg). 37(6): 843—847. (In Russian)
- Andreev V. N. 1953. [Management and improvement of pastures in reindeer breeding]. — In: [Proc. VI Extended session of the Academic council of the Research institute of polar agriculture, animal husbandry and commercial farming. Vol. 2]. P. 27—38. (In Russian)
- Andreev V. N. 1954. [Growth of forage lichens and methods of its regulation]. — Proceedings of the Komarov Botanical Institute. Ser. 3. Geobotany. 9: 11—74. (In Russian)
- Andreev V. N. 1957. [Management of pastures in northern reindeer breeding]. Tyumen. 44 p. (In Russian)
- Ramensky L. G. 1938. [Introduction to the complex soil and geobotanical study of lands]. Moscow. 620 p.
- Andreev V. Н. 1933. [Fodder resources of reindeer breeding in the western part of the Bolshezemelskaya tundra]. — [Reindeer pastures of the Northern Territory]. Vol. 2. Leningrad. P. 119—184. (In Russian)
- Andreev V. N. 1971. [Methodology of inventorying and mapping of phytomass fodder reserves in the Subarctic]. — Rastitelnye Resursy. 7(3): 439—444. (In Russian)
- Gorodkov B. N. 1934. [On the bases and methods of economic and quality classification of reindeer pastures]. — Sovetsk. Bot. 1: 54—66. (In Russian)
- Gorodkov B. N. 1935. [Vegetation of the tundra zone of the USSR]. Leningrad. 142 p. (In Russian)
- Karev G. I. 1956. [Reindeer forages and pastures]. Moscow. 100 p. (In Russian)
- Utkin V. V. 1974. [Long-term changes in reindeer pastures in the Malozemelskaya and north-western part of the Bolshezemelskaya tundra]. — [Annual research report 1973]. Naryan-Mar. Manuscript. (In Russian)
- Utkin V. V. 1975. [Measures to increase the productivity of reindeer breeding]. — In: [The system of agricultural and commercial farming in the Nenets National District]. Leningrad. P. 40—43. (In Russian)
- Utkin V. V. 1977. [On the changes in vegetation of forest-tundra pastures of the Pechora River basin due to perennial grazing]. — In: [Land reclamation of the Far North]. P. 243—250. (In Russian)
- Sambuk F. V. 1931. [Geobotanical characteristics of winter reindeer pastures at the mouth of the Pechora River]. — In: [Reindeer pastures of the Northern Territory]. Vol. 1. Arkhangelsk. P. 136—167. (In Russian)
- [Feed characteristics of plants of the Far North]. 1964. Moscow, Leningrad. 484 p. (In Russian)
- Bogdanovskaya-Gienef I. D. 1938a. [Natural conditions and reindeer pastures on Kolguyev Island]. — Proc. of the Research Institute of polar agriculture, animal husbandry and commercial farming. Ser. Reindeer Breeding. 2: 7—162. (In Russian)
- Bogdanovskaya-Gienef I. D. 1938b. [New data on the flora of Kolguyev Island]. — Problems of the Arctic. 2: 173—178. (In Russian)
- Lavrinenko O. V., Lavrinenko I. A. 2012. [Plant communities of the eastern part of Kolguyev Island]. — In: [Proceedings of the Scientific and practical conference “Agro-Arctic. Scientific support for the development of agroindustrial complex of the European North of Russia. 24—25 July 2012”]. Naryan-Mar. P. 255—268. (In Russian)
- Lavrinenko O. V., Lavrinenko I. A. 2014. The plant cover of reindeer pastures of the Kolguyev Island: succession of research and current approaches. — In: [The botany: history, theory, practice (on 300th anniversary of the foundation of Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences)]. P. 124—130. https://www.binran.ru/files/publications/Proceedings/Proceedings_300-years/Proceedings_300-years_Lavrinenko.pdf (In Russian)
- Kholod S. S., Uvarov S. А. 2011. [Plant communities of the central part of Kolguyev Island]. — In: [Proceedings of the All-Russian scientific conference “Domestic geobotany: main milestones and prospects”]. St. Petersburg. Vol 1. P. 285—289. http://resources.krc.karelia.ru/geobotany/doc/geography.pdf (In Russian)
- Palmer L. J. 1926. Progress of reindeer grazing investigations in Alaska. — U. S. Dep. Agric. Bull. No.1423. 37 p.
- Dickson J. G. 1956. Forage plants, soils and general grazing conditions on Umnak, Kodiak and other areas. Alaska Agricultural Experiment Station. 8 p. http://hdl.handle.net/11122/2683
- Pegau R. E. 1968: Growth rates of important reindeer forage lichens on the Seward Peninsula, Alaska. — Arctic. 21(4): 255—259. https://doi.org/10.14430/arctic3268
- Pegau R. E. 1970. Effect of reindeer trampling and grazing on lichens. — Journal of Range Management. 23(2): 95—97. https://doi.org/10.2307/3896107
- Porsild A. E. 1943. Materials for a flora of the continental Northwest Territories of Canada. — Sargentia. 4: 1—79. https://www.biodiversitylibrary.org/page/61506719
- Porslid A. E. 1945. The alpine flora of the East Slope of Mackenzie Mountains, Northwest Territories. — Nat. Mus. Can. Bull. 101. Biol. Series No. 30. 35 p.
- Gates R. R. 1928. Notes on the tundra of Russian Lapland. — J. Ecol. 16: 150—160. https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.25348/2015.25348.The-Journal-Of-Ecology-Vol-xvi-1928_text.pdf
- Skuncke F. 1969. Reindeer ecology and management in Sweden. — Biol. Pap. Univ. Alaska. 8. 182 p. https://scholarworks.alaska.edu/handle/11122/1430
- Bernes C., Bråthen K. A., Forbes B. C., Speed J. D. M., Moen J. 2015. What are the impacts of reindeer/caribou (Rangifer tarandus L.) on arctic and alpine vegetation? A systematic review protocol. — Environ. Evid. 4: 4. https://doi.org/10.1186/s13750-014-0030-3
- Colpaert A. 1993. Land use mapping with Landsat 5 TM imagery: a case study from Hailuoto, Finland. — Fennia. 171(1): 1—23. https://fennia.journal.fi/article/view/8869
- Colpaert A., Kumpula J. 2012. Detecting changes in the state of reindeer pastures in northernmost Finland, 1995—2005. — Polar Record. 48(1): 74—82. https://doi.org/10.1017/S0032247411000581
- Colpaert A., Kumpula J., Nieminen M. 2003. Reindeer pasture biomass assessment using satellite remote sensing. — Arctic. 56(2): 147—158. http://www.jstor.org/stable/40513049
- Tømmervik H., Høgda K. A., Solheim I. 2003. Monitoring vegetation changes in Pasvik (Norway) and Pechenga in Kola Peninsula (Russia) using multitemporal Landsat MSS/TM data. — Remote Sens. Environ. 85: 370—388. https://doi.org/10.1016/S0034-4257(03)00014-2
- Lemenkova P. 2015. [Satellite image based mapping of wetland tundra landscapes using ILWIS GIS]. — In: [Actual problems of the state and management of water resources. Proc. of the regional conference]. Yoshkar-Ola. P. 110—113. https://ssrn.com/abstract=3321064
- Polezhaev A. V. 2013. Vegetation of the north of the Russian Far East in the cartographic models. — Geobotanicheskoye kartografirovaniye. 1: 48—67. https://doi.org/10.31111/geobotmap/2013.48 (In Russian)
- Mikhailov V. V., Spesivtsev A. V., Sobolevsky V. A., Kartashev N. K., Lavrinenko I. A., Lavrinenko O. V., Spesivtseva V. A. 2021. Multi-model estimation of phytomass dynamics of tundra plant communities based on satellite images. — Izv. Atmos. Ocean. Phys. 57(9): 1198—1210. https://doi.org/10.1134/S0001433821090553
- Elsakov V. V., Morozova L. M. 2018. [Satellite monitoring of the vegetation cover of reindeer pastures of the Yamal Peninsula]. — Scientific Bulletin of the Yamal-Nenets Autonomous District. 4(101): 21—23. https://elibrary.ru/item.asp?id=41332088 (In Russian)
- Elsakov V. V., Shchanov V. M. 2019. Current changes in vegetation cover of Timan tundra reindeer pastures from analysis of satellite data. — Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa. 16(2): 128—142. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2019-16-2-128-142 (In Russian)
- Rickbeil G. J. M., Hermosilla T., Coops N. C., White J. C., Wulder M. A. 2017. Estimating changes in lichen mat volume through time and related effects on barren ground caribou (Rangifer tarandus groenlandicus) movement. — PLoS ONE12(3): e0172669. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172669
- Geoinformation system of the Nenets Autonomous Area (GIS NAO): https://gisnao.ru
- Uvarov S. A., Lapina A. M., Lavrinenko O. V. 2021. Phytomass of lichens and green plants in the East European tundra communities. — Rastitelnye Resursy. 57(1): 15—38. https://doi.org/10.31857/S0033994621010118 (In Russian)
- Bråthen K. A., Ims R. A., Yoccoz N. G., Fauchald P., Tveraa T., Hausner V. H. 2007. Induced shift in ecosystem productivity? Extensive scale effects of abundant large herbivores. — Ecosystems. 10(5): 773—789. https://doi.org/ 10.1007/s10021-007-9058-3
- Odland A., Sandvik S. M., Bjerketvedt D. K., Myrvold L. L. 2014. Estimation of lichen biomass with emphasis on reindeer winter pastures at Hardangervidda, S Norway. —Rangifer. 34(1): 95—110. https://doi.org/10.7557/2.34.1.2852
- Abdulmanova S. Y., Ektova S. N. 2015. Growth rate of forage Cladonia lichens (Cladoniaceae) on summer and winter pastures of domestic reindeers. — Rastitelnye Resursy. 51(3): 344—356. https://doi.org/10.31857/S0033994620030085 (In Russian)
- Bhatt U., Walker D. A., Raynolds M. K., Comiso J. C., Epstein H. E., Jia G. J., Gens R., Jorge E., Pinzon J. E., Tucker C. J., Tweedie C. E., Webber P. J. 2010. Circumpolar Arctic tundra vegetation change is linked to sea ice decline. — Earth Interactions. 14(8): 1—20. https://doi.org/10.1175/2010EI315.1
- Sundqvist M. K., Moen J., Björk R. G., Vowles T., Kytöviita M.-M., Parsons M. A., Olofsson J. 2019. Experimental evidence of the long-term effects of reindeer on Arctic vegetation greenness and species richness at a larger landscape scale. — J. Ecol. 107(6): 2724—2736. https://doi.org/10.1111/1365-2745.13201
- Kuusinen N., Juola J., Karki B., Stenroos S., Rautiainen M. 2020. A spectral analysis of common boreal ground lichen species. — Remote Sens. Environ. 247: 111955. https://doi.org/10.1016/j.rse.2020.111955
- Spiegel M. P., Volkovitskiy A., Terekhina A., Forbes B. C., Park T., Macias-Fauria M. 2023. Top-down regulation by a reindeer herding system limits climate-driven Arctic vegetation change at a regional scale. — Earth’s Future. 11(7): 1—15. https://doi.org/10.1029/2022EF003407
- Veselkin D. V., Morozova L. M., Gorbunova A. M. 2021. Decrease of NDVI values in the southern tundra of Yamal in 2001—2018 correlates with the size of domesticated reindeer population. — Sovremennye problemy distantsionnogo zondirovaniya Zemli iz kosmosa. 18(2): 143—155. https://doi.org/10.21046/2070-7401-2021-18-2-143-155 (In Russian)
- Gorbunova A. M. 2021. Changes of feed stocks in southern subarctic tundra of Yamal. — Agrarian Bulletin of the Urals. 02(205): 26—32. https://doi.org/10.32417/1997-4868-2021-205-02-26-32 (In Russian)
- Gorbunova A. M., Gorbunov L. S., Veselkin D. В. 2023. Changes the reserves of green and lichen forage stocks in the southern tundra communities of Yamal from the 1930s to 2017—2019. — Russ. J. Ecol. 54(2): 77—87. https://doi.org/10.1134/S1067413623020066
- Kitti H., Forbes B. C., Oksanen J. 2008. Long- and short-term effects of reindeer grazing on tundra wetland vegetation. — Polar Biol. 32(2): 253—261. https://doi.org/10.1007/s00300-008-0526-9
- Forbes B. C., Stammler F. 2009. Arctic climate change discourse: the contrasting politics of research agendas in the West and Russia. — Polar Res. 28(1): 28—42. https://doi.org/10.3402/polar.v28i1.6104
- Lindén E., Gough L., Olofsson J. 2021. Large and small herbivores have strong effects on tundra vegetation in Scandinavia and Alaska. — Ecol. Evol. 11(17): 12141—12152. https://doi.org/10.1002/ece3.7977
- R Core Team. 2021. R: A Language and Environment for Statistical Computing. The R Foundation. Vienna. https://www.R-project.org
- Kolari T. H. M., Timo T., Verdonen M., Forbes B. C., Tahvanainen T. 2019. Reindeer grazing controls willows but has only minor effects on plant communities in Fennoscandian oroarctic mires. — Arct. Antarct. Alp. Res. 51(1): 506—520. https://doi.org/10.1080/15230430.2019.1679940
- Villoslada M., Ylänne H., Juutinen S., Kolari T. H. M., Korpelainen P., Tahvanainen T., Wolff F., Kumpula T. 2023. Reindeer control over shrubification in subarctic wetlands: spatial analysis based on unoccupied aerial vehicle imagery. — Remote Sens. Ecol. Conserv. 9(5): 687—706. https://doi.org/10.1002/rse2.337
- Petit Bon M., Hansen B. B., Loonen M. J. J. E., Petraglia A., Bråthen K. A., Böhner H., Layton-Matthews K., Beard K. H., Le Moullec M., Jónsdóttir I. S., van der Wal R. 2023. Long-term herbivore removal experiments reveal how geese and reindeer shape vegetation and ecosystem CO2-fluxes in high-Arctic tundra. — J. Ecol. 111(12): 2627—2642. https://doi.org/10.1111/1365-2745.14200
- Vikhamar-Schuler D., Isaksen K., Haugen J. E., Tømmervik H., Luks B., Schuler T. V., Bjerke J. W. 2016. Changes in winter warming events in the Nordic Arctic region. — J. Climate. 29(17): 6223—6244. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-15-0763.1
- Kumpula J., Kurkilahti M., Helle T., Colpaert A. 2014. Both reindeer management and several other land use factors explain the reduction in ground lichens (Cladonia spp.) in pastures grazed by semi-domesticated reindeer in Finland. — Reg. Environ. Change. 14(2): 541—559. https://doi.org/10.1007/s10113-013-0508-5
- van Rooij W., Aslaksen I., Eira I. H., Burgess P., Garnåsjordet P. A. 2023. Loss of reindeer grazing land in Finnmark, Norway, and effects on biodiversity: GLOBIO3 as decision support tool at Arctic local level. — In: Reindeer Husbandry. Adaptation to the Changing Arctic. Volume 1. Springer Polar Sciences. Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-17625-8_9
- Alkemade R., van Oorschot M., Miles L., Nellemann C., Bakkenes M., ten Brink B. 2009. GLOBIO3: A framework to investigate options for reducing global terrestrial biodiversity loss. — Ecosystems. 12(3): 374—390. https://doi.org/10.1007/s10021-009-9229-5
- Kryazhimskii F. V., Maklakov K. V., Morozov L. M., Ektova S. N. 2011. System analysis of biogeocenoses of the Yamal Peninsula: simulation of the impact of large-herd reindeer breeding on vegetation. — Russ. J. Ecol. 42(5): 351—361. https://doi.org/10.1134/S1067413611050092
- Neshataeva V. Yu., Skvortsov K. I., Yakubov V. V. 2023. Plant, lichen and fungi forage species of reindeer pastures in the Olyutorsky district of the Koryak region (Kamchatka Territory). — Rastitelnye Resursy. 52(2): 109—128. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=53985970 (In Russian)
Supplementary files