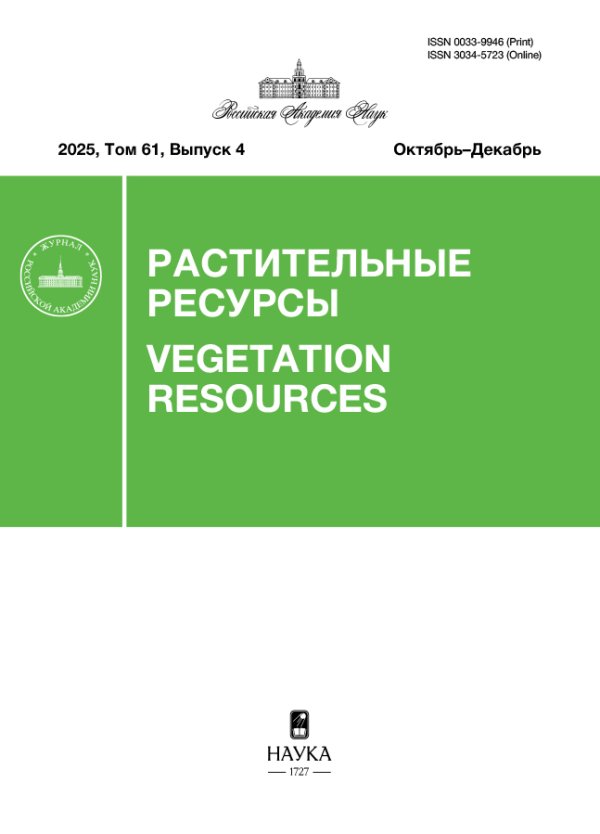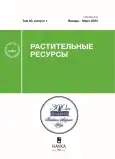Features of the introduced species composition and state in the arboreta of Dzhanybek research station in the Northern Pre-Caspian Semi-Desert
- Authors: Sizemskaya M.L.1, Sapanov M.K.1
-
Affiliations:
- Institute of Forest Science, RAS
- Issue: Vol 60, No 1 (2024)
- Pages: 80-93
- Section: Introduction of Resourse Species
- URL: https://bakhtiniada.ru/0033-9946/article/view/258201
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0033994624010059
- EDN: https://elibrary.ru/HBSEME
- ID: 258201
Cite item
Full Text
Abstract
The results of studying introduced species diversity and state under rainfed conditions at the Research station of the Institute of Forest Science of the Russian Academy of Sciences have been presented. The station is located in the clay semi-desert of the Northern Pre-Caspian region between the Volga and Ural rivers. The collections of two arboreta were examined. The first arboretum was established in 1953 on hydromorphic meadow-chestnut soils of large mesodepressions, and the second – in 1974 on solonetzic automorphic soils. The arboreta were originally established with an idea of complete elimination of irrigation. In recent decades, tending and silvicultural treatments were discontinued for a number of reasons. An annotated list of tree and shrub species includes 77 species belonging to 25 families and 44 genus. In the arboretum on the large mesodepression, the number of species surviving for more than half a century is 35% in relation to the number of “core” introduced species. Mostly, the species are represented by the families Rosaceae, Caprifoliaceae, Elaeagnaceae, Fagaceae, Fabacea, Oleaceae, Salicaceae, Sapindaceae, Ulmaceae. Some specimens older than 70 years are in satisfactory condition and produce viable volunteer regrowth. The main stages of their acclimatization, in relation to age, and changes in growing conditions, as affected by plants themselves as well as climate, are distinguished. In arboretum on solonetzic soils, the survival of species is 50%. The composition of tree and shrub vegetation of an unused pond, where spontaneous vegetation formed an intrazonal willow-oleaster-poplar community of quasi-riparian type, and of the overgrowing fallow land, where a specific “savannah-like” landscape was formed, have been studied. This allowed to identify the species whose life strategy contributes to their successful colonization of human-disturbed habitats and, in some cases, manifestation of the features of naturalization and invasiveness. The most promising species for landscaping, parks and other plantings in such harsh natural and climatic conditions were also determined.
Keywords
Full Text
В исконно безлесных регионах дендрарии как платформа научных поисков потенциальных возможностей древесных и кустарниковых растений проявлять свои способности к акклиматизации в несвойственных для них условиях местопроизрастания представляют особый интерес [1–6]. Дендрарии Джаныбекского стационара Института лесоведения РАН – уникальные объекты, входящие в агролесомелиоративный комплекс, заложенный на богаре в начале 1950-х гг. в глинистой полупустыне Северного Прикаспия в междуречье Волги и Урала по обе стороны границы России (Волгоградская обл.) и Казахстана (Западно-Казахстанская обл.). Этот лесной оазис в полупустыне, включающий полезащитные и лесопастбищные системы, массивные насаждения, сады, ягодники, дендрарии, создавался без орошения как натурная модель для апробации научных разработок, полученных в ходе выполнения грандиозного проекта, так называемого сталинского “Плана преобразования природы”. Его задачей было, не в последнюю очередь, формирование комфортных условий для труда и отдыха людей в суровых природно-климатических условиях.
Цель работы – оценить видовой состав, современное состояние и перспективы дальнейшего существования коллекций интродуцентов в дендрариях Джаныбекского стационара, возможность их спонтанного внедрения в антропогенные экотопы (неиспользуемые пруды и залежи), встречающиеся на исконно безлесной территории.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Район исследований характеризуется резко континентальным климатом с амплитудой температуры воздуха от +40°С до –40°С при среднегодовой +6.9°С. Среднегодовая сумма осадков составляет 295 ± 80 мм, за теплый период осадков выпадает 161 ± 72 мм, за холодный в 1.2 раза меньше – 134 ± 35 мм. Испаряемость около 900 мм. Почвенный покров представлен трехчленным солонцовым комплексом, обусловленным ярко выраженным микрорельефом. В нем автоморфные солончаковые солонцы на микроповышениях и солонцеватые светло-каштановые почвы на микросклонах занимают площадь 50% и 25% соответственно, а на гидроморфные лугово-каштановые почвы приходится 25%. Отличительной особенностью этой местности является наличие локальных замкнутых мезопонижений рельефа глубиной до 2 м и площадью от 1 до 100 га [7]. Эти понижения (так называемые “большие падины”) заняты незасоленными гидроморфными лугово-каштановыми почвами с пресноводными линзами на глубине 5.5–7.5 м, которые покоятся на засоленных грунтовых водах. Эти линзы образованы в результате инфильтрации талых вод при периодическом весеннем затоплении падин (раз в несколько лет).
В 1953 г. на одной из таких падин площадью 10 га был заложен дендрарий, представляющий собой куртинно-аллейные типы посадок. Планировка дендрария регулярная. Основное ядро составляет территория площадью около 6 га, разбитая аллеями на 8 кварталов. Было высажено 211 видов древесных и кустарниковых растений, относящихся к 33 семействам и 59 родам, из которых бóльшая часть прошла успешный эксперимент по акклиматизации [8, 9]. Это стало возможным благодаря продуманному научному подходу и учету потенциальных факторов риска их развития, например, вторичного засоления пресных линз. Для предотвращения этого процесса на падине с дендрарием были оставлены так называемые “магазины влаги” с чистым паром. Уходы за растениями проводились лишь в первые годы, затем, в силу ряда обстоятельств, в т.ч. межгосударственных научно-производственных трудностей, они сократились до минимума и состояли лишь в уборке упавших деревьев.
В 1974 г. на почвах солонцового комплекса после проведения предварительной мелиоративной вспашки был заложен еще один небольшой дендрарий площадью 0.7 га. Было высажено 62 вида деревьев и кустарников, относящихся к 42 родам и 22 семействам [9]. Здесь агротехнические уходы в междурядьях проводили до 2015 г.
Изучение современной сохранности коллекции интродуцентов проводили методом визуальной оценки наличия материнских деревьев и присутствия самосевных экземпляров и корневых отпрысков, формирующих клоновые древостои. Помимо инвентаризации видового состава в дендрариях провели рекогносцировочные исследования в искусственном понижении мезорельефа – заросшем древесной и кустарниковой растительностью неиспользуемом 40 лет пруду (в 300 метрах от дендрария на падине) и на старой 30-летней залежи с лугово-каштановыми почвами (в 100 метрах от дендрария на солонцовом комплексе). Это позволило оценить не только возможность деревьев и кустарников осваивать новые экологические ниши и закрепляться в них, но также и судить об их адаптивном потенциале и угрозе инвазионности. Составлен аннотированный список видов деревьев и кустарников, сохранившихся в коллекциях интродуцентов Джаныбекского стационара. Названия растений приводили согласно сводке “The Plant List” [10].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
По данным учетов 2023 г., в коллекции дендрария Джаныбекского стационара на лугово- каштановых почвах к 70 году его существования присутствует значительное количество сохранившихся видов. Современный список таксонов насчитывает 73 вида древесных и кустарниковых растений, относящихся к 23 семействам и 41 роду (табл. 1).
Таблица 1. Аннотированный список видов, сохранившихся в дендрариях и других экотопах Джаныбекского стационара. Сентябрь 2023 г.
Table 1. Annotated list of the species surviving in arboreta and other ecotopes of the Dzhanybek Research station. September 2023
№ | Семейство/Family Род/Genus Вид/Species | Дендрарий / Arboretum | Неиспользуемый пруд / Unused pond | Залежь / Fallow field | |
в падине / on the mesodepression | на солонцовом комплексе / on the solonetzic complex | ||||
ADOXACEAE | |||||
1 | Sambucus S. racemosa L. | М0С0 | С1* | ||
AMARANTHACEAE | |||||
2 | Haloxylon H. ammodendron (C.A. Mey.) Bge. ex Fenzl | М1С1 | |||
ANACARDIACEAE | |||||
3 | Cotinus C. coggygria Scop. | М0С1 | М1С0 | С1 | |
4 | Rhus R. typhina L. | М0С1 | |||
BERBERIDACEAE | |||||
5 | Berberis B. vulgaris L. | М1С2 | М1С1 | С2 | С1 |
6 | B.v. “Atropurpurea” | М1С1 | |||
7 | B. nummularia Bge. | М1С0 | |||
BETULACEAE | |||||
8 | Betula B. pendula Roth. | М1С1 | |||
9 | Corylus C. avellana L. | М2С0 | |||
BIGNONIACEAE | |||||
10 | Catalpa C. bignonioides Walt. | М1С0 | |||
CANNABACEAE | |||||
11 | Celtis C. occidentalis L. | М0С1 | С1 | ||
CAPRIFOLIACEAE | |||||
12 | Lonicera L. tatarica L. | М1С2 | М1С1 | C2 | |
13 | Symphoricarpos S. albus (L.) S.F. Blake | М1С1 | М1С1 | ||
CELASTRACEAE | |||||
14 | Euonymus E. europaeus L. | М0С1 | |||
ELAEAGNACEAE | |||||
15 | Elaeagnus E. oxycarpa Schltdl. | М0С1 | М1С1 | С2 | С1 |
16 | Hippophae H. rhamnoides L. | М0С1 | С2 | ||
17 | Shephérdia S. argentea (Pursh) Nutt. | М0С1 | М1С1 | ||
FAGACEAE | |||||
18 | Quercus Q. borealis F. Michx. | М2С2 | |||
19 | Q. robur L. | М2С1 | |||
GROSSULARIACEAE | |||||
20 | Ribes R. alpinum L. | М2С0 | |||
21 | R. aureum Pursh. | М1С2 | М1С2 | С2 | С1 |
HYDRANGEACEAE | |||||
22 | Philadelphus Ph. coronarius L. | М1С0 | |||
FABACEA | |||||
23 | Amorpha A. frutocosa L. | М0С2 | |||
24 | Caragana C. arborescens Lam. | М2С1 | М2С1 | ||
25 | Robinia R. pseudoacacia L. | М2С1 | |||
26 | Halimodendron H. halodendron (Pall.) Voss | М1С2 | |||
MALVACEAE | |||||
27 | Tilia T. americana L. | М0С1 | |||
28 | T. cordata Mill. | М0С1 | |||
OLEACEAE | |||||
29 | Fraxinus F. excelsior L. | М1С1 | |||
30 | F. pennsylvanica Marsh. | М2С2 | М1С1 | С1 | С1 |
31 | Syringa S. persica L. | М1С0 | |||
32 | S. vulgaris L. | М2С2 | М2С2 | ||
PINACEAE | |||||
33 | Pinus P. sylvestris L. | М0С1 | |||
RHAMNACEAE | |||||
34 | Rhamnus R. cathartica L. | М1С1 | М1С1 | С1 | |
ROSACEAE | |||||
35 | Amelanchier A. alnifolia (Nutt.) Nutt. ex M.Roem. | М1С1 | М1С1 | С1 | С1 |
36 | A. spicata (Lam.) C. Koch | М1С2 | М1С1 | С1 | С1 |
37 | Chaenomeles Ch. japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach | М0С1 | |||
38 | Cotoneaster C. lucidus Schltdl. | М1С2 | М1С1 | С1 | |
39 | C. melanocarpus Fisch. ex A.Blytt | М1С1 | |||
40 | C. tomentosus Lindl. | М0С1 | |||
41 | Crataegus Cr. arnoldiana Sarg. | М1С0 | |||
42 | Cr. korolkowii Regel ex C.K. Schneid. | М1С1 | С1 | ||
43 | Cr. monogyna Jacq. | М1С1 | М1С1 | С1 | |
44 | Cr. submollis Sarg. | М1С1 | С1 | ||
45 | Malus M. baccata (L.) Borkh. | М1С0 | |||
46 | M. prunifolia (Willd.) Borkh | М1С1 | С1 | ||
47 | M. sylvestris Mill. | М1С1 | М1С1 | С1 | C2 |
48 | Prunus P. armeniaca L. | М1С0 | |||
49 | P. cerasifera Ehrh. | М1С1 | |||
50 | P. cerasus L. | М2С1 | |||
51 | P. mahaleb L. | М0С1 | |||
52 | P. padus L. | М1С1 | |||
53 | P. serotine Ehrh. | М1С2 | |||
54 | P. spinosa L. | М1С2 | М2С2 | С1 | С1 |
55 | P. tenella Batsch. | М1С1 | |||
56 | P. virginiana L. | М1С2 | М1С2 | С1 | С1 |
57 | Pyrus P. communis L. | М1С1 | М1С1 | С1 | С1 |
58 | Rosa R. acicularia Lindl. | М0С1 | М1С1 | С1 | С1 |
59 | R. canina L. | М0С1 | М2С1 | С1 | С1 |
60 | R. rugosa Thunb. | М1С1 | М1С1 | С1 | С1 |
61 | Sorbus S. mougeotii Soy.-Will. & Godr. | М0С1 | |||
62 | Spiraea S. hypericifolia L. | М1С1 | М1С1 | ||
RUTACEAE | |||||
63 | Ptelea P. trifoliata L. | М0С1 | |||
SALICACEAE | |||||
64 | Populus P. alba L. | М2С2 | М1С1 | С2 | |
65 | P. × berolinensis Dippel | М1С0 | |||
66 | P. nigra L. | С2 | |||
67 | P. nigra var. italica Münchh. | М1С1 | |||
68 | Salix S. caspica Pall. | М1С0 | С2 | ||
SAPINDACEAE | |||||
69 | Acer Acer negundo L. | М1С1 | М1С1 | С2 | С1 |
70 | A. platanoides L. | М1С2 | |||
71 | A. semenovii Regel & Herd. | М2С1 | С1 | ||
72 | A. tataricum L. | М2С2 | М1С1 | ||
TAMARICACEAE | |||||
73 | Tamarix T. ramosissima Ledeb. | М1С1 | М1С1 | ||
ULMACEAE | |||||
74 | Ulmus U. laevis Pall. | М1С0 | |||
75 | U. minor Mill. | М1С1 | М1С1 | С1 | С1 |
76 | U. pumila L. | М1С1 | М1С1 | C1 | C2 |
VITACEAE | |||||
77 | Vitis V. rupestris Scheele | М2С1 | |||
Примечание. М – материнские деревья: М0 – экземпляры не сохранились, М1 – сохранились единично, М2 – сохранилась бо́льшая часть; С – возобновление в виде самосева / корневых отпрысков: С0 – возобновление отсутствует, С1 – самосев единичный, С2 – самосев обильный.
* – найден в глубокой яме в мезопонижении рельефа вне представленных экотопов.
Notes. M – parent trees: M0 – no specimens survived, M1 – single specimens survived, M2 – most of specimens survived; C – natural regeneration in the form of self-seeding/root suckers: C0 – no natural regeneration, C1 – single self-seeded plants, C2 – abundant self-seeding.
* – found in a deep pit outside the represented ecotopes.
В настоящее время в Нижнем Поволжье в защитных насаждениях различных типов применяются 78 видов, гибридов и форм деревьев и кустарников, относящихся к 22 семействам и 45 родам [1, 11]. Сходное соотношение выявлено и нами. В дендрарии на падине бóльшая часть сохранившихся растений находится в удовлетворительном состоянии, их возраст превышает 70 лет (рис. 1, a–c), что представляет особый научный интерес, учитывая несвойственные многим видам условия местопроизрастания. Некоторые растения дают обильный самосев или успешно возобновляются корневыми отпрысками (табл. 1). Однако, судя по тому, что на современном этапе основную долю коллекции (более 60%) составляют виды, сохранившиеся в единичных экземплярах и/или с единичным самосевом, следует ожидать массовый отпад многих представителей интродуцентов (рис. 2, а).
В целом, сохранность коллекции составляет 35% от ее первоначального состояния в середине ХХ в., что является не совсем объективным показателем, учитывая, что уже в первые годы акклиматизации выпали многие десятки видов, биология которых не соответствовала почвенно-климатическим условиям местопроизрастания, а в дальнейшем, в отсутствие ухода, процесс отпада усилился.
В дендрарии на почвах солонцового комплекса (рис. 1, d) к 2023 г., в основном по западинам, сохранился 31 вид, относящийся к 14 семействам и 25 родам. Как и в дендрарии на падине, основная часть сохранившихся интродуцентов (рис. 2, b) представлена единичными экземплярами и/или единичным самосевом (более 75%).
В заброшенном пруду найдено 29 видов спонтанно внедрившихся деревьев и кустарников (рис. 1, e). Они относятся к 12 семействам и 20 родам. На старой залежи в падине (рис. 1, f) выявлено 17 видов из 7 семейств и 11 родов.
Рис. 1. Дендрарий на лугово-каштановых почвах в большой падине: вид сверху (a), главная аллея дендрария (b), массивное насаждение дуба черешчатого (c), участок дендрария на почвах солонцового комплекса (d), заросший пруд (e), заросшая залежь (f).
Fig. 1. Arboretum on meadow-chestnut soils of a large mesodepression: aerial view (a), main aisle of the arboretum (b), massive oak plantings (c), arboretum on the soils of solonetzic complex (d), overgrown unused pond (e), overgrown fallow field (f).
Наибольшее число видов (28), составляющее около 37% от их общего количества, ожидаемо относится к семейству розовых (Rosaceae). Такое же соотношение отмечается, например, в дендрариях, относящихся к ФНЦ агроэкологии РАН [12]. Эти виды входят в 10 родов, широко используемых в защитном лесоразведении в аридных регионах. Безусловно, их сохранность и хорошее состояние свидетельствуют о большом потенциале и перспективности для озеленения. Их устойчивость во времени определяется способностью к активному семенному возобновлению за счет широкого анемо- и зоохорного распространения. Именно этим объясняется и их высокая инвазионная активность, отмечаемая в дендрариях многих регионов [13]. 13 видов этого семейства (ирга ольхолистная (Amelanchier alnifolia) и колосистая (A. spicata), кизильник блестящий (Cotoneaster lucidus), боярышники полумягкий (Crataegus monogyna), б. однопестичный (Cr. submollis) и б. Королькова (Cr. korolkowii), яблоня лесная (Malus sylvestris), черемуха виргинская (Prunus virginiana), терн (Pr. spinosa), груша обыкновенная (Pyrus communis), розы морщинистая (Rosa rugosa), иглистая (R. acicularia) и собачья (R. canina) спонтанно заселили склоны неиспользуемого пруда, дают обильный жизнеспособный самосев и продолжают оставаться самой массовой группой вселенцев. Активно осваивая залежь, 10 видов этого семейства формируют своеобразный “саванноподобный” ландшафт (рис. 1, f).
Семейство бобовых (Fabaceae) представлено 4 видами, относящимися к 4 родам. Из них только карагана древовидная (Caragana arborescens) успешно произрастает как в дендрарии в падине, так и на почвах солонцового комплекса и дает самосев. Робиния псевдоакация (Robinia pseudoacacia) растет только на лугово-каштановых почвах в дендрарии на падине, а чингиль (Halimodendron halodendron) – в дендрарии на солонцах (рис. 1, d).
Семейство лоховые (Elaeagnaceae) представлено тремя родами (лох, облепиха и шефердия) и тремя видами, из которых лох остроплодный (Elaeagnus oxycarpa) встречается во всех изученных экотопах, дает многочисленный жизнеспособный самосев и может осваивать различные местообитания. В неиспользуемом пруду на днище он сформировал особый ландшафт квазитугайного облика (рис. 1, e), став доминантом [14, 15]. Массовое расселение разных видов лоха по антропогенным местообитаниям и его натурализация в естественных ценозах отмечаются во многих регионах [16, 17]. Облепиха (Hippophae rhamnoides) на падине сохранилась лишь в виде корневых отпрысков от погибших материнских кустарников (особей), но спонтанно проникла на склоны неиспользуемого пруда, сформовав небольшую куртину.
Семейство сумаховых (Anacardiaceae) представлено двумя родами (скумпия и сумах), по одному виду каждого рода. При этом сумах оленерогий (Rhus typhina) сохранился в коллекции дендрария на падине лишь в виде единичных разновозрастных корневых отпрысков. Материнские кустарники (особи) погибли от экстремальных морозов. Самосев скумпии (Cotinus coggygria) встречается почти во всех изученных экотопах.
В семействе березовых (Betulaceae) отмечены два рода: береза и лещина. Береза повислая (Betula pendula) достигла практически своего предельного возраста и находится в угнетенном состоянии. Кусты лещины (Corylus avellana) периодически обновляются, но самосева не дают.
Семейство маслиновых (Oleaceae) представлено двумя родами (ясень и сирень) и четырьмя видами. Из них ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior) и ясень пенсильванский (F. pennsylvanica) находятся в хорошем состоянии, а последний встречается во всех изученных экотопах, давая обильный самосев. Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) весьма распространена в обоих дендрариях. Сирень персидская (S. persica) в виде одного старого куста сохранилась в коллекции дендрария на падине.
Четырьмя видами представлен род тополь семейства ивовых (Salicaceae). Особенно заслуживает внимания тополь белый (Populus alba), образовавший целые рощи из разновозрастных клонов, как в дендрарии на падине, так и на днище пруда. Спонтанно внедрившийся тополь черный (P. nigra) отмечен только на днище пруда, в то время как в дендрарии на падине сохранились порослевые экземпляры тополей пирамидального (P. nigra var. italica) и берлинского (P. x berolinensis). Род ива представлен аборигенным видом – ивой каспийской (Salix caspica). В дендрарии на падине сохранились лишь единичные усыхающие экземпляры, не дающие самосев, однако в неиспользуемом пруду этот вид вместе с лохом сформировал интразональное ивово-лохово-тополевое сообщество квазитугайного облика [14, 15].
Рис. 2. Соотношение количества сохранившихся видов материнских (М) и самосевных (С) экземпляров в дендрариях Джаныбекского стационара на лугово-каштановых почвах (А) и на солонцовом комплексе (В).
Примечание: Обозначения те же, что в Табл. 1.
Fig. 2. The ratio of the surviving species of the parent (M) and self-seeded (C) specimens in the arboreta of the Dzhanybek Research Station on meadow-chestnut soils (A) and on the solonetzic complex (B).
Note: The survival designations as in the Table 1.
Семейство жимолостных (Caprifoliaceae) представлено двумя видами (жимолость татарская (Lonicera tatarica) и снежноягодник (Symphoricarpos albus)) из двух родов, при этом только жимолость встречается почти во всех изученных экотопах, давая обильный, многочисленный, разновозрастный самосев. Снежноягодник растет кучно, образуя куртину из постоянно обновляющихся кустов.
В семействе сапиндовые (Sapindaceae) род клен представлен четырьмя видами, экземпляры которых хорошо сохранились и дают многочисленный самосев, особенно клены татарский (Acer tataricum) и ясенелистный (A. negundo). Последний вид проявляет некоторые признаки инвазионности даже в этом регионе [18]. Клен остролистный (A. platanoides) представлен многочисленным разновозрастным самосевом по всему дендрарию.
Тремя видами представлен род барбарис семейства барбарисовых (Berberidaceae). Почти все они отличаются хорошей сохранностью и возобновлением, а барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris) дает многочисленный самосев во всех исследованных местообитаниях.
Семейство ильмовых (Ulmaceae) представлено тремя видами рода вяз: вяз гладкий (Ulmus laevis), берест (U. minor) и вяз приземистый (U. pumila). Два последних встречаются на всех изученных участках, что неудивительно, учитывая, что именно эти виды, особенно вяз приземистый, являются основными в защитном лесоразведении региона.
В семействе буковых (Fagaceae) род дуб представлен двумя видами: дуб северный (Quercus borealis) и дуб черешчатый (Q. robur). Сохранилась основная часть материнских деревьев дуба северного в куртинных посадках. Массивное насаждение дуба черешчатого (рис. 1, c) со сформировавшейся ярусной структурой и подлеском по своему облику и особенностям наиболее близко к южнорусским широколиственным лесам [19].
Семейство крыжовниковые (Grossulariaceae) представлено одним родом смородина и двумя видами: смородиной альпийской (Ribes alpinum), не дающей самосева, и смородиной золотой (R. aureum), “захватившей” все экотопы за счет многочисленного самосева.
Из семейства мальвовых (Malvaceae) сохранились представители только одного рода – липа. Материнские экземпляры липы американской (Tilia americana) и липы сердцевидной (T. cordata) погибли несколько лет назад, однако сохраняется малочисленный самосев.
Остальные семейства представлены одним родом и, в основном, одним видом. Бузина красная (Sambucus racemosa) из семейства адоксовые (Adoxaceae) сохранилась в глубокой траншее, в 500 м от дендрария. Растение обильно плодоносит. В самом дендрарии оно отсутствует.
Семейство амарантовые (Amaranthaceae) представлено родом саксаул. Саксаул зайсанский (Haloxylon ammodendron), сохранившийся в единичном экземпляре в дендрарии на почвах солонцового комплекса, периодически дает многочисленный самосев.
Семейство бигнониевых (Bignoniaceae) представлено родом катальпа. Катальпа бигнониевидная (Catalpa bignonioides) была высажена на центральной аллее дендрария в падине. В настоящее время сохранились лишь единичные усыхающие экземпляры, самосева нет.
Еще 20 лет назад полностью погибла куртина каркаса западного (Celtis occidentalis), однако до сих пор, что удивительно, в разных местах дендрария на падине можно найти самосев этого представителя семейства коноплевых (Cannabaceae), он также встречается и на склонах пруда.
В небольшом количестве в дендрарии на падине сохранились: бересклет европейский (Euonymus europaeus) семейства бересклетовых (Celastraceae), чубушник венечный (Philadelphus coronarius) семейства гортензиевых (Hydrangeaceae), птелея трехлистная (Ptelea trifoliata) семейства рутовых (Rutaceae), виноград скальный (Vitis rupestris) семейства виноградовые (Vitaceae). Тамарикс ветвистый (Tamarix ramosissima) семейства тамариксовые (Tamaricaceae) сохранился как по краям падины, так и в дендрарии на почвах солонцового комплекса. Жостер слабительный (Rhamnus cathartica) семейства крушиновых (Rhamnaceae) встречается почти во всех экотопах.
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) семейства сосновые (Pinaceae), к сожалению, после резкого ухудшения состояния в 70-летнем возрасте, в 2023 г. погибла. Встречается единичный самосев.
В целом, проведенный анализ показал, что видовое разнообразие интродуцентов дендрариев Джаныбекского стационара во многом поддерживается за счет “ротации” поколений деревьев и кустарников. Гибель материнских экземпляров при сохранении самосевных или корнеотпрысковых экземпляров тех или иных видов в последние десятилетия не вызывает резкого сокращения списка видов.
В процессе акклиматизации интродуцентов выделяется начальный период, который характеризуется гибелью тех растений, биология которых не соответствует климатическим условиям местопроизрастания. В первые же годы после посадки погибли десятки видов, которые подверглись вымерзанию или не смогли перенести длительный период летней засухи: орех грецкий (Juglans regia), буддлея (Buddleja davidii), пузырник (Colutea), ракитник австрийский (Cytisus austriacus), магония падуболистная (Mahonia aquifolium), чубушник Левиза (Philadelphus lewisii), сосна горная (Pinus mugo), сирень амурская (Syringa amurensis), леспедеца (Lespedeza) и др. [8].
После 45 лет акклиматизации для интродукции были рекомендованы дуб черешчатый, береза повислая, виды липы, клена, рябина (Sorbus aucuparia) и др. Список насчитывал около 100 видов деревьев и кустарников, причем, преимущественно, это были мезофилы бореального происхождения [9].
Во второй период с начала 90-х гг. прошлого века стали погибать те растения, которые не выдерживали постепенного засоления пресных линз грунтовых вод по мере их исчерпания, вызванного сильной десукцией. Вследствие этого многие виды переставали использовать засоляющуюся воду из линз и постепенно усыхали, т.к. влаги из верхних горизонтов почвы было недостаточного для нормального функционирования интродуцентов [19]. Выжили деревья и кустарники, которые имеют преимущественно поверхностную корневую систему и/или используют воду из засоляющейся линзы. К таким интродуцентам относятся, например, ясень пенсильванский, жимолость татарская, сирень обыкновенная, ирга, тополь белый, барбарис обыкновенный, черемуха виргинская, карагана древовидная. В это же время дендрарии вынужденно были оставлены без лесоводственных и агротехнических уходов, лишь в некоторых случаях убирался валежник. Это привело к существенному сокращению их коллекции, а также к появлению излишнего многочисленного жизнеспособного самосева некоторых видов деревьев и кустарников, в том числе, на полянах с чистым паром – “магазинах влаги” [20].
Третий период, наблюдаемый с начала 2000-х годов, характеризуется участившимися засухами и отсутствием пополнения падин влагой во время весеннего стока талых вод [21], что существенным образом ухудшило эти условия местопроизрастания. Оказалось, что к 60-летнему возрасту насаждений пресная линза грунтовых вод исчерпалась из-за высокой десуктивной нагрузки, поэтому многие материнские деревья погибли вследствие уменьшения влагообеспеченности. К сожалению, полностью выпали некоторые интересные виды: гледичия (Gleditsia triacanthos), лиственница сибирская (Larix sibirica), клены сахарный (Acer saccharum) и серебристый (A. saccharinum), рябина обыкновенная, каштан конский (Aesculus hippocastanum), достигшие предельного для них 40–60-летнего возраста. В угнетенном виде находятся куртины березы, аллеи катальпы и тополей (кроме тополя белого), загущенные участки дуба черешчатого. В целом, современное состояние интродуцентов определяется комплексом факторов: предельным возрастом, ухудшением почвенно-гидрологических условий мест произрастания, негативным климатогенным воздействием, отсутствием ухода, возрастающей межвидовой конкуренцией. Тем не менее, современный уточненный состав интродуцентов позволяет выделить основное “ядро” видов, которые на основании столь продолжительного эксперимента могут быть рекомендованы к широкому внедрению в практику озеленения этого региона и создания устойчивых насаждений на лугово-каштановых почвах.
Виды, которые, обладают широкой экологической пластичностью, большим адаптивным потенциалом [15], спонтанно внедряются и закрепляются на нарушенных землях, иногда представляют угрозу как инвазионные. К ним относятся: барбарис обыкновенный, лох остроплодный, смородина золотая, ясень пенсильванский, ирга ольхолистная и колосистая, яблоня лесная, терн, черемуха виргинская, груша обыкновенная, шиповники, клен ясенелистный, берест, вяз приземистый. Они составляют 20% списка (табл. 1), встречаются во всех изученных экотопах, а многие из них входят в т.н. “Черную книгу…” и относятся к чужеродным видам [22, 23], контроль за распространением которых обычно требует интегрированных усилий, а также превентивных, сдерживающих и смягчающих мер [6, 24]. Но, учитывая, что для успешных инвазий в условиях полупустыни необходимо сочетание ряда факторов: близость источника жизнеспособных семян, дополнительное увлажнение, нарушенность почвенного и растительного покровов, отсутствие конкуренции с естественной растительностью, ограничение пастьбы, такие инвазии представляются нам малозначимыми и/или кратковременно действующими. В то же время, эти же виды, при условии грамотного ведения лесного хозяйства могут применяться для создания устойчивых и долговечных самовозобновляющихся насаждений разного функционального назначения. В целом, этот многолетний научный эксперимент позволил также выявить потенциальную возможность собственного долголетия и возобновительную способность интродуцентов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Натурный эксперимент по созданию в начале 1950-х годов искусственных лесных экосистем без полива в полупустыне Северного Прикаспия представлял собой попытку интродукции деревьев и кустарников в несвойственные для них условия местопроизрастания. Формирование дендрариев на территории Джаныбекского стационара на многие десятилетия стало важной составляющей научных исследований самой возможности выращивания здесь разнообразных древесных и кустарниковых растений и особенностей их акклиматизации.
В этих условиях их сохранность и устойчивое функционирование не в последнюю очередь определяется выбором ассортимента деревьев и кустарников с наилучшим собственным долголетием и/или возобновительной способностью (семенной и вегетативной). В этом отношении показателен 73-летний интродукционный эксперимент Джаныбекского стационара – одного из первых “полигонов”, где было доказано, что при правильном научном подходе, даже при отсутствии агротехнического и лесоводственного ухода в течение многих десятилетий, сохраняется жизнеспособность многих видов в коллекциях дендрариев.
Проведенный анализ состояния этих коллекций и оценка видового разнообразия сообществ, спонтанно сформировавшихся в искусственном мезопонижении рельефа (интразональный ивово-лохово-тополевый квазитугай) и на залежи (“саванноподобный” ландшафт), позволили оценить перспективность их существования в несвойственных для них условиях местопроизрастания. Уточненный видовой состав сохранившихся интродуцентов позволяет более обоснованно подходить к созданию устойчивых долговечных насаждений в аридных регионах.
БЛАГОДАРНОСТИ
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного Фонда. Проект № 23-24-00164.
ACKNOWLEDGMENTS
The study was supported by the Russian Science Foundation, grant No. 23-24-00164.
About the authors
M. L. Sizemskaya
Institute of Forest Science, RAS
Author for correspondence.
Email: sizem@mail.ru
Russian Federation, Uspenskoe, Moscow Region
M. K. Sapanov
Institute of Forest Science, RAS
Email: sizem@mail.ru
Russian Federation, Uspenskoe, Moscow Region
References
- Semenyutina A.V. 2013. Dendroflora of forest-meliorative complexes. Volgograd. 266 p. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28414299 (In Russian)
- Brand D., Moshe I., Shachak M. 2015. Functional rehabilitation of desertified ecosystems in Israel: Ecological and socioecological perspectives. – In: Living Land. UNCCD. P. 88–92. https://catalogue.unccd.int/562_Living_Land_ENG.pdf
- Vlasenko A. 2015. Analysis of Ex Situ Cultivation of Ukrainian Rare Steppe Dendroflora. – Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University. 5(1): 24–47. https://www.ujecology.com/articles/analysis-of-ex-situ-cultivation-of-ukrainian-rare-steppe-dendroflora.pdf (In Ukrainian)
- Sun R., Tian T. 2016. Houston Arboretum & Nature Center, Texas. – Landsc. Archit. Front. 4(3): 86–99. https://journal.hep.com.cn/laf/EN/Y2016/V4/I3/86
- Boiko T.O., Dementieva O.I. 2018. The tree vegetation of the Kherson State Agrarian University Arboretum. – Ukrainian Journal of Ecology. 8(2): 120–127.
- https://www.ujecology.com/articles/the-tree-vegetation-of-the-kherson-state-agrarian-university-arboretum.pdf (In Ukrainian)
- Burda R.I., Koniakin S.N. 2019. The non-native woody species of the flora of Ukraine: Introduction, naturalization and invasion. – Biosyst. Divers. 27(3): 276–290. https://doi.org/10.15421/011937
- [Biogeocoenotic principles of the reclamation of the Northern Caspian semi-desert]. 1974. Moscow. 360 p. (In Russian)
- Karandina S.N., Erpert S.D. 1972. [Climatic testing of tree species in the Caspian semi-desert]. Moscow. 127 p. (In Russian)
- Senkevich N.G., Olovyannikova I.N. 1996. [Introduction of arboreal plants in semi-deserts of the Northern Caspian Region]. Moscow. 180 p. (In Russian)
- The Plant list. Version 1.1. September 2013. WFO (2023): The World Flora Online. https://www.worldfloraonline.org/
- Semenyutina A.V., Tereshkin A.V. 2016. Protective sfforestation: Analysis of the composition and the scientific basis of increasing biodiversity dendroflora. – Advances in Current Natural Sciences. 4: 99–104. https://natural-sciences.ru/ru/article/view?id=35870 (In Russian)
- Semenyutina A.V., Dolgih A.A., Panov V.I., Zelenyak A.K. 2016. Introduction as a way of increasing biodiversity and enrichment of dendroflora in arid areas. – Environment and Human: Ecological Studies. 3: 47–54. http://soc-ecol.ru/introduction-as-a-way-of-increasing-biodiversity-and-enrichment-of-dendroflora-in-arid-areas/ (In Russian)
- Yatsenko I.O., Vinogradova Yu.K. 2018. Invasive activity of woody plants in the Tsytsyn Botanical Garden of the RAS. – Russian Journal of Biological Invasions. 4: 117–131. http://www.sevin.ru/invasjour/issues/2018_4/Yatsenko_18_4.pdf (In Russian)
- Sizemskaya M.L., Kopyl I.V., Sapanov M.K. 1995. Colonization of artificial mesorelief lowlands by wood and shrub vegetation in a semi-desert of the Caspian Sea Region. – Russian Journal of Forest Science (Lesovedenie). 1: 15–23. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21267005 (In Russian)
- Sizemskaya M.L., Elekesheva M.M., Sapanov M.K. 2020. Formation of forest biogeocenoses on disturbed lands of the Northern Caspian Region. – Povolzhskiy J. of Ecology. 1: 86–98. https://doi.org/10.35885/1684-7318-2020-1-86-98 (In Russian)
- Berezutsky M.A., Zavyalov E.V., Mosolova E. Yu., Tabachishin V.G., Yakushev N.N. 2008. [On the naturalization and some biotic relationships of oleaster (Elaeagnus oxycarpa Schlecht.) in the Saratov region. – Bulletin of Botanic Garden of Saratov State University. 7: 52–59. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28781130 (In Russian)
- Zhang X., Li G., Du S. 2018. Simulating the potential distribution of Elaeagnus angustifolia L. cased on climatic constraints in China. – Ecol. Eng. 113: 27–34. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2018.01.009
- Sapanov M.K., Sizemskaya M.L. 2021. Ecological features of the ash-leaved maple regrowth in Russia’s arid regions. – Russian Journal of Forest Science (Lesovedenie). 3: 325–334. https://doi.org/10.31857/S0024114821030098 (In Russian)
- Sapanov M.K. 2003. [Ecology of forest plantations in arid regions]. Tula. 248 p. (In Russian)
- Sapanov M.K. 2010. Influence of climate change on the water resources of Northern Pricaspian Lowland. – Arid Ecosystems. 16(5): 25–30. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15487267 (In Russian)
- Sapanov M.K. 2018. Environmental Implications of Climate Warming for the Northern Caspian Region. – Arid Ecosystems. 8(1): 13–21. https://doi.org/10.1134/S2079096118010092
- Vinogradova Yu.K., Mayorov S.R., Khorun L.V. 2010. [The Black Book of flora of Central Russia: alien plant species in ecosystems of Central Russia]. Moscow. 503 p.
- https://www.rfbr.ru/rffi/ru/books/o_26717 (In Russian)
- Nentwig W., Bacher S., Kumschick S., Pyšek P., Vilà M. 2018. More than “100 worst” alien species in Europe. – Biol. Invasions. 20(6): 1611–1621. https://doi.org/10.1007/s10530-017-1651-6
- van Kleunen M., Dawson W., Essl F., Pergl J., Winter M., Weber E., et al. 2015. Global exchange and accumulation of non-native plants. – Nature. 525(7567): 100–103. https://doi.org/10.1038/nature14910
Supplementary files