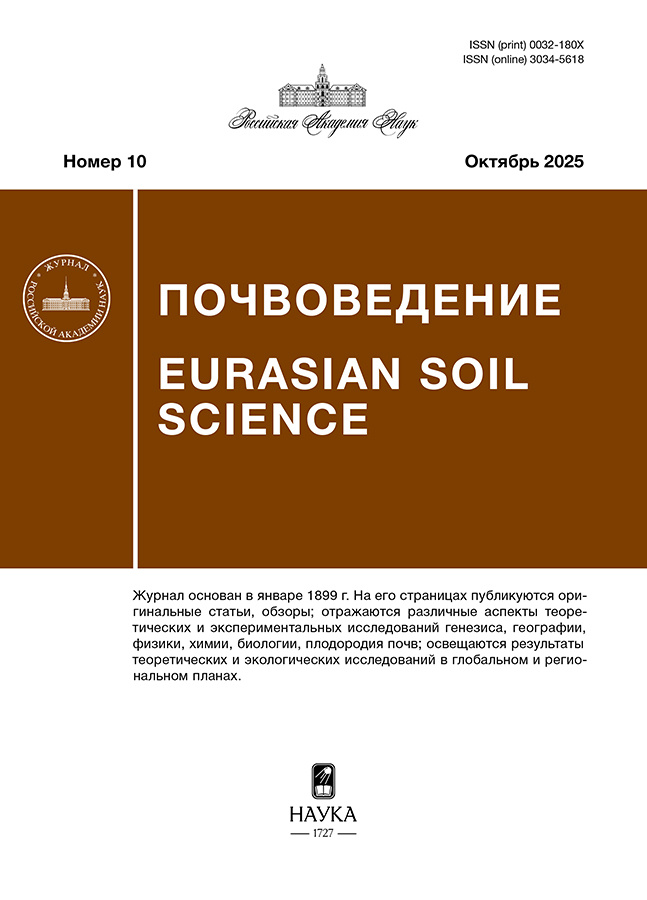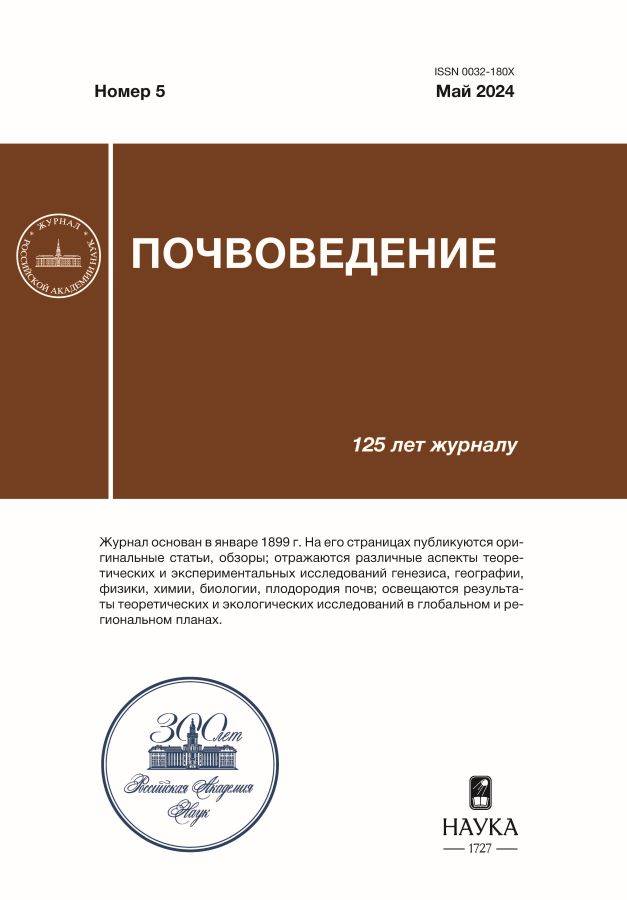Влияние сплошной рубки на эмиссию СО2 с поверхности подзолистой почвы среднетаежного хвойно-лиственного насаждения (Республика Коми)
- Авторы: Осипов А.Ф.1, Старцев В.В.1, Дымов А.А.1,2
-
Учреждения:
- Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
- МГУ им. М.В. Ломоносова
- Выпуск: № 5 (2024)
- Страницы: 728-737
- Раздел: ФИЗИКА ПОЧВ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0032-180X/article/view/270795
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0032180X24050066
- EDN: https://elibrary.ru/YLINPY
- ID: 270795
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Воздействие промышленных рубок на углеродный цикл бореальных лесов в настоящее время освещено недостаточно, что требует получения экспериментальных данных о потоках углерода, в частности дыхании почвы, на вырубках для определения влияния хозяйственной деятельности на круговорот углерода. Цель работы – оценить влияние сплошной рубки на эмиссию СО2 с поверхности почвы хвойно-лиственного насаждения на типичной подзолистой почве (Albic Retisol). Работа выполнена в течение бесснежных периодов с мая по октябрь 2020–2022 гг. в хвойно-лиственном насаждении и его вырубке, проведенной зимой 2020 г. Приведена краткая характеристика погодных условий в годы исследований и динамика температуры почвы на глубине 10 см. Для анализируемых объектов установлена положительная, статистически значимая взаимосвязь между дыханием почвы и ее температурой на глубине 10 см (R2 = 0.17–0.75; p < 0.001). Корреляция с влажностью почвы как положительная, так и отрицательная, статистически незначима, за исключением данных, полученных в 2022 г. в ненарушенном фоновом насаждении. В течение бесснежного периода высокие значения потока СО2 3.90–5.62 г С/(м2 сут) в ненарушенных лесах и 2.3–2.5 г С/(м2 сут) на вырубках наблюдались в июле–августе. В 2021 г. пик выделения смещался на июнь. Сплошная рубка оказывает отрицательное влияние на дыхание типичной подзолистой почвы, уменьшая его в 1.2–1.9 раза в условиях средней тайги Республики Коми. Во время летних месяцев с поверхности почвы выделяется 55–66% от эмиссии C–CО2 в течение бесснежного периода, а вклад вегетационного периода май–сентябрь составляет 84–88%. Полученные данные послужат для определения роли промышленных рубок в углеродном цикле таежных лесов.
Полный текст
Введение
Дыхание почвы (SR) является вторым крупнейшим потоком углерода между атмосферой и наземными экосистемами [16]. Однако для региональных и глобальных оценок дыхания почвы по-прежнему характерна высокая неопределенность [14, 26], значимый вклад в которую вносит хозяйственная деятельность человека. В условиях изменяющегося климата лесные экосистемы рассматриваются как долговременный резервуар органического углерода, так и крупный его поглотитель [10]. Вместе с тем на баланс углерода в лесах существенное влияние оказывают промышленные рубки [6, 29]. Сплошные рубки, характеризующиеся заготовкой более 70% от стоящего на корню объема древесины на лесосеках, являются доминирующим типом рубки в бореальных лесах [28]. Поэтому важно, чтобы в долгосрочной перспективе они не снижали продуктивность почв [34]. Этот способ ведения лесного хозяйства оказывает существенное воздействие на основные факторы, определяющие эмиссию СО2 из почв. Так, удаление древесного яруса обусловливает как лучшее прогревание, так и быстрое остывание почв [3, 13], а прекращение транспирации нередко приводит к их переувлажнению [5, 24]. Кроме того, прекращается функционирование корневых систем растений, дыхание которых является составной частью SR, а их деструкция включается в гетеротрофное дыхание [23].
Сложности в прогнозе баланса углерода и дыхания почвы, в частности, вносит тот факт, что круговорот углерода послерубочных сообществ зависит от типа экосистемы, климата, почвенных условий, степени нарушения почвы и скорости восстановления растительного покрова [33]. Следует отметить отсутствие однозначных результатов о трансформации SR после сплошных рубок. По сведениям ряда авторов, наблюдается усиление дыхания почвы [12, 15, 22], тогда как другие исследователи приводят данные о снижении интенсивности эмиссии СО2 с поверхности почвы послерубочных сообществ [13, 24, 27, 34]. Для уточнения роли заготовки древесины в углеродном цикле лесных экосистем необходимо накопление эмпирических данных путем проведения экспериментальных работ в послерубочных сообществах разных типов и стадий восстановительной сукцессии. Особый интерес представляют работы, характеризующие трансформацию свойств и процессов в экосистемах, сочетающие данные до и после нарушения на одних и тех же участках [4, 18].
Цель работы – оценить влияние сплошной рубки на эмиссию СО2 с поверхности почвы среднетаежного хвойно-лиственного насаждения на типичной подзолистой почве на европейском Северо-Востоке России.
ОБъекты и методы
Исследования выполнены в подзоне средней тайги Республики Коми в течение мая–октября 2020–2022 гг. Климат района – умеренно континентальный, умеренно холодный. Среднемесячная температура воздуха в июле составляет +16.6°С. Среднегодовая температура +0.4°С, годовое количество осадков 514 мм [2]. Согласно почвенно-географическому районированию Республики Коми [1], исследуемая территория расположена в южной части Вымь-Вычегодского округа типичных подзолистых почв, иллювиально-железистых подзолов, торфянисто-подзолисто-глееватых иллювиально-гумусовых почв. Почвообразующими породами служат суглинисто-глинистые однородные и слоистые отложения различного генезиса.
Настоящая работа является частью эксперимента по сбору данных в хвойно-лиственном насаждении на типичной подзолистой почве (Albic Retisol) до рубки (исходный лес (ИЛ)) в 2020 г., с последующей сплошной рубкой насаждения в декабре 2020 г. и дальнейшем наблюдении на начальных этапах восстановления экосистемы. Описание эксперимента, растительных сообществ и свойств почвы до и после рубки приведено в работе [4]. В качестве контрольного участка для исследований в течение 2021–2022 гг. выбрано хвойно-лиственное насаждение, произрастающее рядом с вырубкой на удалении примерно 400 м от места первоначальных исследований. Точки измерения эмиссии СО2 на фоновом участке были размещены примерно в 100 м от границы вырубки вглубь лесного массива.
Эмиссию СО2 измеряли раз в месяц инфракрасным газоанализатором LI COR 8100 (LI-COR Inc., США) с почвенной камерой диаметром 20 см на стационарных основаниях высотой 10 см, которые были врезаны в лесную подстилку (до подгоризонта О(Н)) на 5 см за неделю до начала измерений. Изоляция и плотное прилегание камеры к основанию обеспечивается уплотнителем, расположенным на нижней части камеры. До рубки измерения проводили на 7 основаниях (всего более 250 определений потока СО2; около 50 измерений в месяц), после рубки в фоновом хвойно-лиственном насаждении и пасечных участках было установлено 5 и 6 оснований соответственно, на которых было выполнено по 160 и 230 измерений SR (15–25 определений потока СО2 в месяц). Надземные зеленые части растений напочвенного покрова срезали. Перед рубкой основания убирали. Во время определения скорости эмиссии СО2 измеряли температуру на глубине 10 см и влажность почвы в слое 0–5 см датчиками, входящими в комплектацию прибора. Глубина 10 см для оценки влияния температуры почвы выбрана в связи с ее меньшими суточными амплитудами. Выбор слоя 0–5 см для характеристики воздействия влажности почвы на SR обусловлен тем, что в верхних слоях происходит более активное разложение растительного опада и лесной подстилки. Непрерывное измерение (8 измерений в сутки) температуры почвы осуществлялось метеостанциями фирмы НОВО (Onset, США). Результаты по динамике температуры почвы в течение бесснежного периода 2020 г. представлены на основании 118 среднесуточных данных, в 2021 – 130 и 170 в фоновом насаждении и вырубке, в 2022 – 172 и 118 среднесуточных значений соответственно.
Погодные условия описывали по данным метеостанции аэропорта Сыктывкар имени П.А. Истомина (61°39ʹ50.4ʺ N, 50°51ʹ05.0ʺ E), используя открытые данные [20]. Были рассчитаны следующие метеорологические индексы: 1) сумма среднемесячных значений температуры воздуха (ST, °C) с мая по август, июня по август, июня по сентябрь и с мая по сентябрь, соответственно; 2) сумма месячных сумм осадков (SP, мм) за те же периоды, упомянутые выше для суммы температур; 3) индексы влажности (WI): WI(5–8), WI(6–8), WI(6–9) и WI(5–9), которые представляют собой lg(SP(5–8)/ST(5–8)), lg(SP(6–8)/ST(6–8)), lg(SP(6–9)/ST(6–9)) и lg(SP(5–9)/ST(5–9)) соответственно; 4) гидротермический коэффициент Селянинова за летний период. Все оцененные параметры отражают различия в обеспечении растений влагой в течение вегетации [26].
Взаимосвязь эмиссии СО2 с температурой и влажностью почвы обычно описывается линейными или экспоненциальными уравнениями. В работе применяли экспоненциальные уравнения, приведенные к линейному виду:
lnSR= α X + β, (1)
где lnSR – логарифмированные данные по дыханию почвы, α и β – коэффициенты уравнения, Х – температура (°С) или влажность почвы (об. %).
В результате использования подобного уравнения достигается нормальность распределения остатков линейной модели и однородность дисперсий ее ошибок. Для регрессионного анализа объем выборки составил: ИЛ – 250 измерений; фон 82 и 75 данных потока СО2, в 2021 и 2022 гг., соответственно; вырубка – 107 и 109 определений потока в 2021 и 2022 гг.
Температурный коэффициент Q10 описывает скорость изменения дыхания почвы на изменение температуры и рассчитывается по уравнению [17]:
Q10 = eα × 10, (2)
где Q10 – температурный коэффициент, е – значение экспоненты, α – коэффициент уравнения (1).
Результаты непрерывных измерений температуры почвы применяли для расчета потока углерода с эмиссией СО2 (С–СО2) для каждого основания, на котором определялось дыхание почвы, используя уравнение (3):
, (3)
где SRperiod – поток C–CО2 за временной интервал, г С/м2, SR10 – величина SR при температуре 10°С, Q10 – температурный коэффициент, Тп – среднесуточная температура почвы на глубине 10 см. Следовательно, объем выборки для расчета выноса составил: 7, 5 и 6 для ИЛ, фонового насаждения и вырубки соответственно.
При отсутствии данных из-за неработающего датчика расчет потока C–CО2 проводили по величине среднемесячной эмиссии:
где SRperiod – поток C–CО2 за временной интервал, г С/м2, SR – величина среднемесячного потока СО2, г С/(м2 сут), N – число дней с отсутствующими данными по температуре почвы.
Поток C–CО2 рассчитывали для летних (июнь–август) месяцев, вегетационного (май–сентябрь) и бесснежного периодов (май–октябрь).
Статистическая обработка выполнена в программной среде Microsoft Excel 2010 и R 4.03 [31]. Рассчитывали средние значения и их ошибки. Метод Шапиро–Уилка использовали для оценки нормальности распределения исходных данных и остатков линейных моделей регрессии. Для парных сравнений применяли t-критерий Стьюдента (pt). Дисперсионный анализ (критерий Краскела–Уоллиса из-за отличия распределения общего массива исходных данных от нормального и неоднородности дисперсий) проводили для оценки различий SR между среднемесячными значениями в течение бесснежного периода. Статистический анализ выполнен при 95%-ном уровне значимости.
Результаты и обсуждение
Погодные условия в период наблюдений. Краткая характеристика погодных условий в годы наблюдений представлена в табл. 1. Средняя температура воздуха в течение исследуемых бесснежных и вегетационных периодов была сопоставима. Так, с мая по октябрь она изменялась от 11.8 до 12.3°С а с мая по сентябрь от 13.5 до 14.2°С, с меньшими значениями в 2020 и более высокими в 2021 г. В летние месяцы, напротив, в 2021–2022 гг. средняя температура воздуха была на 1.5–1.6°С выше, чем в 2020 г. (pt < 0.05). Поступление осадков в течение бесснежного и вегетационного периодов 2020 г. составило 405 и 333 мм соответственно, а в 2021–2022 гг. − 353–358 и 290–292 мм. Сумма осадков в летние месяцы варьировала от 166 до 179 мм. Таким образом, бесснежные периоды 2021–2022 гг. были сопоставимы по обеспеченности теплом и влагой, тогда как 2020 г. характеризовался более интенсивным поступлением осадков. Меньшие значения индекса увлажнения для всех анализируемых периодов были отмечены в 2021 г. Гидротермический коэффициент Селянинова в летние месяцы 2020–2022 был сопоставим и изменялся от 1.06 до 1.11, что свидетельствует о достаточном увлажнении.
Таблица 1. Метеорологические показатели в годы исследований
Месяц/параметр | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | |||
Т, °С | осадки, мм | Т, °С | осадки, мм | Т, °С | осадки, мм | |
Май | 10.2 | 67.0 | 12.3 | 63.0 | 7.7 | 59.0 |
Июнь | 13.8 | 40.9 | 18.4 | 62.6 | 14.8 | 67.0 |
Июль | 20.0 | 58.4 | 17.7 | 66.3 | 19.9 | 32.5 |
Август | 13.8 | 70.8 | 16.2 | 36.8 | 18.1 | 79.3 |
Сентябрь | 9.5 | 96.0 | 6.3 | 61.0 | 7.3 | 53.7 |
Октябрь | 3.1 | 72.7 | 2.7 | 63.4 | 4.3 | 66.8 |
Σ(5–8) | 57.9 | 236.8 | 64.5 | 228.6 | 60.5 | 237.9 |
Σ(6–8) | 47.6 | 170.0 | 52.2 | 165.7 | 52.8 | 178.8 |
Σ(6–9) | 57.2 | 265.9 | 58.5 | 226.7 | 60.1 | 232.5 |
Σ(5–9) | 67.4 | 332.8 | 70.8 | 289.6 | 67.8 | 291.5 |
WI(5–8) | 0.61 | 0.55 | 0.59 | |||
WI(6–8) | 0.55 | 0.50 | 0.53 | |||
WI(6–9) | 0.67 | 0.59 | 0.59 | |||
WI(5–9) | 0.69 | 0.61 | 0.63 | |||
Динамика температуры почвы на глубине 10 см. Динамика температуры почвы (Тп) на глубине 10 см в течение бесснежного периода представлена на рис. 1. Относительно высокие (12.4–13.6°С) значения Тп в хвойно-лиственных насаждениях наблюдались в конце июля–середине августа. Высокая температура воздуха в августе 2022 г. обусловила длительное накопление тепла в фоновом насаждении. В целом динамика температуры почвы была схожа как для ИЛ и фона в годы наблюдений (pt > 0.05), так между данными 2021 и 2022 гг. (pt = 0.186). Установлено, что сплошная рубка оказывает положительное влияние на прогревание верхнего слоя почвы. Так, в летние месяцы среднесуточная Тп на вырубке в 1.2–1.4 выше, чем в хвойно-лиственном насаждении, тогда как осенью она сопоставима. На вырубке отмечаются более благоприятные температурные условия по сравнению с ИЛ и фоновым насаждением (pt < 0.001 во всех случаях). Аналогичные закономерности о влиянии сплошных рубок на температурный режим почв в условиях средней тайги Республики Коми представлены в работах [3, 13].
Рис. 1. Динамика температуры почвы на глубине 10 см. I, II, III – номер декады.
Влияние температуры и влажности почвы на эмиссию СО2 с ее поверхности. Температура почвы оказывает положительное, статистически значимое (р < 0.001) влияние на интенсивность выделения СО2 с поверхности почв как ненарушенных насаждений, так и вырубки (табл. 2). Более тесная взаимосвязь (R2 = 0.75–0.79) отмечена для ИЛ и фонового насаждения в 2022 г. Следует отметить сходную очень низкую величину объясненной дисперсии (R2 = 0.17–0.18) между Тп и потоком СО2 по данным 2021 г. для фонового хвойно-лиственного насаждения и вырубки. Выявлено, что сплошная рубка оказывает отрицательное влияние на температурный отклик почвенного дыхания, что выражается снижением значения коэффициента Q10 на вырубке в 1.2–2.5 раза по сравнению с ненарушенным хвойно-лиственным насаждением. Взаимосвязь эмиссии СО2 с влажностью почвы (Wп) положительная в 2021 г. и отрицательная в 2022 г. Ее статистически значимое воздействие отмечено в 2022 г. в фоновом хвойно-лиственном насаждении, что, вероятно, связано с меньшим количеством поступающих осадков по сравнению с климатической нормой второй год подряд.
Таблица 2. Характеристика линейных уравнений (lnSR = αX + β) взаимосвязи дыхания почвы с ее температурой (Ts, на глубине 10 см) и влажностью (Ms, в слое 0–5 см)
Фактор (год, объем выборки) | Коэффициент уравнения | R2 | p-value | Q10 | SR10, г С (м2 сут) | |
α | β | |||||
Исходное хвойно-лиственное насаждение | ||||||
Ts (2020, n = 250) | 0.173(0.006) | –1.071(0.071) | 0.75 | <0.001 | 5.66 | 1.94 |
Фоновое хвойно-лиственное насаждение | ||||||
Ts (2021, n = 83) | 0.058(0.014) | 0.762(0.160) | 0.17 | <0.001 | 1.78 | 3.82 |
Ts (2022, n = 74) | 0.158(0.019) | –0.528(0.203) | 0.79 | <0.001 | 4.88 | 2.88 |
Ms (2021, n = 83) | 0.109(1.170) | 1.365(0.189) | 0.00 | 0.927 | ||
Ms (2022, n = 74) | –3.215(1.145) | 1.470(0.200) | 0.29 | 0.011 | ||
Вырубка | ||||||
Ts (2021, n = 107) | 0.040(0.008) | 0.426(0.107) | 0.18 | <0.001 | 1.50 | 2.29 |
Ts (2022, n = 109) | 0.068(0.015) | –0.196(0.159) | 0.40 | <0.001 | 1.98 | 1.62 |
Ms (2021, n = 107) | –0.023(0.255) | 0.927(0.064) | 0.00 | 0.930 | ||
Ms (2022, n = 109) | –0.375(0.613) | 0.508(0.154) | 0.01 | 0.546 | ||
Температура и влажность почвы являются наиболее значимыми абиотическими факторами, определяющими эмиссию СО2 с поверхности почвы [14]. Известно, что значение Тп для дыхания почвы увеличивается в ненарушенных экосистемах, формирующихся в условиях недостатка тепла и переувлажнения с одновременным снижением воздействия влажности почвы, которое во многом ингибирует дыхание корней и гетеротрофное разложение [7, 9, 11, 21, 26]. Отсутствие корреляции между дыханием и Wп установлено для вырубок хвойных лесов, что обусловлено избытком почвенной влаги после рубки древостоя [13, 24, 34]. Выявлено негативное влияние сплошной рубки на температурный отклик (Q10) эмиссии СО2 с поверхности почвы, что также показано в настоящей работе на второй год после сплошной рубки хвойно-лиственного насаждения.
Динамика эмиссии СО2 с поверхности почвы в течение бесснежного периода. Данные, приведенные в табл. 3 свидетельствуют, что динамика эмиссии СО2 с поверхности подзолистой почвы исходного хвойно-лиственного насаждения имела аналогичные закономерности, полученные ранее для еловых сообществ таежной зоны [8, 9, 11, 21]. Более высокие значения скорости потока (3.90–3.95 г С/ (м2 сут)) отмечены в июле–августе, между которыми отсутствуют значимые различия (pt = 0.996). Выделение СО2 с поверхности почвы фонового хвойно-лиственного насаждения различалось в годы исследований. Так, в 2022 г. динамика эмиссии имела классический сезонный ход кривой с максимальной интенсивностью в июле–августе, тогда как в 2021 г. пик выделения сместился на июнь. Наблюдаемый эффект, вероятно, обусловлен более активным выпадением осадков (66 мм, больше в 1.2–2.0 раза, чем в 2020 и 2022 гг.) и меньшей (на 2.2–2.3°С по сравнению с 2020 и 2022 гг.) среднемесячной температурой воздуха в июле 2021 г. Август 2021 г. был засушливым, что неблагоприятно сказывается на разложении органического вещества растительного опада и лесной подстилки, а также дыхании корней растений.
Таблица 3. Среднемесячная эмиссия СО2 с поверхности типичной подзолистой, г С/(м2 сут)
Объект (год, объем выборки) | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Сезон1 |
ИЛ (2020, n = 250) | −2 | 2.91 ± 0.133 | 3.95 ± 0.09 | 3.90 ± 0.27 | 1.54 ± 0.05 | 0.71 ± 0.03 | χ2 = 205.7; p < 0.001 |
Фон (2021, n = 83) | 2.87 ± 0.29 | 5.31 ± 0.58 | 3.46 ± 0.25 | 3.96 ± 0.18 | 1.96 ± 0.09 | – | χ2 = 65.2; p < 0.001 |
Вырубка (2021, n = 107) | 2.70 ± 0.11 | 3.34 ± 0.19 | 2.46 ± 0.14 | 2.37 ± 0.10 | 1.38 ± 0.08 | – | χ2 = 55.7; p < 0.001 |
Фон (2022, n = 74) | 1.16 ± 0.11 | 4.85 ± 0.24 | 5.55 ± 0.41 | 5.62 ± 0.35 | 2.00 ± 0.06 | 1.66 ± 0.08 | χ2 = 59.5; p < 0.001 |
Вырубка (2022, n = 109) | 1.16 ± 0.04 | 2.49 ± 0.10 | 2.27 ± 0.13 | 1.81 ± 0.09 | 0.78 ± 0.05 | 0.87 ± 0.06 | χ2 = 87.1; p < 0.001 |
Примечание. 1 – результат критерия Краскела–Уоллиса по оценке динамики SR в течение периода исследований; 2 – нет данных; 3 – среднее ± ошибка среднего.
Как и в фоновом хвойно-лиственном насаждении, увеличенное значение дыхания подзолистой почвы вырубки в 2021 г. наблюдалась в июне, с дальнейшим уменьшением в 2.4 раза осенью. В 2022 г. пик интенсивности эмиссии СО2 послерубочного сообщества приходился на июнь–июль (2.3–2.5 г С/(м2 сут), pt = 0.175 между месяцами). Для всех исследуемых объектов дисперсионным анализом показаны значимые различия величины среднемесячного выделения СО2 с поверхности их почв (p < 0.001).
Анализ различий величины среднемесячной эмиссии в первый год после сплошной рубки показал, что июне и сентябре значимых различий между ИЛ и вырубкой не выявлено (pt > 0.05), тогда как в июле и августе SR на вырубке было меньше в 1.6 раза (pt < 0.05). На второй год после сплошной рубки среднемесячная величина SR вырубки была меньше в 1.2–2.0 раза во все месяцы за исключением октября, когда эмиссия СО2 с поверхности почвы вырубки превышала в 1.2 раза аналогичный показатель для ИЛ (pt = 0.035). Сравнение фонового насаждения и вырубки показало, что среднемесячное значение потока СО2 в хвойно-лиственном насаждении преобладало над аналогичными данными на вырубке в 1.4–1.7 в 2021 г., и в 1.9–3.1 раза в 2022 г. (pt < 0.05) за исключением мая, когда выделение СО2 было сопоставимо (pt > 0.05). Сходные результаты были представлены ранее при сравнении вырубки среднетаежного сосняка черничного и ненарушенного насаждения в регионе исследований, что, вероятно, связано с переувлажнением почв и низкой их температурой после схода снега, ведущим к невысокой скорости роста и дыхания корней древесных растений в ненарушенных насаждениях, в результате чего в этот период в SR выше доля гетеротрофного дыхания [13]. Интенсивность среднемесячной SR фонового хвойно-лиственного насаждения превышало аналогичные значения ИЛ в 1.3–2.3 раза, что обусловлено более благоприятными погодными условиями в течение летних месяцев 2021–2022 гг.
Сопоставление полученных нами данных с литературными показало, что интенсивность среднемесячной SR исследуемых ненарушенных насаждений превышало в 1.1–4.1 раза величину эмиссии с поверхности почвы сосняка черничного в регионе исследований [13], а из почвы вырубки хвойно-лиственного насаждения − в 1.1–3.4 раза по сравнению с вырубкой сосняка черничного. Эмиссия СО2 из почв южно-таежного заболоченного ельника чернично-сфагнового была в 1.3–2.3 раза выше, однако фоновое хвойно-лиственное насаждение характеризовалось более высокими (на 25–30%) значениями SR в мае [21]. Дыхание почвы с поверхности вырубки ельника в Англии изменялось от 0.2 до 3.0 г С/(м2 сут), фонового ельника от 1 до 4.0 г С/(м2 сут), что вполне сопоставимо с полученными данными по вырубке и ненарушенных хвойно-лиственных насаждений [34]. Интенсивность потока СО2 из почвы южно-таежного ельника была сходна с изученными хвойно-лиственными насаждениями, тогда как SR его вырубки было выше в 1.3–8.0 раза [12].
Влияние сплошной рубки на эмиссию углерода из почвы. В летние месяцы 2020 г. с поверхности почвы ИЛ выделилось 290.5 ± 21.8 г С/м2 (табл. 4). Анализ данных по потоку C–CО2 в течение бесснежного и вегетационного периодов с поверхности фонового хвойно-лиственного насаждения показал, что вклад мая в среднем составил 11 и 9% соответственно. Следовательно, можно предположить, что в эти временные интервалы из почвы в атмосферу поступило 361 и 400 г С/м2. В первый год после сплошной рубки поток C–CО2 в атмосферу с июня по август сократился в 1.2 раза (pt = 0.001), во второй год – в 1.5 раза (pt < 0.001) по сравнению с ИЛ. Сравнение вырубки с фоновым насаждением показало меньшие величины дыхания почвы на ней в 1.7–1.9 раза (pt < 0.05 для анализируемых временных интервалов в годы исследований). В летние месяцы с поверхности почвы вырубки выделялось 55–59% от потока C– CО2 в течение бесснежного периода, а вклад вегетационного периода составил 84–87%. В фоновом хвойно-лиственном насаждении с июня по август поступление углерода в атмосферу было несколько выше (60–66% от бесснежного периода), тогда как доля вегетационного периода была сопоставима (86–88%) с величиной, полученной для вырубки.
Таблица 4. Поток углерода с дыханием почвы, г С/м2
Объект (год, объем выборки) | Временной интервал | ||
лето (01.06–31.08) | вегетационный период 01.05–30.09 | бесснежный период (01.05–31.10) | |
ИЛ (2020, n = 7) | 290.5 ± 21.8 | 361.3 ± 25.9 | 400.4 ± 26.8 |
Фон (2021, n = 5) | 443.9 ± 15.8 | 643.5 ± 18.8 | 745.8 ± 19.7 |
Вырубка (2021, n = 6) | 244.2 ± 7.8 | 382.6 ± 12.5 | 441.9 ± 16.0 |
Фон (2022, n = 5) | 384.7 ± 47.3 | 519.3 ± 57.9 | 586.6 ± 62.1 |
Вырубка (2022, n = 6) | 200.3 ± 7.7 | 284.4 ± 11.2 | 336.8 ± 19.5 |
Выделение СО2 с поверхности почвы фонового насаждения и вырубки в 2021 г. в 1.2–1.3 раза превышало аналогичные данные для исследуемых периодов в 2022 г. (pt < 0.05). Межгодовая вариация во многом обусловлена различающимися погодными условиями в течение вегетационных периодов. Так, температура воздуха в мае и июне 2021 г. была соответственно в 1.6 и 1.2 раза выше, чем в 2022 г., что, в сочетании с достаточным количеством почвенной влаги после схода снега в эти месяцы, создавало благоприятные условия для жизнедеятельности деструкторов органического вещества и дыхания корней в это время, а также увеличило итоговое поступление углерода с эмиссией СО2, несмотря на снижение интенсивности дыхания почвы в июле–августе, по сравнению с 2022 г., которые были в 1.1–1.2 раза теплее, чем в 2021 г. В целом, средняя температура воздуха за вегетационный период 2021 г. была в 1.1 раза ниже, по сравнению с 2022 г., а количество осадков было сопоставимо. Вместе с тем 2021 г. отличался более низкой величиной гидротермического коэффициента Селянинова (1.06 в 2021 г., 1.16 в 2022 г.) и меньшими значениями индекса увлажненности, что свидетельствует о более благоприятных условиях увлажнения. На второй год после сплошной рубки отмечается снижение в 1.2–1.3 раза потока C–CО2, что кроме различий в погодных условиях, связано с уменьшением темпов разложения растительных остатков (тонкие корни, листва), отмерших в процессе рубки. Как отмечено в работе [19], в первый год деструкции теряется больше половины веса и более 70% от массы углерода и лигнина тонких (<2 мм в диаметре) корней деревьев сосны. Уменьшение скорости деструкции тонких корней лиственных и хвойных пород на второй год экспозиции также показано в работах [30, 32].
Полученные данные по потоку углерода с дыханием подзолистой почвы для ненарушенных насаждений превысили в 2.6 раза результаты, опубликованные для среднетаежного ельника черничного на типичной подзолистой почве [11], что, по мнению авторов связано с разными методами измерений и для заболоченного среднетаежного ельника на торфянисто-подзолисто-глееватой почве [9]. Однако они сопоставимы или несколько ниже потока углерода с поверхности почвы за летние месяцы (373–681 г С/м2) в заболоченном южно-таежном ельнике в Тверской области [21] и в спелом ельнике Эстонии (522–804 г С/м2) за сходный период [25]. При сравнении потерь C–CО2 для вырубок установлено, что в течение бесснежного периода вырубка среднетаежного сосняка черничного в Республике Коми эмитирует в атмосферу 210–294 г С/м2, а доля летних месяцев и вегетации составляет 64 и 90%, соответственно [13]. С мая по июнь с поверхности вырубки осушенного сосняка в южной Финляндии выделяется 267–286 г С/ м2, что сопоставимо или в 1.2–1.4 раза выше рассчитанных величин для аналогичного временного интервала [24]. Несколько меньшие значения получены на севере Англии для заболоченной, глеевой, органо-минеральной почвы вырубки ельника, выделяющей в течение года в атмосферу 243–322 г С/ м2 [34].
Заключение
Сплошная рубка оказывает негативное влияние на дыхание типичной подзолистой почвы хвойно-лиственного насаждения в условиях средней тайги Республики Коми, что выражается в снижении величины среднемесячной эмиссии СО2 и, как следствие, в общем потоке СО2 в атмосферу. На второй год после сплошной рубки отмечается уменьшение интенсивности дыхания по сравнению с первым годом, что обусловлено снижением скорости деструкции отмершей в процессе рубки растительной биомассы. В течение бесснежного периода более высокие значения дыхания почвы отмечается в июле–августе, однако погодные условия могут смещать пик выделения на июнь. Температура почвы оказывает положительное, статистически значимое влияние на эмиссию СО2 с ее поверхности как в ненарушенных насаждениях, так и в вырубке, хотя ее роль в формировании потока диоксида углерода в атмосферу в отдельные годы невысока. Роль влажности почвы неоднозначна, что выражается разной направленностью (положительное или отрицательное) и наличием или отсутствием статистической значимости воздействия на поток СО2 в атмосферу в различные годы исследований, что обусловлено погодными условиями. Выявлена отрицательная роль сплошной рубки на температурный отклик (Q10). Полученные данные нужны для определения роли промышленных рубок в углеродном цикле таежных лесов.
Финансирование работы
Работа выполнена в рамках проекта РНФ 23-74-10007 “Изменение почв и компонентов цикла углерода в ходе восстановительной сукцессии после сплошной рубки в средней тайге европейского северо-востока России” https://rscf.ru/project/23-74-10007/».
Конфликт интересов
Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.
Об авторах
А. Ф. Осипов
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: osipov@ib.komisc.ru
ORCID iD: 0000-0003-0618-9660
Россия, ул. Коммунистическая, 28, Сыктывкар, 167985
В. В. Старцев
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН
Email: osipov@ib.komisc.ru
ORCID iD: 0000-0002-6425-6502
Россия, ул. Коммунистическая, 28, Сыктывкар, 167985
А. А. Дымов
Институт биологии Коми НЦ УрО РАН; МГУ им. М.В. Ломоносова
Email: osipov@ib.komisc.ru
ORCID iD: 0000-0002-1284-082X
Россия, ул. Коммунистическая, 28, Сыктывкар, 167985; Ленинские горы, 1, Москва, 119991
Список литературы
- Атлас почв Республики Коми / Под ред. Добровольского Г.В., Таскаева А.И., Забоевой И.В. Сыктывкар, 2010. 356 с.
- Атлас Республики Коми по климату и гидрологии / Под ред. Таскаева А.И. М.: Наука, 1997. 116 с.
- Дымов А.А., Старцев В.В. Изменение температурного режима подзолистых почв в процессе естественного лесовозобновления после сплошнолесосечных рубок // Почвоведение. 2016. № 5. С. 599–608.
- Дымов А.А., Старцев В.В., Горбач Н.М., Севергинa Д.А., Кутявин И.Н., Осипов А.Ф., Дубровский Ю.А. Изменения почв и растительности при разном числе проездов колесной лесозаготовительной техники (средняя тайга, Республика Коми) // Почвоведение. 2022. № 11. С. 1426–1441.
- Дымов А.А. Сукцессии почв в бореальных лесах Республики Коми. М.: ГЕОС, 2020. 336 с. https://doi.org/10.34756/GEOS.2020.10.37828
- Замолодчиков Д.Г., Грабовский В.И., Шуляк П.П., Честных О.В. Влияние пожаров и заготовок древесины на углеродный баланс лесов России // Лесоведение. 2013. № 5. С. 36–49.
- Карелин Д.В., Азовский А.И., Куманяев А.С., Замолодчиков Д.Г. Значение пространственного и временного масштаба при анализе факторов эмиссии СО2 из почвы в лесах Валдайской возвышенности // Лесоведение. 2019. № 1. С. 29–37.
- Карелин Д.В., Почикалов А.В., Замолодчиков Д.Г., Гитарский М.Л. Факторы пространственно-временной изменчивости потоков СО2 из почв южнотаежного ельника на Валдае // Лесоведение. 2014. № 4. С. 56–66.
- Кузнецов М.А. Выделение СО2 с поверхности почвы в ельнике чернично-сфагновом // Углерод в лесных и болотных экосистемах особо охраняемых природных территорий Республики Коми. Сыктывкар: ИБ Коми НЦ УрО РАН, 2014. С. 87–94.
- Лукина Н.В. Глобальные вызовы и лесные экосистемы // Вестник РАН. 2020. № 6. С. 528–532. https://doi.org/10.31857/S0869587320060080
- Машика А.В. Эмиссия диоксида углерода с поверхности подзолистой почвы // Почвоведение. 2006. № 12. С. 1457–1463.
- Молчанов А.Г., Курбатова Ю.А., Ольчев А.В. Влияние сплошной вырубки леса на эмиссию СО2 с поверхности почвы // Известия РАН. Серия биологическая. 2017. № 2. С. 190–196.
- Осипов А.Ф. Влияние сплошной рубки на дыхание почвы среднетаежного сосняка черничного Республики Коми // Лесоведение. 2022. № 4. С. 395–406. https://doi.org/10.31857/S0024114822030111
- Bond-Lamberty B., Thomson A. A global database of soil respiration data // Biogeosci. 2010. V. 7. Р. 1915–1926. https://doi.org/10.5194/bg-7-1915-2010
- Čater M., Darenova E., Simončič P. Harvesting intensity and tree species affect soil respiration in uneven-aged Dinaric forest stands // For. Ecol. Manag. 2021. V. 480. P. 118638. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118638
- Darenova E., Čater M. Effect of spatial scale and harvest on heterogeneity of forest floor CO2 efflux in a sessile oak forest // Catena. 2020. V. 188. P. 104455. https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104455
- Davidson E.A., Janssens I.A., Luo Y. On the variability of respiration in terrestrial ecosystems: moving beyond Q10 // Glob. Ch. Biol. 2006. V. 12. P. 154–164. https://doi.org/164. 10.1111/j.1365-2486.2005.01065.x
- de Bello F., Valencia E., Ward. D., Hallett L. Why we still need permanent plots for vegetation science // J. Vegetation Sci. 2020. V. 31(5). P. 679–685. https://doi.org/10.1111/jvs.12928
- Fu Y., Feng F., Zhang X., Qi D. Changes in fine root decomposition of primary Pinus koraiensis forest after clear cutting and restoration succession into secondary broad-leaved forest // Appl. Soil Ecol. 2021. V. 158. P. 103785. https://doi.org/10.1016/j.apsoil.2020.103785
- https://rp5.ru/Погода_в_Сыктывкаре
- Ivanov D., Tatarinov F., Kurbatova J. Soil respiration in paludified forests of European Russia // J. For. Res. 2020. V. 31. P. 1939–1948. https://doi.org/10.1007/s11676-019-00963-4
- Karelin D., Goryachkin S., Zazovskaya E., Shishkov V., Pochikalov A., Dolgikh A., Sirin A. et al. Greenhouse gas emission from the cold soils of Eurasia in natural settings and under human impact: controls on spatial variability // Geoderma Reg. 2020. V. 22. P. e00290. https://doi.org/10.1016/j.geodrs.2020.e00290
- Kohout P., Charvátová M., Štursová M., Mašínová T., Tomšovský M., Baldrian P. Clearcutting alters decomposition processes and initiates complex restructuring of fungal communities in soil and tree roots // The ISME J. 2018. V. 12. P. 692–703. https://doi.org/10.1038/s41396-017-0027-3
- Korkiakoski M., Tuovinen J.P., Penttila T., Sarkkola S., Ojanen P., Minkkinen K., Rainne J., Laurila T., Lohila A. Greenhouse gas and energy fluxes in a boreal peatland forest after clear-cutting // Biogeosci. 2019. V. 16. Р. 3703–3723. https://doi.org/10.5194/bg-16-3703-2019
- Kukumägi M., Ostonen I., Uri V., Helmisaari H.-S., Kanal A., Kull O., Lŏhmus K. Variation of soil respiration and its components in hemiboreal Norway spruce stands of different ages // Plant and Soil. 2017. V. 414. P. 265–280. https://doi.org/10.1007/s11104-016-3133-5
- Kurganova I., Lopes de Gerenyu V., Khoroshaev D., Myakshina T., Sapronov D., Zhmurin V. Temperature sensitivity of soil respiration in two temperate forest ecosystems: the synthesis of a 24-year continuous observation // Forests 2022. V. 13. P. 1374. https://doi.org/10.3390/f13091374
- Kurth V.J., Bradford J.B., Slesak R.A., D’Amato A.W. Initial soil respiration response to biomass harvesting and green-tree retention in aspen-dominated forests of the Great Lakes region // For. Ecol. Manag. 2014. V. 328. P. 342−352. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2014.05.052
- Kuuluvainen T., Gauthier S. Young and old forest in the boreal: critical stages of ecosystem dynamics and management under global change // For. Ecosyst. 2018. V. 5. P. 26. https://doi.org/10.1186/s40663-018-0142-2
- Mäkipää R., Abramoff R., Adamczyk B., Baldy V., Biryol C., Bosela M., Casals P. et al. How does management affect soil C sequestration and greenhouse gas fluxes in boreal and temperate forests? – A review // For. Ecol. Manag. 2023. V. 529. P. 120637. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2022.120637
- Morozov G., Aosaar J., Varik M., Becker H., Lõhmus K., Padari A., Aun K., Uri V. Long-term dynamics of leaf and root decomposition and nitrogen release in a grey alder (Alnus incana (L.) Moench) and silver birch (Betula pendula Roth.) stands // Scand. J. For. Res. 2018. V. 34. P. 12–25. https://doi.org/10.1080/02827581.
- R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing.Vienna, 2020. https://www.R-project.org/
- Sun T., Dong L., Zhang L., Wu Z., Wang Q., Li Y., Zhang H., Wang Z. Early stage fine-root decomposition and its relationship with root order and soil depth in a Larix gmelinii plantation // Forests 2016. V. 7(10). Р. 234. https://doi.org/10.3390/f7100234
- Vestin P., Mölder M., Kljun N., Cai Z., Hasan A., Holst J., Klemedtsson L., Lindroth A. Impacts of clear-cutting of a boreal forest on carbon dioxide, methane and nitrous oxide fluxes // Forests 2020. V. 11. P. 961. https://doi.org/10.3390/f11090961
- Yamulki S., Forster J., Xenakis G., Ash A., Brunt J., Perks M., Morison J. I. L. Effects of clear-fell harvesting on soil CO2, CH4, and N2O fluxes in an upland Sitka spruce stand in England // Biogeosci. 2021. V. 18. P. 4227–4241. https://doi.org/10.5194/bg-18-4227-2021
Дополнительные файлы