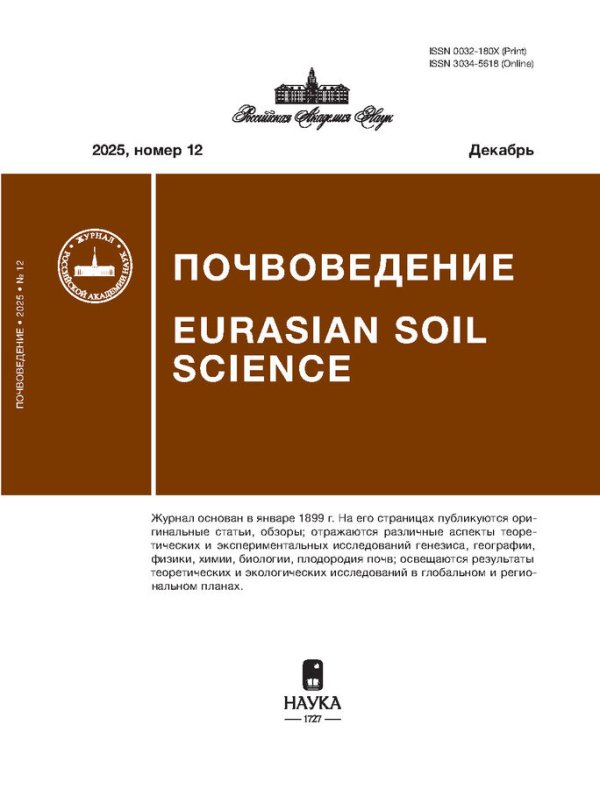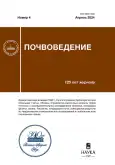Variation of Soil Erosion Estimates when Using Different Maps of Arable Land of the Belgorod Region
- Authors: Zhidkin A.P.1, Rukhovich D.I.1, Maltsev K.A.2, Koroleva P.V.1
-
Affiliations:
- Dokuchaev Soil Science Institute
- Kazan (Volga Region) Federal University
- Issue: No 4 (2024)
- Pages: 621-632
- Section: SOIL EROSION
- URL: https://bakhtiniada.ru/0032-180X/article/view/264104
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0032180X24040075
- EDN: https://elibrary.ru/WSIQBY
- ID: 264104
Cite item
Full Text
Abstract
Current medium- and small-scale estimates of soil erosion in Russia are very few. At the same time, a favorable situation has now developed for assessing the rates and volumes of soil erosion losses. Erosion models have been developed that are adapted to available digital elevation models, various farmland masks and climate databases have been created. The paper studies the accuracy of erosion estimates using various maps of arable land. Two maps are public (ESA WC, GLCLU), the third is the official Ministry of Agriculture (MA) of the Russian Federation, the fourth map is an author’s reference map of Alekseevsky district. It has been established that the map of the MA gives the most average arable land areas among the first three maps. Public access maps showed maximum and minimum estimates of arable land area. Comparison with the standard showed that the accuracy of the map of the MA does not exceed 90%, the remaining maps – 84 and 83%. The area of arable land in the Belgorod region varies slightly (from 1,445 to 1,586 thousand hectares); so the region is favorable for erosion modelling. Deviations from the average rates of soil erosion calculated using different maps of arable land in the region as a whole amounted to 7%, and in some areas reached 27%. Thus, today assessments of soil erosion at the regional level can be carried out with an error of at least 10–15% only as a result of the uncertainty in mapping the boundaries of arable land. In the Russia as a whole, data on the area of arable land varies significantly, from 80 to 132 million hectares. Consequently, the use of existing maps of arable land can lead to significant uncertainties in soil erosion estimates averaged at the level of districts and above.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Эрозия почв оказывает существенный ущерб окружающей среде. Эрозионные потери почвенного вещества с пахотных угодий России составляют более 500 млн т в год [15]. Значительная часть оценок эрозии почв получена в 1980-е годы в результате обобщений результатов почвенно-эрозионных обследований. Современные оценки эрозии почв на региональном и государственном уровнях проводятся преимущественно на основе эрозионных моделей [13, 23, 35, 38, 41, 46] из-за отсутствия иных доступных методов изучения темпов эрозии почв в среднем и мелком масштабах. Важно отметить, что за последние десятилетия алгоритмы эрозионных моделей были значительно улучшены, различные модели прошли верификацию, в том числе на территории России [41, 53, 54]. В мире ведется активная работа по совершенствованию подходов и детализации количественных оценок факторов эрозии почв (входных параметров моделирования): эрозионного потенциала рельефа и осадков, эродируемости почв и др.
Одним из важнейших факторов развития эрозионно-аккумулятивных процессов является структура землепользования. Под естественной растительностью темпы эрозии почв многократно ниже, чем на распахиваемых землях [49]. Изменение конфигурации распахиваемых участков и положения границы пашни в рельефе, как правило, существенно влияет на эрозию почв. В работе [54] в масштабе малого водосбора показано, что небольшое изменение конфигурации границы полей и сокращение площади пашни лишь на 5% привело к снижению эрозионных потерь с пашни малого водосбора на треть. Таким образом, точность границ землепользования имеет важное значение для оценок эрозии почв. Недостаточно точный учет границ пашни в нижних наиболее эродируемых частях склонов может приводить к существенному искажению оценок темпов и объемов эрозии почв. К сожалению, данный фактор редко анализируется в исследованиях. Как правило, используется какой-то один источник информации о границах пахотных угодий, точность картографирования которых зачастую не указывается. Работы по оценке влияния детальности информации о границах землепользования на количественные оценки темпов и объемов смыва почв практически отсутствуют в литературе. В последние годы идет активное развитие подходов к картографированию границ сельскохозяйственных полей, в том числе на основе данных дистанционного зондирования (ДДЗ).
Оценки площади пахотных угодий в России различаются колоссально. Только по статистическим справочникам государственной федеральной службы [1, 9, 33] они составляют от 79.9 до 134 млн га. Согласно [9], с 1990 по 2020 гг. посевные площади в России сократились с 117 до 79.9 млн га. Нераспахиваемые земли должны картографироваться как залежь, однако по данным федеральной службы регистрации, кадастра и картографии в 1998–2020 гг. залежь составляла лишь 3.9–4.9 млн га [33].
Отсутствие единой точной крупномасштабной картографической системы расположения пахотных угодий в России приводит к существованию многих источников, различающихся по методам создания, пространственному разрешению и другим показателям [17].
Помимо крупномасштабных, существуют региональные оценки площади пашни и ее динамики [6–8, 42]. Региональные оценки площади пашни основываются на моделировании и статистических показателях. Существуют разные мнения относительно корректности и точности региональных статистических оценок площади пашни [30]. Но в настоящем исследовании важно, что статистические региональные выкладки не могут быть учтены при эрозионном моделировании. В модель могут быть загружены границы пашни в виде крупномасштабных карт. В работе оцениваются крупномасштабные карты пашни. Самая детальная из карт пахотных угодий имеет масштаб крупнее 1 : 10 000.
Аналогичные проблемы присущи не только моделированию эрозии почв. Моделирование содержания углерода в пахотных землях [39, 45, 51] в условиях изменяющегося климата требует аналогичного набора входных параметров. До применения ДДЗ использовались следующие материалы: карты земельных угодий [14], почвенные карты [25], карты агроклиматического районирования [31], климатических баз данных [44], агрофизических показателей почвенного покрова [34] и др. В настоящее время доступность данных для моделирования изменилась.
К относительно доступным материалам, отражающим распространение пахотных угодий в России, можно отнести следующие: единую федеральную информационную систему земель сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН) [10], публичную кадастровую карту [33], карты сельскохозяйственных земель USGS [40], карту неиспользуемых сельскохозяйственных земель, потенциально пригодных для выращивания леса [16], модель земного покрова (землепользования) ESA World Cover 2020 (ESA WC) [52], модель Global Land Cover and Land Use (GLCLU) [43], модель TerraNorte [2], модель Copernicus Global Land Service [37].
Следующие карты сельскохозяйственных земель имеют относительно низкое пространственное разрешение: USGS [40] – 500 м, TerraNorte [2] – 230–250 м, Copernicus Global Land Service [37] – 100 м. На публичной кадастровой карте [33] в атрибутах контуров находится не тип сельскохозяйственного угодья, а вид разрешенного использования, который сложно однозначно идентифицировать как пашню. Карта неиспользуемых сельскохозяйственных земель, потенциально пригодных для выращивания леса [16], имеет пропуски, в том числе в Белгородской области.
Таким образом, для оценок эрозии почв лучше всего подходят три источника: ЕФИС ЗСН [10], ESA WC [52], GLCLU [43]. Все они характеризуются отсутствием пропусков, имеют высокое пространственное разрешение (не менее 30 м), однозначно идентифицируемую пашню, а также документированные и воспроизводимые последовательности действий для их получения.
Кроме указанных источников, есть несколько других, например, ГИС “Деметра” [24], схемы полей агрохимической службы Минсельхоза России [5], которые крайнее труднодоступны, в связи с чем их применение затруднительно.
Цель работы – сопоставление количественных оценок темпов эрозии почв и объемов эрозионных потерь, получаемых при эрозионном моделировании с использованием различных источников информации о конфигурации и площади пахотных угодий в масштабах области и районов.
В качестве объекта исследования выбрана Белгородская область, поскольку она характеризуется высокой долей распахиваемых земель, в целом высокими темпами эрозии почв [12, 38, 46] и при этом значительным разнообразием проявлений эрозионно-аккумулятивных процессов в различных районах.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Белгородская область имеет площадь 27.1 тыс. км2. Это один из наиболее развитых в сельскохозяйственном отношении регионов России: пахотные земли занимают около 55–60% площади этого региона. Область занимает 12-е место среди регионов РФ по валовому сбору зерна (≈3 млн т в 2021 г.) несмотря на то, что по площади занимает только 67-е место. Около 80% от всей площади Белгородской области и около 90% от всей площади пашни составляют черноземы [38].
Освоение данных земель началось с XVI в. До конца XVII в. площадь освоенных земель была небольшой. На рубеже XVII и XVIII в., с прекращением регулярных набегов кочевников, южная часть Белгородской области начала заселяться и осваиваться, что активизировало развитие эрозионных процессов [32]. Согласно крупномасштабному почвенно-эрозионному обследованию в 1980-х гг., доля эродированных пахотных земель составляла 49.9%. При этом площадь эродированных территорий продолжала увеличиваться на 6% к 2010 г. [19]. Эродированные почвы Белгородской области потеряли около 130 млн т гумуса; в результате годовой недобор продукции в пересчете на зерно составил около 1.22 млн т [22].
Развитию эрозионных процессов здесь способствуют большая площадь распахиваемых земель, высокая расчлененность рельефа, ливневой характер выпадения дождевых осадков, относительно низкая противоэрозионная устойчивость почв, а также высокая доля пропашных культур в севооборотах.
Количественные оценки современных темпов эрозии почв в Белгородской области варьируют в очень широких пределах от 1.3 до 21.5 т/га в год [12].
В настоящей работе оценку эрозии почв проводили на основе модели WaTEM/SEDEM. Эрозионный потенциал рельефа рассчитывали по SRTM с разрешением 30 × 30 м и уравнений [47]. Эрозионный потенциал осадков (R-фактор) приняли равным 280 МДж мм/(м2 ч год) согласно [48]. Почвозащитный потенциал растительности (C-фактор) приняли равным 0.40 согласно данным по долевому участию культур в составе севооборота и агроэрозионному индексу культур в данной зоне по Ларионову [18]. Эродируемость почв (K-фактор) составляла 35 кг ч/(МДж мм) согласно [13]. Применение в эрозионном моделировании осредненных значений R-, C- и K-факторов позволяет оценить эрозию почв с высокой долей условности. Данный подход представляется допустимым для поставленной цели исследования – сравнительного анализа оценок эрозии почв и эрозионных потерь в зависимости от используемой карты пахотных угодий. Кроме того, данные оценки проведены в масштабе области и районов. Безусловно, более подробные оценки эрозии почв требуют большей детализации входных параметров, а также верификации модельных оценок. Но такие детальные оценки эрозии почв для масштабного уровня области и районов на территории России пока единичны [11, 38].
Расчеты темпов эрозии и эрозионных потерь почв были проведены для трех карт границ пахотных угодий, полученных из разных источников: а) единой федеральной информационной системы земель сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН) [10], полученной по запросу из Аналитического центра Минсельхоза России; б) модели землепользования ESA World Cover 2020 (ESA WC), находящейся в открытом доступе на интернет-ресурсе (https://worldcover2020.esa.int/); в) модели Global Land Cover and Land Use (GLCLU), находящейся в открытом доступе на интернет-ресурсе (https://glad.umd.edu/dataset/global-land-cover-land-use-v1).
Для создания карт пахотных угодий использовали как исходные растровые карты пашни (ESA WC, GLCLU), так и векторные карты сельскохозяйственных угодий (ЕФИС ЗСН). Все непахотные угодья области исследования убирали с расчетных карт.
Алгоритм создания модели землепользования ESA World Cover 2020 (ESA WC) состоял из трех этапов: предварительной обработки, классификации, создания карты. На этапе предварительной обработки были подобраны данные Sentinel-1, снимающие поверхность земли с использованием радара с синтезированной апертурой, а также многоканальные, в основном безоблачные, снимки Sentinel-2 с разрешением около 10 м. Классификация реализована с использование алгоритма дерева решений с повышением градиента [50]. Построена результирующая модель земного покрова, актуальная на 2020 г., которая распространяется фрагментами размером 3° × 3° в географической системе координат (WGS84).
Модель ESA WC позволяет идентифицировать 11 классов земного покрова в соответствии с классификацией продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Для исследований использовали лишь информацию о пашне, т.е. ESA WC была преобразована в карту границ пахотных угодий на территории Белгородской области в виде растра с разрешением 30 × 30 м.
Алгоритм создания модели Global Land Cover and Land Use (GLCLU) основан на взаимодействии метода классификации дерева решений [36], который использовали для категориальных данных, и дерева регрессии на основе суммы квадратов для континуальных данных. В качестве исходных данных для этих алгоритмов применяли 16-дневные композиты снимков Landsat, имеющие разрешение около 30 м. В результате были получены две версии модели. Во-первых, модель, где приведена более детальная атрибутивная информация о высоте древостоя, проценте проективного покрытия для лесопокрытых территорий, а также о проективном покрытии для травянистой растительности. Во-вторых, собственно модель землепользования с генерализованной атрибутивной информацией о древесной и травянистой растительности, а также других видах земного покрова. Использовали вторую версию модели, содержащую 19 классов. Для данных исследований, как и в предыдущей модели, использовали лишь информацию о пашне. GLCLU также была преобразована в карту границ пахотных угодий на территории Белгородской области в виде растра с разрешением 30 × 30 м.
Кроме того, для условно эталонных оценок были оцифрованы границы полей Алексеевского района с высокой детальностью по методике ретроспективного мониторинга почвенно-земельного покрова (РМПЗП). Карту пахотных угодий Алексеевского района создавали в масштабе 1 : 10 000 на основе тематического дешифрирования космических снимков (с 1984 по 2022 гг. с пространственным разрешением от 0.8 до 30 м) по методике ретроспективного мониторинга почвенно-земельного покрова (РМПЗП) [3, 26–29]. В целях внутренней верификации использовали топографические и кадастровые карты различного масштаба (от 1 : 25 000 до 1 : 200 000). Максимальная точность идентификации современной пашни была достигнута благодаря ретроспективному мониторингу земель и выявлению угодий, которые, во-первых, обрабатывались постоянно, во-вторых, были заброшены, и, в-третьих, те, что недавно были вовлечены в сельскохозяйственный оборот. Для Алексеевского района за эталон карты сельскохозяйственных земель была принята карта РМПЗП, как единственная соответствующая картографической точности М 1 : 10 000 [17].
Гипотезы о равенстве средних значений расчетных темпов эрозии и объемов эрозионных потерь почв, полученных с использованием различных границ пахотных угодий, проверяли с использованием критерия Стьюдента. Всего сравнивали друг с другом три пары выборок с использованием карт: ESA WC и GLCLU; ЕФИС ЗСН и ESA WC; ЕФИС ЗСН и GLCLU.
Расчет максимального по модулю отклонения от среднего проводили для следующих показателей: а) площадь пашни; б) расчет темпов эрозии почв; в) расчет объемов эрозионных потерь, осредненных по районам Белгородской области. Максимальные отклонения от среднего (μ) рассчитывали по формуле:
, (1)
Xi – величина, полученная при использовании карт пахотных угодий ЕФИС ЗСН, ESA WC, GLULC, (га); – среднее из трех величин, полученных при использовании карт пахотных угодий ЕФИС ЗСН, ESA WC, GLULC.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Сравнительный анализ площадей пахотных угодий. Карты пахотных угодий Алексеевского района ЕФИС ЗСН, ESA WC, GLULC были подвергнуты парному пересечению с картой РМПЗП (табл. 1). В результате сопоставлены площади пашни и оценены ошибки первого рода (“пропуск цели”) и второго рода (“ложная тревога”) теории информатики. Под ошибкой первого рода понималось отсутствие на картографическом источнике пахотных угодий, которые на местности существовали на 2022 г. Под ошибкой второго рода понималось наличие на картографическом источнике пахотных угодий, которые отсутствовали на местности.
Таблица 1. Площади пахотных угодий Алексеевского района согласно картам ЕФИС ЗСН, ESA WC и GLCLU по сравнению с картой РМПЗП
Карта | Площадь, га | ||||
пахотных угодий, га | пересечения с картой РМПЗП | ошибки первого рода | ошибки второго рода | объединения с картой РМПЗП | |
ЕФИС ЗСН | 94928.95 | 90429.15 | 4499.80 | 5396.64 | 100325.60 |
ESA WC | 100900.60 | 90489.61 | 10410.99 | 5336.18 | 106236.78 |
GLCLU | 89700.15 | 84790.58 | 4909.56 | 11035.21 | 100735.36 |
По авторской карте РМПЗП в Алексеевском районе на 2022 г. зафиксировано наличие 95 826 га пашни при площади района – 177 680 га. Карта ЕФИС ЗСН дает площадь пашни, близкую карте РМПЗП, 94 929 га. Но на карте ЕФИС ЗСН отмечено 4 500 га, соответствующие ошибке второго рода, т.е. не являющихся пашней. Еще 5 397 га реальной пашни на карте ЕФИС ЗСН не отмечены. В итоге сумма ошибочно отмеченной на карте ЕФИС ЗСН пашни в Алексеевском районе составила 10%.
Карта на основе ESA WC свидетельствует о площади пашни Алексеевского района, равной 100 901 га. Ошибка первого рода составляет 10 411 га, а ошибка второго рода – 5 336 га. Всего ошибочно детектированная пашня составляет 16%. Карта GLCLU фиксирует величину пашни 89 700 га. Ошибка первого рода составляет 4 910 га, а ошибка второго рода – 11 035 га. Всего ошибочно детектированная пашня составляет 17%.
Кроме того, для Алексеевского района были построены карты, на которых пашня указана (1) на всех доступных источниках (80 429 га) или (2) хотя бы на одном источнике (110 735 га), т.е. карты оценки минимальной и максимальной фиксируемой пашни. Соотношение площади пашни при пересечении и объединении карт составило 0.73 раза.
Сравнительный анализ карт распахиваемых угодий выявил отчетливую тенденцию ESA WC к завышению площади пашни. Почти во всех районах Белгородской области (кроме одного) ESA WC показала максимальную площадь пашни (табл. 1S). В свою очередь, для GLCLU выявлена тенденция к занижению площади пашни. В большинстве районов (кроме трех) площадь пашни по карте GLCLU была минимальной.
Посчитано суммарное количество полей по каждой из карт пахотных угодий. Максимальное количество полей (29.3 тыс. шт. для Белгородской области), свидетельствующее о наибольшей дробности контуров пашни, выявлено для карты ЕФИС ЗСН. Чуть меньшее количество полей (26.8 тыс. шт.) определено для карты ESA WC. Минимальное количество полей (лишь 11.3 тыс. шт.) отмечено на карте GLCLU. Таким образом, в модели GLCLU соседствующие поля искусственно объединены в единые контуры, и дробность контуров пахотных земель почти вдвое ниже, чем на карте ЕФИС ЗСН. На карте ESA WC отчетливо видно, что соседствующие пахотные угодья также искусственно объединены в единые контуры. Большое количество полей по ESA WC связано с множеством мелких ареалов в долинах пойм рек и овражно-балочной сети. В большинстве случаев эти мелкие ареалы залуженных участков детектируются на картах ESA WC в качестве пашни ошибочно, поскольку на других картах пашня на этих участках отсутствует (рис. 1).
Рис. 1. Местоположение фрагмента карт (a). Фрагменты карт границ сельскохозяйственных полей (b, c) и расчетных темпов эрозионно-аккумулятивных процессов, полученных при использовании моделей землепользования ESA WC (d); ЕФИС ЗСН (e); GLCLU (f); РМПЗП (g)
По каждому району Белгородской области были рассчитаны максимальные отклонения от средних площадей пашни по формуле (1). В целом по районам выявлена тенденция большего количества ошибок картографирования площади пашни при меньшей доле распахиваемых земель (рис. 2).
Рис. 2. График связи между отклонением от средней площади пашни и долей распахиваемых земель от площади районов Белгородской области
Соотношение площадей пашни Алексеевского района и Белгородской области для каждой из карт пахотных угодий составляет от 15.19 до 15.34 раз, что хорошо соответствует соотношению общей площади района и области – 15.28 раза. Таким образом, можно допустить, что точность карт ЕФИС ЗСН, ESA WC и GLCLU в целом по области соответствует точностям этих карт, рассчитанным по Алексеевскому району.
Площадь пашни пересечения трех карт составляет 1.22 млн га, а площадь объединения – 1.68 млн га. Соотношение площади пересечения к площади объединения составило 0.73, что совпадает с аналогичным соотношением для Алексеевского района.
Таким образом, сравнительный анализ трех моделей землепользования позволил расположить их в следующем ряду точности отображения пашни по доле содержания совокупности ошибок первого и второго рода: ЕФИС ЗСН – 10%, ESA WC – 16%, GLCLU – 17%. Площадь пашни, отмеченной на всех картах, отличается от площади пашни, фиксированной хотя бы на одном ресурсе, на 27%.
Сравнительный анализ темпов эрозии почв. В настоящей работе под темпами эрозии почв подразумеваются темпы выноса почвенного вещества за пределы пашни (net erosion), выражаемые в т/га в год. Расчетные темпы эрозии почв в Алексеевском районе составили 5.6 т/га в год при использовании условно эталонной карты РМПЗП; 5.8 т/га в год при использовании ЕФИС ЗСН; 5.9 т/га в год при использовании GLCLU; 6.0 т/га в год при использовании ESA WC. Данное варьирование от 5.6 до 6.0 т/га в год является относительно небольшим с учетом множества допущений, использованных при моделировании эрозионно-аккумулятивных процессов.
Различия в оценках площади пахотных угодий Алексеевского района напрямую не повлияли на увеличение или уменьшение расчетных темпов эрозии почв. В частности, при использовании границ РМПЗП были получены минимальные расчетные темпы эрозии почв, хотя площадь пашни была близка к средней относительно других оценок. Вероятно, темпы эрозии почв, осредненные по районам и области, в большей степени определяются расположением пахотных угодий относительно элементов рельефа, а не суммарной площадью пашни.
Ранее отмечалось, что на карте ЕФИС ЗСН пахотные угодья имеют дробную структуру, т.е. соседствующие пахотные угодья разделены между собой границами, в отличие от карт ESA WC и GLCLU со значительно менее дробной структурой полей (рис. 1). Данное разделение пахотных угодий в пространстве учитывается при расчетах темпов эрозии почв. Моделируемые линии тока воды и наносов на этих границах прерываются, что в значительной степени соответствует поведению потока наносов в реальных условиях, когда границы пашни являются геохимическими барьерами на пути движения наносов и способствуют частичному или полному их переотложению. В результате расчетные темпы эрозии почв при использовании РМПЗП и ЕФИС ЗСН с высокой дробностью контуров пашни оказались немного ниже, чем при использовании границ полей, построенных по данным ДЗЗ (ESA WC и GLCLU).
Несмотря на различия в суммарной площади пашни, положения ее в рельефе и дробности границ пахотных угодий на разных картах, расхождения в расчетных темпах эрозии почв для Алексеевского района получились небольшие, <5%.
Для всех районов были рассчитаны максимальные отклонения от средних расчетных темпов эрозии почв по формуле (1). В большинстве районов максимальные отклонения от среднего составляют менее 5% (рис. 3). Наиболее сильные отклонения от расчетных темпов эрозии почв были выявлены в Старооскольском (11%), Волоконовском (14%), Валуйском (17%), Губкинском (19%), Чернянском (20%) и Новооскольском (27%) районах. Через все эти районы протекает р. Оскол, и они характеризуются высокой степенью эрозионного расчленения. Расчлененный рельеф, с одной стороны, способствует относительно более дробной структуре землепользования с большим количеством мелких и рассеянных полей, которые затрудняют их картографирование. С другой стороны, в условиях расчлененного рельефа в большей степени проявляются ошибки картографирования границ полей при моделировании эрозии, в связи с большей долей склоновых земель, подверженных эрозии почв. Следовательно, в случае завышения площади пашни в условиях расчлененного рельефа происходит увеличение расчетных темпов эрозии почв, чем на пологих территориях при прочих равных условиях.
Рис. 3. Отклонения от средних расчетных темпов эрозии почв, оцененные по районам при использовании разных карт пахотных угодий
Отметим отсутствие прямой связи между площадью пашни и средними темпами эрозии почв. Увеличение площади пашни в одних районах приводило к увеличению расчетных темпов эрозии, а в других – к уменьшению. Увеличение темпов эрозии связано с избыточным охватом дополнительно к реальной пашне эрозионно-опасных участков склонов. Снижение темпов эрозии связано с охватом плоских участков с низкими темпами смыва и с аккумуляцией наносов в пределах пашни. Таким образом, важную роль играет не только площадь пашни, но и картографическая точность положения ареалов пахотных угодий относительно элементов рельефа.
Для средних по районам темпов эрозии почв проведена проверка гипотез о равенстве средних значений. Темпы эрозии почв, рассчитанные по картам ESA WC и GLCLU, статистически значимо различаются. Однако между парой оценок эрозии почв, рассчитанных по ЕФИС ЗСН и ESA WC, а также парой оценок ЕФИС ЗСН и GLCLU статистически значимые различия данного показателя отсутствуют с вероятностью 95%. Таким образом, оценки, выполненные по ЕФИС ЗСН, наиболее близки к средним оценкам, рассчитанным по трем картам землепользования, и, вероятно, наиболее точны среди имеющихся вариантов оценок.
В целом по Белгородской области расчетные темпы эрозии почв варьируют от 4.3 до 5.0 т/га в год. Максимальные темпы смыва (5.0 т/га в год) получены при использовании модели землепользования ESA WC, а минимальные – при использовании GLCLU (4.4 т/га в год).
В среднем по трем картам пахотных угодий всей области расчетные темпы эрозии составили 4.7 т/ га в год. Оценки по ЕФИС ЗСН оказались очень блики к среднему и составили 4.6 т/га в год. Максимальные отклонения от средних по районам темпов эрозии почв по всей пашне области составили лишь около 7%. Такие колебания в оценках темпов эрозии почв можно оценить как небольшие, поскольку измерение среднемноголетних темпов эрозии почв в силу допущений и погрешностей методов, как правило, составляет около 15–40% [54], а в некоторых случаях различия в оценках этих темпов разными методами за разные периоды времени могут различаться на порядок.
Имеющиеся в литературе данные о средних многолетних темпах эрозии почв в агроландшафтах Белгородской области варьируют в достаточно широких пределах. По областной оценке, темпы эрозии почв составляют 3.5 т/га в год [38]. По оценкам в масштабе ЕТР [46], темпы эрозии почв в Белгородской области составляют около 10 т/га в год. Согласно оценкам [4], в Белгородской области они варьируют в диапазоне 5–10 т/га в год. Согласно [20] темпы эрозии почв в Белгородской области были равны 5.1 т/га в год в 1980-е гг. и снизились на 3.6% в 2010-е гг., т.е. составили 4.9 т/га в год.
Таким образом, полученные в данной работе оценки эрозии почв 4.3–5.0 т/га в год полностью укладываются в диапазон существующих в отечественной литературе данных и в целом близки к средним значениям.
Глобальные оценки эрозии почв применительно к данному региону существенно отличаются от показанных выше отечественных оценок. Последняя версия глобальных оценок эрозии почв GLOSEM 1.3 была проведена в высоком разрешении (в среднем около 100 м в зависимости от широты) [35]. Данная карта доступна в виде растра, что позволило учесть темпы эрозии почв отдельно по Белгородской области. Согласно этим данным, площадь пахотных угодий в Белгородской области равна 2.37 млн га, что в >1.5 раза выше, чем по всем картам пахотных угодий, использованным в данной работе. Средние по Белгородской области темпы эрозии почв по GLOSEM 1.3 равны 1.2 т/ га в год, что значительно (>3.5 раза) меньше, чем приведенные в данной работе оценки; а также почти в 3 раза меньше, чем наименьшие из представленных в отечественной литературе оценок эрозии почв в Белгородской области [38]. Таким образом, глобальные оценки эрозии почв, вероятно, существенно занижены (в 3–3.5 раза).
Сравнительный анализ объемов эрозионных потерь. Под объемами эрозионных потерь подразумеваются суммарные объемы выноса вещества почв за пределы анализируемой территории. Данный показатель имеет важное значение в расчетах балансов наносов в целом и в оценках круговорота химических элементов (например, углерода) и их соединений в частности. Объемы эрозионных потерь рассчитываются как темпы эрозии почв (net erosion), умноженные на площадь пашни, и выражаются в тоннах с участка.
Объемы эрозионных потерь, рассчитанные по ESA WC, максимальные во всех районах Белгородской области, а по GLCLU – минимальные. Таким образом, объемы эрозионных потерь, рассчитанные по ЕФИС ЗСН, наиболее близки к средним оценкам. Это подтверждается проверкой гипотез о равенстве средних по районам значений. Для объемов эрозионных потерь, так же как для темпов эрозии почв, выявлены статистически значимые различия в оценках, полученных с использованием ESA WC и GLCLU. В свою очередь, пары оценок с использованием ЕФИС ЗСН и ESA WC, ЕФИС ЗСН и GLCLU с вероятностью 95% не имеют статистически значимых различий по данному показателю.
Максимальные отклонения от средних по районам объемов эрозионных потерь были рассчитаны по аналогии с другими оценками по формуле (1). Максимальные отклонения от средних объемов эрозионных потерь в целом по области составили 12.9%. В большинстве районов отклонения от средних объемов эрозионных потерь колеблются от 3 до 11%. Наиболее сильные отклонения от средних объемов эрозионных потерь были выявлены в Волоконовском (18.4%), Старооскольском (23.8%), Валуйском (25.1%), Губкинском (25.4%), Чернянском (25.7%) и Новооскольском (31.0%) районах. Таким образом, самые сильные отклонения от средних объемов эрозионных потерь и от средних темпов эрозии почвы выявлены в одних и тех же районах с самым сильным эрозионным расчленением (рис. 3).
Суммарные потери почвенного вещества под воздействием водной эрозии, согласно данным оценкам, составляют от 6.0 до 7.8 млн т в год в Белгородской области. Согласно общегосударственным оценкам, масса смываемой почвы в 1980-е гг. составляла 5.9 млн т в год, а в 2010-е гг. снизилась на 9.5%, т.е. в настоящее время составляет 5.3 млн т в год [21].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Точность определения пашни по проценту содержания ошибок первого и второго рода, оцененная для Алексеевского района, составила ЕФИС ЗСН – 10%, ESA WC – 16%, GLCLU – 17%. Соотношение площадей пашни Алексеевского района и Белгородской области для каждой из карт пахотных угодий составляет порядка 15 раз, что позволяет допустить, что точность карт ЕФИС ЗСН, ESA WC и GLCLU в целом по области соответствует точностям этих карт, рассчитанным по Алексеевскому району. Площадь пашни Белгородской области, отмеченной на картах ЕФИС ЗСН, ESA WC и GLCLU, отличается от площади пашни, фиксированной хотя бы на одном ресурсе, на 27%.
Выявлена тенденция большего количества ошибок картографирования площади пашни при меньшей доле распахиваемых земель.
Темпы эрозии почв и объемы эрозионных потерь, рассчитанные по ЕФИС ЗСН, оказались наиболее близки к средним оценкам по сравнению с ESA WC и GLCLU. Оценки эрозии почв, рассчитанные по ESA WC, оказались максимальные почти во всех районах Белгородской области, а по GLCLU – минимальные.
Несмотря на различия в суммарной площади пашни, положения ее в рельефе и дробности границ пахотных угодий на разных картах, расхождения в расчетных темпах эрозии почв в целом по области относительно невелики – 7%. Однако в отдельных районах с высокой степенью эрозионного расчленения расхождения в расчетных темпах эрозии почв и эрозионных потерь достигают 27%.
Между площадью пашни и темпами эрозии почв отсутствует прямая связь. Картографическое искажение границ пахотных угодий с увеличением площади пашни в одних районах привело к увеличению расчетных темпов эрозии, а в других – к их уменьшению.
В Белгородской области площадь пашни варьирует слабо – от 1 445 до 1 586 тыс. га. Таким образом, данный регион РФ в значительной степени благоприятен для моделирования эрозии почв. Однако точность оценок темпов и объемов эрозии почв на региональном уровне даже в таком регионе не может быть выше 85–90%. В целом по стране оценка площадей пашни колеблется от 80 млн га (посевные площади на 2022 г.) до 132 млн га на 1990 г. Следовательно, в некоторых регионах РФ и в целом по стране применение существующих карт пахотных угодий может приводить к еще более высоким погрешностям моделирования эрозии почв.
Глобальные оценки эрозии почв [35] на территории Белгородской области существенно (в несколько раз) занижены относительно оценок в отечественной литературе и в настоящей работе.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Исследование выполнено при поддержке грантов Российского научного фонда: проект № 22-17-00071, https://rscf.ru/project/22-17-00071/ – моделирование эрозии почв на основе карты пахотных угодий ЕФИС ЗСН, построение карты пахотных угодий РМПЗП, моделирование эрозии почв на основе карты пахотных угодий РМПЗП, сравнительный анализ полученных результатов; проект № 22-17-00025, https://rscf.ru/project/22-17-00025/ – методика построения границ пахотных угодий на основе моделей ESA WS и GLCLU, моделирование эрозии почв на основе карт пахотных угодий, полученных по ESA WS и GLCLU.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Онлайн-версия содержит дополнительные материалы, доступные по адресу https://doi.org/.
About the authors
A. P. Zhidkin
Dokuchaev Soil Science Institute
Author for correspondence.
Email: gidkin@mail.ru
Russian Federation, Moscow
D. I. Rukhovich
Dokuchaev Soil Science Institute
Email: gidkin@mail.ru
Russian Federation, Moscow
K. A. Maltsev
Kazan (Volga Region) Federal University
Email: gidkin@mail.ru
Russian Federation, Kazan
P. V. Koroleva
Dokuchaev Soil Science Institute
Email: gidkin@mail.ru
Russian Federation, Moscow
References
- База данных показателей муниципальных образований. https://gks.ru/dbscripts/munst/
- Барталев С.А., Егоров В.А., Ефремов В.Ю., Лупян Е.А., Стыценко Ф.В., Флитман Е.В. Оценка площади пожаров на основе комплексирования спутниковых данных различного пространственного разрешения MODIS и Landsat-TM/ETM+ // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2012. T. 9. № 2(9). C. 9–27.
- Брызжев А.В., Рухович Д.И., Королева П.В., Калинина Н.В., Вильчевская Е.В., Долинина Е.А., Рухович С.В. Организация ретроспективного мониторинга почвенного покрова и земель Азовского района Ростовской области // Почвоведение. 2013. № 11. С. 1294–1315. http://doi.org/10.7868/S0032180X13110026
- Генерализованная Почвенно-эрозионная карта СССР. М-б 1 : 5 млн / Под ред. С.С. Соболева. М.: ГУГК, 1968.
- Годовой отчет о выполнении государственного задания на выполнение работ федеральным государственным бюджетным учреждением станцией агрохимической службы “Прикумская” за 2018 год. http://budagrohim.ru/images/pdf/otchet_2019.pdf
- Григорьева О.И. Моделирование площади пашни в структуре земельного фонда математическими методами (на примере Белгородской области) // Региональные геосистемы. 2020. Т. 44. № 3. С. 319–332. https://doi.org/10.18413/2712-7443-2020-44-3-319-332
- Григорьева О.И., Лихневская Н.В., Зеленская Е.Я. Динамика структуры земельного фонда Белгородской области в период с 1955 г. по 2019 г. Свидетельство о государственной регистрации базы данных, охраняемой авторскими правами. № 2020620329.
- Доклад о состоянии и использовании земель Белгородской области / Под ред. Якушева Н.Ф. Белгород, 2005 г. 113 с.
- Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) // https://rosstat.gov.ru/emiss
- Единая федеральная информационная система о землях сельскохозяйственного назначения. http://efis.mcx.ru/
- Ермолаев О.П., Мальцев К.А. Оценка эрозионного риска почвенного покрова в лесных и лесостепных ландшафтах Среднего Поволжья средствами ГИС-технологий // Ученые записки Казанского гос. ун-та. 2008. № 4. Т. 150. С. 85–98.
- Жидкин А.П., Комиссаров М.А., Шамшурина Е.Н., Мищенко А.В. Эрозия почв на Cреднерусской возвышенности (обзор) // Почвоведение. 2023. № 2. С. 259–272. https://doi.org/10.31857/S0032180X22600901
- Жидкин А.П., Смирнова М.А., Геннадиев А.Н., Лукин С.В., Заздравных Е.А., Лозбенев Н.И. Цифровое моделирование строения и степени эродированности почвенного покрова (Прохоровский район Белгородской области) // Почвоведение. 2021. № 1. С. 17–30. https://doi.org/10.31857/S0032180X21010159
- Земельные угодья СССР. М-б 1 : 4 000 000 / Отв. ред. Январева Л.Ф. М.: ГУГК, 1991. 4 л.
- Иванов А.Л., Савин И.Ю., Столбовой В.С., Аветян С.А., Шишконакова Е.А., Каштанов А.Н. Карта агрогенной эродированности почв России // Доклады РАН. Науки о Земле. 2020. Т. 493. № 2. С. 99–102. https://doi.org/10.31857/S2686739720080095
- Карта неиспользуемых сельхозземель, потенциально пригодных для выращивания леса. https://maps.greenpeace.org/maps/aal/
- Королёва П.В. Пространственно-временные связи между землепользованием и почвенным покровом пахотных угодий (на примере Арсеньевского и Плавского районов Тульской области в период с 1969 по 2020 гг.). Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. М., 2022. 25 с.
- Ларионов Г.А. Эрозия и дефляция почв. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993. 200 с.
- Лисецкий Ф.Н., Марциневская Л.В. Оценка развития линейной эрозии и эродированности почв по результатам аэрофотосъемки // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2009. № 10(58). С. 39–43.
- Литвин Л.Ф. География эрозии почв сельскохозяйственных земель России. М.: ИКЦ Академкнига, 2002. 255 с.
- Литвин Л.Ф., Кирюхина З.П., Краснов С.Ф., Добровольская Н.Г. География динамики земледельческой эрозии почв на европейской территории России // Почвоведение. 2017. № 11. С. 1390–1400. https://doi.org/10.7868/S0032180X17110089
- Лукин С.В., Верютина О.С., Корнейко Н.И., Малыгин А.В. Влияние водной эрозии на основные свойства пахотных почв Белгородской области // Достижения науки и техники АПК. 2008. № 10. С. 7–8.
- Мальцев К.А., Ермолаев О.П. Потенциальные эрозионные потери почвы на пахотных землях европейской части России // Почвоведение. 2019. № 12. С. 1502–1512. https://doi.org/10.1134/S0032180X19120104
- О работе федеральной государственной информационно-аналитической системы с применением ГИС-технологий по осуществлению контрольно-надзорных полномочий Россельхознадзора ГИС “Деметра”. Россельхознадзор. https://fsvps.gov.ru/fsvps/print/news/8646.html
- Почвенная карта РСФСР. М-б 1 : 2500000 / Под ред. Фридланда В.М. М.: ГУГК, 1988. 16 л.
- Рухович Д.И., Симакова М.С., Куляница А.Л., Брызжев А.В., Королева П.В., Калинина Н.В., Вильчевская Е.В., Долинина Е.А., Рухович С.В. Влияние лесополос на фрагментацию овражно-балочной сети и образование мочаров // Почвоведение. 2014. № 11. С. 1293–1307. https://doi.org/10.7868/S0032180X14110094
- Рухович Д.И., Симакова М.С., Куляница А.Л., Брызжев А.В., Королева П.В., Калинина Н.В., Вильчевская Е.В., Долинина Е.А., Рухович С.В. Анализ применения почвенных карт в системе ретроспективного мониторинга состояния земель и почвенного покрова // Почвоведение. 2015. № 5. C. 605–625. https://doi.org/10.7868/S0032180X15050081
- Рухович Д.И., Симакова М.С., Куляница А.Л., Брызжев А.В., Королева П.В., Калинина Н.В., Вильчевская Е.В., Долинина Е.А., Рухович С.В. Ретроспективный анализ изменчивости землепользования на слитых почвах замкнутых западин Приазовья // Почвоведение. 2015. № 10. С. 1168–1194. https://doi.org/10.7868/S0032180X15100093
- Рухович Д.И., Симакова М.С., Куляница А.Л., Брызжев А.В., Королева П.В., Калинина Н.В., Черноусенко Г.И., Вильчевская Е.В., Долинина Е.А., Рухович С.В. Влияние засоленных почв на изменчивость типов землепользования в Азовском районе Ростовской области // Почвоведение. 2017. № 3. С. 289–310. https://doi.org/10.7868/S0032180X17010130
- Рухович Д.И., Шаповалов Д.А., Куляница А.Л., Королева П.В. Продовольственная безопасность России и государственная статистика – к чему ведут выдуманные цифры // Международный сельскохозяйственный журнал. 2017. № 6. С. 64–69. https://doi.org/10.24411/2587-6740-2017-16016
- Шашко Д.И. Агроклиматическое районирование СССР. М-б 1 : 4000000. М.: ГУГК-СОПС, 1969. 4 л.
- Сидорчук А.Ю. Эрозионно-аккумулятивные процессы на Русской равнине и проблемы заиления малых рек // Тр. Академии водохозяйственных наук. Сер. Водохозяйственные проблемы русловедения. 1995. Т. 1. С. 74–83.
- Федеральная служба регистрации, кадастра и картографии // https://rosreestr.gov.ru/
- Физико-химические свойства почв сельскохозяйственных угодий и баланс гумуса на пашне Российской Федерации / Под ред. Крылатова А.К. М.: Русслит, 1996. 392 с.
- Borrelli P., Ballabio C., Yang J., Robinson D., Panagos P. GloSEM: High-resolution global estimates of present and future soil displacement by water erosion // Scientific Data. 2022. V. 9. P. 406. https://doi.org/10.1038/s41597-022-01489-x
- Breiman L., Friedman J.H., Olshen R.A., Stone C.J. Classification and Regression Trees. The Wadsworth Statistics/Probability. Belmont: International Group, 1984. 358 p.
- Buchhorn M., Bertels L., Smets B., De Roo B., Lesiv M., Tsendbazar N.E., Masiliunas D., Li L. Copernicus Global Land Service: Land Cover 100m: Version 3 Globe 2015-2019: algorithm theoretical basis document. Geneva: Zenodo, 2020. 152 p. https://doi.org/10.5281/zenodo.3938968
- Buryak Zh.A., Narozhnyaya A.G., Gusarov A.V., Beylich A.A. Solutions for the spatial organization of cropland with increased erosion risk at the regional level: a case study of Belgorod oblast, European Russia // Land. 2022. V. 11. P. 1492. https://doi.org/10.3390/land11091492
- Franko U., Oelschlaegel B., Schenk S. Simulation of temperature-, water- and nitrоgen dynamics using the Model CANDY // Ecological Modelling. 1995. V. 81. P. 213–222.
- Friedl M., Sulla-Menashe D. Boston University and MODAPS SIPS, NASA: MCD12Q1 MODIS. Terra+ Aqua Land Cover Type Yearly L3 Global 0.05 Deg CMG. NASA LP DAAC. 2015. https://doi.org/10.5067/MODIS/MCD12C1,6
- Golosov V.N., Collins A.L., Dobrovolskaya N.G., Bazhenova O.I., Ryzhov Yu V., Sidorchuk A.Yu. Soil loss on the arable lands of the forest-steppe and steppe zones of European Russia and Siberia during the period of intensive agriculture // Geoderma. 2021. V. 381. P. 114678. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114678
- Grigoreva O.I., Marinina O.A., Zelenskaya E.Ya. Spatial and temporal changes in the land resources of the Belgorod region from 1954 to 2017 under the influence of anthropogenic factors // Biosciences, Biotechnology Res. Commun. 2020. V 13(1). P. 60-67. https://doi.org/10.21786/bbrc/13.1/10
- Hansen M.C., Potapov P.V., Pickens A.H., Tyukavina A., Hernandez-Serna A., Zalles V., Turubanova S., et al. Global land use extent and dispersion within natural land cover using Landsat data // Environ. Res. Lett. 2022. V. 17(3). P. 034050. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac46
- IPCC, 2001: Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, 2001. 881 p.
- Jenkinson D.S., Rayner J.H. The turnover of soil organic matter in some of the Rothamsted classical experiments // Soil Sci. 1977. V. 123. P. 298-305.
- Maltsev K.A., Yermolaev O.P. Assessment of soil loss by water erosion in small river basins in Russia // Catena. 2020. V. 195. P. 104726. https://doi.org/10.1016/j.catena.2020.104726
- McCool D.K., Foster G.R., Mutchler C.K., Meyer L.D. Revised slope length factor for the Universal Soil Loss Equation // Transactions of the ASAE. 1989. V. 32(5). P. 1571–1576. https://doi.org/10.13031/2013.31192
- Panagos P., Borrelli P., Meusburger K., Yu B., Klik A., Lim K.J., Yang J.E., et al. Global rainfall erosivity assessment based on high-temporal resolution rainfall records // Sci. Rep. 2017. V. 7. P. 1–12. https://doi.org/10.1038/s41598-017-04282-8
- Poesen J. Soil erosion in the Anthropocene: Research needs // Earth Surface Processes and Landforms. 2018. V. 43. P. 64–84. https://doi.org/10.1002/esp.4250
- Prokhorenkova L., Gusev G., Vorobev A., Dorogush A.V., Gulin A. CatBoost: unbiased boosting with categorical features // Advances in Neural Information Processing Systems 31. Annual Conference on Neural Information Processing Systems. Montreal, 2018. P. 6638–6648.
- Smith J., Smith P., Wattenbach M., et. al. Projected changes in the organic carbon stocks of cropland mineral soils of European Russia and the Ukraine, 1990–2070 // Global Change Biology. 2007. V. 13(2). P. 342–356. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2006.01297.x
- Zanaga D., Van De Kerchove R., De Keersmaecker W., Souverijns N., Brockmann C., Quast R., Wevers J. et al. ESA WorldCover 10 m 2020 v100. Data set. Geneva: Zenodo, 2021. https://doi.org/10.5281/zenodo.5571936
- Zhidkin A., Fomicheva D., Ivanova N., Dostál T., Yurova A., Komissarov M., Krasa J. A detailed reconstruction of changes in the factors and parameters of soil erosion over the past 250 years in the forest zone of European Russia (Moscow region) // Int. Soil Water Conserv. Res. 2022. V. 10(1). P. 149–160. https://doi.org/10.1016/j.iswcr.2021.06.003
- Zhidkin A., Gennadiev A., Fomicheva D., Shamshurina E., Golosov V. Soil erosion models verification in a small catchment for different time windows with changing cropland boundary // Geoderma. 2023. V. 430. P. 116322. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2022.116322
Supplementary files