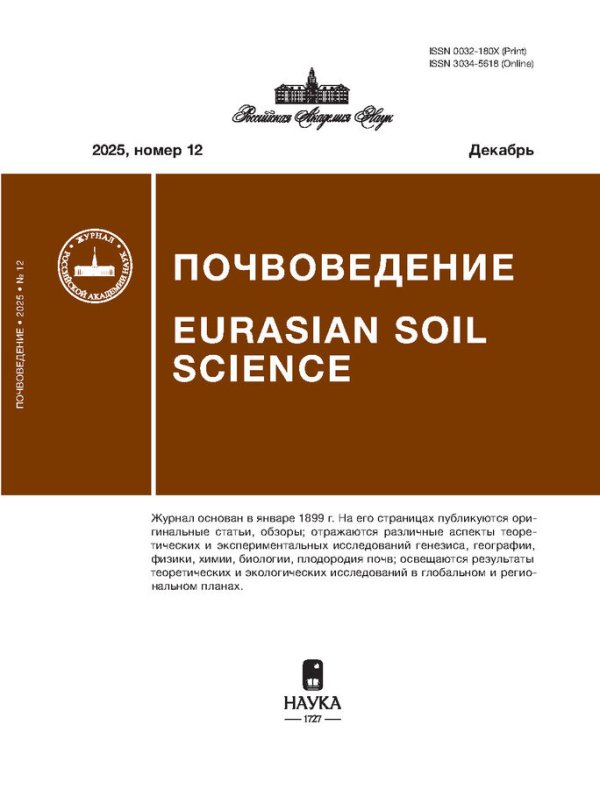Late Pleistocene Paleosols in the North of Western Siberia: Paleorecords of Natural Environment and the Component of the Modern Soil Cover
- Authors: Sedov S.N.1,2, Sheinkman V.S.2
-
Affiliations:
- Institute of Geology, National Autonomous University of Mexico
- Institute of the Cryosphere of the Earth, Tyumen Scientific Center SB RAS
- Issue: No 1 (2024)
- Pages: 94-110
- Section: ПАЛЕОПОЧВОВЕДЕНИЕ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0032-180X/article/view/259376
- DOI: https://doi.org/10.1134/S0032180X24010081
- EDN: https://elibrary.ru/ZLHNBT
- ID: 259376
Cite item
Full Text
Abstract
The article presents the results of the search and study of the Late Pleistocene soils in the north of Western Siberia. The theoretical basis was an ice-free model of the evolution of the Pleistocene landscapes in the region, since the alternative model with its glacial cover excluded pedogenesis under them. In sections of high river terraces, disclosing the Late and Middle Pleistocene sediments were revealed, in the absence of glacial deposits, and paleosurface levels were corresponding to chronointervals with landscapes favorable for the development of pedogenesis. These are the soils of the Kazantsev thermochron – the marine isotope-oxygen stage (MIS) 5, lying on the Middle Pleistocene alluvium, and of the Karginsky interstadial – MIS-3, and of the end of the Sartan cryochron – MIS-2. Based on morphogenetic analysis, including micromorphological observations, a pedogenetic interpretation of paleosols was carried out. It was revealed that in the polygenetic profile of the MIS-5 paleosol, the stage of taiga soil formation with clay illuviation was replaced by a colder tundra phase with over-permafrost gleization, and the MIS-3 paleosols are characterized by tundra-steppe features, in which gleization and cryogenic processes are combined with the formation of carbonates, whereas the paleosol level of the end of MIS-2 is a product of tundra-swamp pedogenesis and includes gleiing pedosediments that fill pseudomorphs along ice wedges. The latter allowed us to identify the Late Sartan Tazovo-Nadym soil-cryogenic horizon. As a result, the correlation of the obtained results with synchronous stratigraphic schemes for adjacent regions was carried out and the question of creating a soil-permafrost paleorecord of the north of Western Siberia was raised. This is important because the interpretation of modern surface soils requires special approaches in order to take into account that in their profiles relict pedogenic horizons are often found.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время при освещении событий плейстоцена данные о палеопочвах занимают одну из ключевых позиций и являются важным элементом континентальных палеоклиматических летописей, отражая контрастные глобальные циклические изменения климата в квартере. Среди этих летописей важнейшее значение приобрели лёссово-почвенные серии, детально демонстрирующие в своем строении чередование основных элементов плейстоценовых климатических циклов. В европейской части России группой Величко [5, 49] это показано для циклов оледенение–интерстадиал–межледниковье. Лёссово-почвенные толщи и возможности для их детального соотнесения с другими глобальными геологическими летописями – данными по ледниковым кернам из Антарктиды и Гренландии и кривой морских изотопно-кислородных стадий (МИС) – ключевые элементы в глобальной корреляции палеоэкологических архивов плейстоцена [29, 31, 33]. В то же время опыт сопоставления географически удаленных лёссовых разрезов [30, 35] показал отчетливое сходство их строения. В настоящее время ставится вопрос о введении единого стратиграфического кода для всего Евроазиатского лёссового пояса.
Существенно меньше палеопочвенной информации по регионам, расположенным к северу от зоны распространения лёссовых толщ. Например, на севере Европы для территорий, находившихся в квартере под воздействием ледниковых покровов, имеются единичные сведения о межледниковых палеопочвах, в том числе захороненных под моренами былого скандинавского ледника [37]. Поэтому при поиске следов палеопедогенеза почвоведы считали подобные территории бесперспективными, предполагая, что связанные с деятельностью ледников геологические процессы стирали следы почвообразования предшествующих теплых этапов.
Распространялись подобные представления и на палеогеографические модели, разрабатываемые для севера Западной Сибири. Вначале путем простого переноса на данный регион закономерностей, вскрытых для былого оледенения Альп и Скандинавии, без обоснования такого подхода с позиций криологии Земли [25]. Затем перекрытие ледниками севера Западной Сибири в соответствии с ритмикой по альпийско-скандинавским схемам стало применяться уже привычно [1, 14, 18, 36, 46], хотя развитие криогенно-гляциальных систем [26, 27] в Западной Сибири, в Альпах и Скандинавии принципиально отлично [25, 41].
Почвоведы, разрабатывавшие представления о генезисе, географии и эволюции почв таежной и тундровой зоны Западной Сибири ориентировались на модель с ледниковым покровом. В сводках [4, 17, 22] позиционируется, что начало педогенеза в отмеченных зонах связано с завершением дегляциации предполагаемого былого ледника, и почвенный покров соответственно имеет голоценовый возраст, а в профилях типичных почв нет их реликтовых признаков и свойств. Даже в тех случаях, когда почвоведам было известно об альтернативных сценариях безледникового развития ландшафтов севера Западной Сибири (например, в работе [4]), выводов о возможности существования в данном регионе плейстоценовых почвенных реликтов не делалось, и вопрос о поиске погребенных плейстоценовых палеопочв на его территории даже не ставился. Этот вопрос стал целью настоящей статьи.
Масштабность исследований погребенных почв на севере Западно-Сибирской равнины контрастно отличается от ее юга, где имеются детальные исследования палеопочв, захороненных в лёссовых толщах [16]. В их строении четко отражена ритмика климатических событий: лёссовые толщи ассоциируются с холодными эпохами, а почвенные – с теплыми. Требовалось найти адекватные индикаторы и для севера Западной Сибири. К концу нулевых годов текущего века вопрос о палеопочвенных летописях к северу от лёссовой зоны получил свое обоснование, поскольку при детальном изучении закономерностей развития криогенно-гляциальных систем по всем ледниковым центрам Сибири была обоснована концепция безледникового развития севера Западной Сибири [24, 26, 27 41]. Если покровных оледенений в регионе не было, то палеопочвенные объекты квартера могли сохраняться. Тогда почвенные горизонты, как и в южно-сибирских летописях, будут фиксировать теплые эпохи, а индикатором холодных эпох станут мерзлые толщи с наиболее представительными чертами глубокого промерзания горных пород, характерного для региона в квартере при отсутствии ледниковых покровов. Был поставлен вопрос о поиске и расшифровке палеолетописей нового типа – почвенно-мерзлотных летописей севера Западной Сибири, и разработана оптимальная стратегия поиска палеопочв при параллельном существовании моделей безледникового развития и формирования ледниковых покровов в холодные эпохи. С этой целью были учтены работы, посвященные различиям площадей перекрытия рассматриваемой территории предполагаемыми ледниками в разные криохроны. Если до 1990-х гг. эти модели предполагали покрытие ледниковым льдом севера Сибири, включая акваторию Карского моря, начиная с криохрона МИС-2 [2, 10, 32], то затем началось обсуждение концепции ограниченности сибирских оледенений из-за недостаточной влагообеспеченности региона. Закономерности промерзания водоемов хорошо известны [11, 15], и с этих позиций маловероятно и предположение [32, 36, 45] о промерзании Карского моря в криохроны и формировании в его пределах ледникового щита, впоследствии надвигавшегося на континент. В итоге в моделях последних лет [36, 46], оперирующих гипотезой о сплошном покрытии региона ледниками, такие ледники предполагаются лишь для криохронов МИС-6 и древнее, в то время как в МИС-2 рассматриваемая территория уже показана свободной от ледников.
С нашей точки зрения, ситуация должна быть иной: если в МИС-2 ледниковый покров отсутствовал, он должен был отсутствовать и в предыдущие криохроны. Данное утверждение основывается на том, что глубина и объем основных криохронов и термохронов квартера, особенно во время МИС-1…МИС-6, однотипны на шкалах всех основных палеоклиматических летописей [34]. Это обусловлено тем, что характер общей циркуляции атмосферы, определяющий питание и режим ледников, в квартере имел одни и те же черты [24, 41]. В этом случае их размеры контролировались именно однотипной глубиной и длительностью криохронов. Подробно данный вопрос изложен в работах [24–27].
Принимая во внимание, что для позднего плейстоцена среди исследователей достигнут консенсус относительно преимущественно безледникового развития ландшафтов севера Западной Сибири, было решено сосредоточить усилия на поиске палеопочв именно этого хроноинтервала. На базе Института криосферы Земли СО РАН в 2013 г. начались полевые палеопедологические исследования на территории к северу от широтного отрезка р. Обь – в зоне предполагаемого былого ледникового покрова. Затем был открыт спектр не известных ранее позднеплейстоценовых почв. В том числе обнаружены характерные для региона криогидроморфные палеопочвы, тесно связанные с развитием псевдоморфоз по полигонально-жильному льду (ПЖЛ) – наиболее информативному индикатору глубокого промерзания горных пород.
Полученные результаты имеют большой потенциал для решения не только педологических, но и палеогеографических, стратиграфических и геокриологических задач. Важно данное открытие и для корректного анализа современного почвенного покрова, в котором продукты плейстоценового педогенеза, залегая часто неглубоко, инкорпорируются в поверхностные профили в виде реликтовых элементов и не всегда легко распознаются.
За десятилетие работы нашей научной группы опубликована серия статей, представляющих результаты исследований конкретных разрезов различных палеопочв позднего плейстоцена [28, 38, 39, 40, 42, 43]. В настоящей работе эти результаты впервые обобщены и объединены в единую модель развития палеопедогенеза и его взаимодействия с криогенными процессами на севере Западной Сибири. Данная модель сопоставлена и с педостратиграфическими схемами сопредельных территорий.
ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Район исследований (рис. 1) расположен между полярным кругом и широтным отрезком р. Обь, на правобережье которой протянулась невысокая возвышенность Сибирские Увалы. Средние абсолютные отметки 100–120 м, наивысшая точка, 285 м, находится в восточной части возвышенности. Район выбран потому, что в моделях с ледниковым покровом вся эта территория, как в позднем квартере [1, 2, 10, 32], так и в среднем [13, 36, 39], покрыта льдом, а гряда Сибирских Увалов была представлена как морена. Соответственно, поиск и выявление палеопочв здесь имеет принципиальное значение.
Рис. 1. Расположение исследованных участков (1–8). Участки с находками палеопочв: МИС-2 – желтый ромб, МИС-3 – розовая восьмиконесная звезда, МИС-5 – синий пятиугольник.
Климат рассматриваемой территории умеренно-континентальный [3]. С севера на юг его показатели меняются мало, но в направлении с запада на восток климатическая континентальность усиливается. В противоположных по широте частях района средняя температура января и июля отличается примерно на 1°С: –25 и ~16°C в верховьях р. Таз и –24 и ~15°C в низовьях р. Надым. На всей территории радиационный баланс отрицательный круглый год. Атмосферные осадки в основном связаны с переносом с Атлантики, среднегодовое количество (две трети выпадает в теплый сезон) составляет ~450 мм, при малом испарении это определяет избыточное увлажнение территории.
В ландшафтном аспекте район располагается в подзонах средней и северной тайги и в зоне лесотундры. Преобладают болотные почвы, особенно торфяные, распространенные на пониженных участках и на слабодренированных водоразделах. На хорошо дренированных песчаных массивах формируются почвы альфегумусового ряда: подзолы и подбуры, а на суглинистых материнских породах дифференциация профиля отражает, при подчиненном значении оподзоливания и иллювиирования глины, господство элювиально-глеевого процесса – образуются почвы типа светлоземов: стагносоли и стагниковые лювисоли [4, 13, 17, 21]. Смена ландшафтных зон происходит постепенно. Если на востоке Сибирских Увалов фиксируется средняя тайга с кедрово-еловыми темнохвойными лесами и с участием сосны и березы – на иллювиально-железистых и иллювиально-гумусовых подзолах, то в противоположной части района в низовьях р. Надым преобладает северная тайга. Ее значительную часть в пределах низменных ареалов занимают заболоченные и заозеренные пространства с торфяно-болотными переходными и деградированными почвами, но на дренированных пространствах развиты сосновые лишайниковые леса, иногда с примесью березово-елово-лиственничных лесов с разными подзолами [3, 13, 22]
К северу от Сибирских Увалов к этой возвышенности прилегает пологонаклонная в сторону Карского моря аллювиальная равнина, выполненная аллювиальными, в основном песчаными, отложениями. В комплексе осадков, слагающих тела данной равнины и Сибирских Увалов, в отложениях МИС-5…МИС-2 и в заполнении секущих их псевдоморфоз по ПЖЛ выявлено большинство находок палеопочв.
Из-за обширности территории для детального изучения были намечены репрезентативные участки с опорными объектами: расчистками обрывов речных террас, карьеров и стенок шурфов, пройденных для вскрытия представительных образований. Вследствие воздействия тектоники [27] объекты в восточной части Сибирских Увалов расположены выше – на отметках 100–120 м и выше, но по направлению к Обской Губе отметки уменьшаются, в соответствии с уклоном прилегающей к возвышенности равнины, до значений 25–50 м.
Несмотря на расположение в противоположных частях изучаемой территории и разницу в высоте, опорные объекты – это поднятые тектоникой блоки террас, сложенных сопоставимыми отложениями [25, 27]. На объектах и вблизи Обской губы (рис. 1, участки 1–4), и в верховьях р. Таз (рис. 1, участки 5–6) в каргинском, МИС-3, аллювии обнаружены следы воздействия в более позднее, сартанское время, МИС-2, процессов глубокого промерзания горных пород. В этих переработанных криогенезом отложениях выявлена серия криогидроморфных палеопочв, сформированных в конце МИС-2. На объектах в долине р. Вах, дренирующей восточную часть Сибирских Увалов (рис. 1, участки 7–8), где врез водотоков больше, в строении верхней части террас вскрываются каргинские, со сходной историей развития осадки. В них обнаружены палеопочвы каргинского возраста, МИС-3. А на участке 8, где фиксирован наибольший врез рек, обусловливая формирование речных террас высотой 30–35 м, каргинские осадки ниже по разрезу сменяет залегающий под ними более древний аллювий – с выявленными палеопочвами МИС-5, лежащими на аллювии МИС-6.
Расположение всех изученных профилей, в которых были выявлены плейстоценовые палеопочвы, отмечено на рис. 1. В настоящей работе представлены наиболее репрезентативные из них – в восточной части Сибирских Увалов, где реки вскрывают наиболее полный комплекс отложений. Для каждого периода интенсивного почвообразования, установленного в регионе, рассмотрен один ключевой профиль.
Соответствующий МИС-5 казанцевский палеопочвенный уровень пока детально изучен только в разрезе Белая Гора на левом берегу р. Вах (рис. 1, участок 8). По средней Оби известны и другие разрезы с палеопочвами такого возраста, например разрез Кирьяс [48], но подробные палеопедологические данные пока не опубликованы. Каргинский уровень, формировавшийся в МИС-3, отражен в разрезе Зеленый Остров на р. Сабун – притоке р. Вах (рис. 1, участок 7), его дополняют сведения по разрезу Белая Гора. Наиболее широко представлены палеопочвы, соответствующие потеплению в конце сартанского времени, МИС-2. Они выявлены в ряде разрезов в бассейне рек Надым и Таз (рис. 1, участки 1–6). Документируется этот уровень разрезом Пюлькы (рис. 1, участок 6). Он весьма представителен, снабжен палеоботаническими материалами и надежно датирован.
Для каждого разреза приводится общая характеристика строения, краткое морфологическое описание палеопочвенных профилей, микроморфологические исследования и краткое изложение результатов других палеоэкологических наблюдений. Отметим, что при документации былых педогенетических процессов микроморфологический метод оказался наиболее информативным [28, 39]. Таксономическое название палеопочв, а также индексацию генетических горизонтов, составляющих профили, проводили на основе международной классификации почв WRB.
Хронологическая основа полученных данных базируется на ¹⁴C-датировках гумуса для уровней МИС-2 и МИС-3 и на U/Th-датировке для уровня МИС-5. Более подробная информация о полученных результатах из каждого разреза содержится в работах [39, 42, 43], а новый блок интерпретированных в данном случае материалов отражает корреляцию представленных разрезов. Полученные данные были сопоставлены с педостратиграфическими схемами сопредельных территорий: Русской равнины [49] и юга Западной Сибири [16] – в целях создания в будущем сводной региональной педостратиграфической схемы с выходом на почвенно-мерзлотную летопись севера Западной Сибири.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Выявление палеопочв и их характеристики. Поиск палеопочв осуществлялся на всех доступным площадях с целью зафиксировать проявления педогенеза как характерной черты типичных хроноинтервалов палеоклиматических схем и создания на этой основе почвенно-мерзлотной летописи севера Западной Сибири. В итоге был обнаружен спектр позднеплейстоценовых палеопочв разного возраста и получены важные результаты.
Рис. 2. Разрез Белая Гора. Фото из архива В.С. Шейнкмана: a – общий вид 30–35-метрового обрыва речной террасы, b – валунно-галечный материал, вымытый из тела террасы и скапливающийся на отмелях, c – валуны и галька, вкрапленные в аллювий в теле террасы, d – верхняя часть обрыва террасы с палеопочвой МИС-3, e – центральная часть обрыва террасы с палеопочвой МИС-5.
Казанцевская палеопочва, МИС-5. Палеопочва казанцевского времени, МИС-5, выявлена и изучена в разрезе Белая Гора (61°27ʹ N, 82°28ʹ E) – естественном береговом обнажении на левом берегу р. Вах, правом притоке р. Обь в ее среднем течении (рис. 1, участок 8). Это обрыв высокой речной террасы, высота которой 30–35 м (рис. 2a). Данное обнажение прежде использовалось как опорный разрез позднего кайнозоя Западной Сибири. Ранее в нем изучалась его самая нижняя часть, где у уреза воды выходят континентальные третичные отложения – они были выделены как корликовская свита олигоценового возраста [19]. Но на основании этих осадков лежит значительно более молодая толща, сложенная в основном песчаным аллювием. Она отражает историю развития Сибирских Увалов во второй половине квартера без участия ледников. Именно в этой аллювиальной толще впервые обнаружены палеопочвы, идентифицированные как возникшие в казанцевское и каргинское время в МИС-3 и МИС-5 соответственно в верхней и центральной частях обнажения (рис. 2d, 2e). Изредка песчаный материал перемежался с глинистыми слоями, а в верхней части разреза, несколько ниже слоя с палеопочвой МИС-3, встречались маломощные линзы вкрапленной в песок гальки с валунами средних размеров, которые, будучи вымытыми из тела террасы, скапливались в виде локальных тонких покровов на отмелях (рис. 2b, 2c). Это является результатом ледово-речного разноса в прошлом каменного материала с правобережья Енисея [25].
Принадлежность палеопочвы, расположенной в центральной части разреза Белая Гора, к казанцевскому времени МИС-5, подтверждена U/Th-датировкой (модель TSD) 103 ± 9/7 ka BP (LUU 1298TSD). Данная палеопочва на участке расчистки залегает в 17 м от поверхности и имеет сложное строение, включающее два субпрофиля.
Нижний субпрофиль (рис. 3a) состоит из маломощного оторфованного органогенного горизонта Ha с включениями слаборазложившейся древесины, подстилаемого серо-сизым гумусово-глеевым горизонтом ACr. Ниже залегает более светлый суглинистый голубоватый глеевый горизонт с невыраженной структурой. У этого горизонта неровная нижняя граница – с карманами и внедрениями в нижележащую толщу более древнего песчаного аллювия, предположительно сформированного в МИС-6, поскольку отмеченная почва датирована временем МИС-5. Верхний субпрофиль состоит из маломощного (около 15 см) оглеенного горизонта с железистыми пятнами и разводами; он не отделен от кровли нижележащего профиля горизонтом С, образуя единый педокомплекс с нижним субпрофилем [45]. В верхнем субпрофиле обнаружен тонкий серый гумусово-глеевый горизонт, подвергавшийся мерзлотным деформациям. Кроме того, вся совокупность горизонтов педокомплекса сечется средних размеров псевдоморфозой по ПЖЛ, заполненной вышележащим материалом, включая сохранившиеся педоседименты палеопочвы МИС-5, оползавшие по стенкам ПЖЛ при их таянии, примерзавшие к ним и затем захоронившиеся (рис. 2e).
В шлифах из горизонта Ha данной палеопочвы наблюдалось обилие слаборазложившихся растительных остатков, сохранивших субпараллельную ориентацию (рис. 3b). U/Th-датировка 103 ± 9/7 ka BP (LUU 1298TSD) получена именно по торфянистому материалу образца из горизонта Ha. Отдельные фрагменты растительных тканей включены в минеральную массу горизонта ACr, вероятно, в результате криотурбаций. Неожиданно в этом горизонте были обнаружены глинистые натеки с относительно высоким двупреломлением; они также включены в основную массу горизонта, не связаны с порами и сильно деформированы (рис. 3c).
Рис. 3. Палеопочва МИС-5 в разрезе Белая Гора и микроморфология ее генетических горизонтов. Фото из архива С.Н. Седова. a – строение нижнего субпрофиля педокомплекса, b – микростроение оторфованного горизонта На: растительных остатки с субпараллельным расположением; без анализатора, c – деформированные глинистые натеки, включенные в основную массу горизонта ACr; николи +.
По различным горизонтам данного педокомплека получены спорово-пыльцевые спектры, показавшие значительные изменения растительного покрова в период его формирования [43]. Горизонт ACr характеризуется обилием древесной пыльцы (до 60%), в составе которой больше всего ели и березы, присутствует пихта, ель и сосна. В суглинистом аллювии, непосредственно перекрывающем педокомплекс, состав спектра радикально меняется: преобладают травянистые растения: злаки, полыни, маревые. Древесных видов меньше, среди них преобладает карликовая береза.
Каргинские палеопочвы, МИС-3. В верхней части разреза Белая Гора выявлена палеопочва (рис. 2d), образование которой отнесено к каргинскому времени МИС-3, калиброванный ¹⁴C возраст формирования ее гумусового вещества составляет 35 170 ± 350 лет (Beta-410187) [42, 43]. Палеопочва залегает в 4.5 м от поверхности и состоит из оглеенного гумусового и сизого глеевого горизонтов. Будучи маломощной (толщина ее наиболее хорошо выраженного реликта составляет около 30 см, а гумусового горизонта – всего 2–3 см), она хорошо выражена. Ее важная морфологическая особенность в том, что в ней гумусовый горизонт явно деформирован в ходе мерзлотных процессов. Порой он разорван, тогда как глеевый горизонт хорошо оструктурен (с мелкоореховатой структурой, сформированной густой сетью трещин). Эти признаки, на наш взгляд, имеют криогенную природу, будучи связаны с формированием сетчатой криогенной текстуры [39, 40, 43].
Лучше сохранившийся практически полный профиль погребенной почвы, относящейся к каргинскому времени, МИС-3, изучен в разрезе Зеленый Остров (рис. 4a) в обрыве террасы р. Глубокий Сабун (62°29ʹ26.5ʺ N, 81°51ʹ30.3ʺ E) – правого притока р. Вах (рис. 1, участок 7). Идентифицирована эта почва как каргинская, МИС-3, на основании результатов ¹⁴C-датирования органического вещества получен калиброванный возраст 25 693–27 748 лет назад (SOAN-7550) [42, 43].
Рис. 4. Разрез Зеленый остров и микроморфология генетических горизонтов палеопочвы МИС-3. Фото из архива В.С. Шейнкмана и С.Н. Седова. a – профиль погребенной почвы, b – микростроение горизонта Ahg: растительные остатки, включенные в гумусированную основную массу; без анализатора, c – железистые стяжения в горизонте Br, d – карбонатное новообразование – спаритовый покров в поре горизонта Br, николи +.
Учитывая, что¹⁴C-датировка получена по гумусу верхних почвенных горизонтов, она указывает возраст, близкий ко времени погребения почвы. Это позволяет предполагать: педогенез в данном случае в основном пришелся на вторую половину МИС-3, что хорошо коррелируется с процессами каргинского почвообразования в разрезе Белая Гора. Характерно, что в разрезе Зеленый Остров, как и в разрезе Белая гора, встречена линза гальки с валунами (рис. 4a) из пород с правобережья Енисея. Но в данном случае она лежит не ниже палеопочвы МИС-3, а выше ее, подчеркивая, что ледово-речной разнос обломков происходил на разных этапах развития каргинской толщи.
Отметим, что в верхней части профиля каргинской палеопочвы в разрезе Зеленый Остров располагается (рис. 4a) гумусово-глеевый горизонт Ahg серо-бурой окраски, с обильными включениями растительного детрита, а ниже залегает серовато-желтый пятнистый оглеенный горизонт Br с ржавыми разводами. Микроморфологические исследования горизонта Ahg показали обилие в нем слаборазложившихся растительных остатков, интегрированных в гумусированную массу и имеющих разнообразное пространственное расположение (рис. 4b). В глеевом горизонте Br основная минеральная масса имеет компактное сложение, однако распределение частиц разного размера в ней неравномерное: кластеры песчаных зерен чередуются с участками концентрации тонкодисперсного материала, вероятно – за счет криогенной сортировки. Обнаружены многочисленные железистые стяжения округлой и полосчатой конфигурации (рис. 4c) и неожиданная находка (рис. 4d) карбонатных новообразований в виде небольших спаритовых стяжений и покровов.
Для данного разреза были выполнены некоторые дополнительные исследования, результаты которых внесли определенный вклад в палеоэкологическую интерпретацию данных [5]. Применение палеогумусового метода [12, 42] показало, что соотношение гуминовых кислот и фульвокислот в верхнем горизонте погребенной палеопочвы близко к 1, что резко отличает его от современного подзола, в котором фульвокислоты значительно преобладают. Среди фракций в палеопочве заметно доминируют гуминовые и фульвокислоты, связанные с кальцием. Спорово-пыльцевой анализ показал преобладание травянистых растений (более 50%), в основном злаков и полыней, в древнем растительном покрове, также присутствовала пыльца карликовой березы. Анализ остатков древней энтомофауны выявил, что все диагностированные фрагменты принадлежали насекомым, обитавшим в тундрах [42].
Палеопочвы конца сартанского времени, МИС-2. В отличие от более древних палеопочвенных образований, для палеопочв терминальной фазы холодной сартанской эпохи, соответствующей стадиальному криохрону МИС-2, получен самый большой массив данных. Палеопочвы, сформированные в это время, обнаружены в многочисленных разрезах высоких речных террас бассейнов Надыма и Таза, включая их притоки (рис. 1, участки 1–6).
Представляем результаты исследований наиболее изученного, хорошо датированного и снабженного представительными палеоботаническими результатами разреза Пюлькы. Строение, характеристики и ¹⁴C-датировки в других разрезах, характеризующих данный палеопочвенный уровень, очень сходны. Расположен разрез Пюлькы (63°12ʹ11ʺ N, 84°19ʹ37ʺ E) на правом берегу одноименной реки в истоках р. Таз. Это обрыв сложенной песчаным аллювием 6–8-метровой террасы, тело которой сечет серия псевдоморфоз по ПЖЛ средних размеров – следуя в 15–20 м друг от друга, они достигают 3 м в высоту и до 2 м в ширину. Палеопочва представлена реликтами криогидроморфных почв (рис. 5a), лежащих на основании былого сезонно-талого слоя, на котором она формировалась как на мерзлом водоупоре. Она ясно отслеживается на глубине около 1 м от поверхности в виде сизого, мощностью в несколько сантиметров, горизонта с многочисленными ржавыми пятнами и разводами. Преобладание сизых тонов в окраске основного тела палеопочвы связано с былым оглеением в условиях избыточного увлажнения на основании уже сформировавшегося сезонно-талого слоя.
Следует принять во внимание то, что криогидроморфные почвы, которые должны закономерно формироваться в условиях криохронов региона [9], будучи редуцированы под воздействием иллювиального горизонта формирующихся выше альфегумусовых подзолов и подбуров, в первоначальном залегании диагностируются с трудом. Но педоседименты этих почв хорошо выражены в заполнении псевдоморфоз по былым ПЖЛ. Это является следствием оползания почвенного материала по тающим, но охлажденным стенкам ПЖЛ (отрицательная температура которых после таяния ПЖЛ определенное время сохраняется) и последующего его захоронения.
Материал палеопочв в заполнении псевдоморфоз супесчаного состава с характерной глеевой пигментацией: на голубовато-сизом фоне расположены многочисленные ржавые пятна и разводы, а по краю псевдоморфоз – сплошная, шириной 2–5 см, яркая ржаво-бурая кайма. Преобладание сизых тонов в окраске основного тела псевдоморфоз связано как с восстановительными процессами в исходных почвах, так и с дополнительным оглеением в условиях избыточного увлажнения в депрессиях, образовавшейся на месте вытаявших ПЖЛ. При этом в обрамлении ПЖЛ на мерзлом контакте осаждались дающие бурую пигментацию соединения гидроксидов железа, мобилизованного в восстановительной среде тела псевдоморфоз. Это подтверждается микроморфологическими наблюдениями: в шлифах каймы псевдоморфозы выявлено, что на микроуровне железистая пропитка неоднородна и зоны сплошной цементации чередуются с участками песчаных частиц с минимумом железистого вещества (рис. 5d). В массе педоседимента рассеяны микрофрагменты сильноразложившихся или углефицированных растительных тканей (рис. 5с). Вместе с дисперсным гумусом они обеспечили требуемое для ¹⁴C-датирования количество органического вещества.
Рис. 5. Разрез Пюлькы и микроморфология ожелезненной каймы педоседимента терминальной фазы МИС-2. Фото из архива В.С. Шейнкмана и С.Н. Седова. a – часть разреза с псевдоморфозой по полигонально-жильному льду, b – общий вид разреза, c –микрофрагменты растительных тканей; без анализатора, d – неравномерная железистая пропитка (участки с красной пигментацией); николи + в сочетании с отраженным светом.
В оглеенной минеральной массе заполнения псевдоморфоз по ПЖЛ встречаются небольшие темноокрашенные гумусированные зоны (морфоны); из них взяты образцы для радиоуглеродного датирования. Поскольку эти морфоны относятся к фрагментам органо-минеральных горизонтов почв, существовавших рядом с ПЖЛ на момент их оттаивания, получаемые ¹⁴C-датировки, согласно [23], практически дают время окончания формирования палеопочв (т. е. минимальный возраст), близкое к началу вытаивания ПЖЛ и заполнения псевдоморфозы.
По гумусированным морфонам вложенного клина и по хвостовым частям главной жилы (рис. 5a) получены ¹⁴C-AMS даты 10–11 тыс. л. н., и несколько больше 13 тыс. л. н. – по морфону в западине у самого края, слева главной жилы. Они показывают приуроченность дат к границе плейстоцен–голоцен, хотя и фиксируют некоторые перерывы в накоплении промерзавших осадков. При этом характерно, что и криогидроморфные палеопочвы, и ПЖЛ – это фактор преобразования вмещающей их, сформированной ранее аллювиальной толщи, которая накапливалась, судя по полученным ¹⁴C-датировкам детрита (рис. 5b) в каргинское время, МИС-3. Следовательно, рассматриваемая толща является каргинской, но ее верхние слои переработаны и трансформированы сартанскими и более поздними мерзлотными и почвенными процессами.
Спорово-пыльцевой спектр по материалу гумусированных морфонов показал преобладание тундровых видов со значительным присутствием болотных растений и минимальным количеством древесной пыльцы [40]. Эти результаты полностью согласуются с палеопедологическими данными.
Современная поверхностная почва, лежащая вверху данной толщи, контрастно отличается от криогидроморфных палеопочв: в данном случае она представлена подбуром, составляющим один ряд альфегумусовых почв с подзолами. В ее профиле под лесной подстилкой лежит мощный иллювиально-железистый горизонт без признаков оглеения, локально между подстилкой и иллювиальным горизонтом прослеживается тонкий прерывистый белесый элювиальный горизонт. Педогенез этого подбура обусловлен вертикальной миграцией органо-железистого вещества, формируемого органическими кислотами, поступающими из подстилки. В отличие от подзолов эта миграция проявилась меньше. В итоге элювиальный горизонт у подбура развит слабее, а под подстилкой непосредственно лежит иллювиальный горизонт: и подбур, и подзол, отражают развитие на матрице уже талых, хорошо дренированных породах [20].
Обсуждение результатов. Проведенные исследования позволили выявить в аллювиальных отложениях рассматриваемой территории, палеопочвенные уровни, относящиеся к трем хроноинтервалам позднего плейстоцена: казанцевскому (МИС-5), каргинскому (МИС-3) и позднесартанскому (терминальная фаза МИС-2). В глобальном плане эти уровни характеризуются как периоды относительного потепления климата.
Казанцевский палеопочвенный уровень представляет собой полигенетическое и полициклическое образование. С одной стороны, он включает в себя два индивидуальных, составляющих педокомплекс, палеопочвенных субпрофиля. С другой стороны, в нижнем, более мощном субпрофиле отслеживаются признаки педогенетических процессов, относящихся к различным фазам почвообразования, что делает этот субпрофиль полигенетическим. В нем фиксируются хорошо выраженные признаки сильного оглеения и накопления слаборазложившегося органического вещества в его верхнем оторфованном горизонте, что указывает на застойное переувлажнение. Учитывая геоморфологическую позицию разреза – высокая, хорошо дренированная терраса, а также состав подстилающих отложений – пески с высокой водопроницаемостью – можно предположить, что наиболее вероятной причиной застоя влаги в профиле было наличие в его основании водоупора из многолетнемерзлых пород. Следовательно, на данном этапе речь идет о мерзлотном, скорее всего, тундровом почвообразовании.
В то же время микроморфологические исследования в этом субпрофиле выявили признаки иллювиирования глины, что требует свободного внутреннего дренажа в почвах преимущественно влажных лесных экосистем. Можно сделать вывод о смене фазы лесного почвообразования, с формированием почв типа Лювисоли, криогидроморфным этапом, приведшем к образованию оглеенных Криосолей. Этот второй этап начался уже на завершающих этапах образования нижнего субпрофиля, приведя к оглеению, а также к деформации и транслокации глинистых натеков, и продолжился в верхнем субпрофиле. Наличие ранней фазы лесного почвообразования подтверждается и палеоботаническими данными, показавшими обилие древесной пыльцы таежных видов в гумусово-глеевом горизонте нижнего субпрофиля.
Какова хронологическая приуроченность этих фаз педогенеза и ассоциируемых с ними изменений природной среды? Полученная U/Th-датировка из торфянистого горизонта нижнего субпрофиля казанцевской палеопочвы соответствует границе между подстадиями МИС-5с и МИС-5d. Этот мощный и сложный педокомплекс формировался на протяжении значительного временного интервала. Можно предположить, что фиксируемая ранняя, таежно-лесная, фаза приходится на самую теплую подстадию МИС-5e. Тогда как последующий этап, связанный с активным промерзанием горных пород, соответствует более холодным подстадиям МИС-5d…МИС-5а, переходящим в последующую холодную стадию МИС-4. Такого рода интерпретация хорошо согласуется с палеоэкологической периодизацией для данного интервала, основанной на Байкальской озерной летописи – которую можно считать базовой для истории природной среды Сибири [47].
Формирование педокомплекса МИС-5 в разрезе Белая Гора завершается его деформацией под воздействием криогенеза, включая сечение ПЖЛ средних размеров. Развитие таких льдов логично связать с активизацией криогенеза в сменившую МИС-5 длительную и холодную МИС-4, соответствующую стадиальному зырянскому криохрону, поскольку формирование ПЖЛ отмеченного размера требует в условиях региона времени в не одну тысячу лет при снижении температуры отложений данного типа до –3…–5°C.
С началом потепления климата в терминальную фазу стадиального криохрона МИС-4 сформированные в нем ПЖЛ стали вытаивать, на их месте образовались псевдоморфозы по этому льду, но окружающие их толщи оставались мерзлыми – с отрицательной температурой, выше необходимой для сохранения ПЖЛ. В заполнении псевдоморфоз участвовали педоседименты почвы МИС-5 и материал с прилегающего основания сезонно-талого слоя. Затем в течение стадиального термохрона МИС-3 весь данный комплекс был погребен под аллювиальными отложениями в условиях сохранения, по крайней мере, высокотемпературной мерзлоты, о чем свидетельствуют слои с криотурбациями и изначально-грунтовыми жилами, встречающимися по всей толще каргинских отложений (рис. 5b).
Порой эти отложения включали линзы валунов средних размеров (рис. 2c) и гальки. На наш взгляд, данный каменный материал, в основном представленный обломками основных пород со Среднесибирского плоскогорья [24, 39, 43], переносился во время крупных речных паводков оторвавшимися льдинами припая на реках – через невысокий водораздел на левобережье Енисея. Это логично: даже сегодня, в теплую эпоху современного термохрона, уже на створе Подкаменной Тунгуски, напротив Сибирских Увалов, подъем воды в ледоход в Енисее порой достигает 30 м, а лед имеет к концу зимы толщину более 1 м, что обеспечивает перенос и крупных многотонных обломков пород. У р. Игарки подъемы воды в ледоход нередко превышают 20 м [8]. В криохроны позднего плейстоцена лед был толще. Судя по поднятию тектоникой каргинских отложений на высоту до 30 м, отмеченный водораздел был в то время существенно ниже – преодолевать его в ледоходы тогда отдельным потокам, с переносом льдин с примороженными к ним обломками горных пород, было не трудно.
Палеопочвы МИС-3 имеют более простую организацию, хотя комплекс их свойств также неоднозначен. Сильное оглеение в сочетании с признаками мерзлотных процессов в содержащих их слоях: с изначально-грунтовыми жилами, криотурбациями, сортировкой песчаных зерен, криогенным оструктуриванием и т. д. – указывает на криогидроморфное почвообразование. Как и в случае с поздними фазами педогенеза в МИС-5, формировалась палеопочва МИС-3 в условиях еще существовавшей криолитозоны при температурах выше значений, благоприятных для развития ПЖЛ. На условия холодного континентального климата с ограниченным увлажнением указывает и присутствие новообразованных карбонатов, и преобладание в составе гумуса данной почвы фракций гуминовых и фульвокислот, связанных с кальцием – свидетельство слабого выщелачивания. Палинологические данные подтверждают эту версию, демонстрируя тундрово-степной тип древнего растительного покрова.
Рис. 6. Сводная педостратиграфическая схема для севера Западной Сибири и ее сопоставление с морской изотопной палеоклиматической летописью. Педогенные горизонты и признаки: 1 – элювиальный горизонт голоценового подзола; 2 – иллювиальнный горизонт голоценового подзола; 3 – глеевые минеральные горизонты криогидроморфны палеопочв; 4 – гумусово-глеевые горизонты криогидроморфных палеопочв; 5 – ожелезненная кайма псевдоморфоз по полигонально-жильному льду; 6 – глинистые натеки. Осадочные слои: I – МИС-3 … МИС-2: позднекаргинские аллювиальные осадки (и вложенные в них сартанские осадки) с псевдоморфозами по полигонально-жильному льду, образованными в конце МИС-2 и, локально, с признаками эоловой переработки; II – МИС-3: позднекаргинские аллювиальные отложения с линзами гальки и валунов; III – раннекаргинские аллювиальные отложения с линзами гальки и валунов; IV – МИС-4: зырянские (ермаковские) песчаные и суглинистые аллювиальные осадки с псевдоморфозами по полигонально-жильному льду, образованными в терминальную фазу МИС-4; V – МИС-6: Тазовские и более древние косослоистые песчаные аллювиальные отложения. Палеопочвенные уровни: a – МИС-5 казанцевский уровень, рассеченный псевдоморфозами по полигонально-жильному льду, образованными в конце МИС-4; b – МИС-3 каргинский уровень; c – позднесартанский уровень, рассеченный псевдоморфозами по полигонально-жильному льду, образованными в терминальную фазу МИС-2, Тазовско-Надымский почвенно-криогенный горизонт.
Явный криогидроморфный характер проявляется и у палеопочв, формировавшихся в терминальную фазу криохрона МИС-2. Их лучшая выраженность в виде заполняющих псевдоморфозы по ПЖЛ педоседиментов связана с особенностями изменений в это время климата. Тогда наметилось его потепление, завершившее самый холодный криохрон плейстоцена – сартанский. Оно стало сопровождаться таянием ПЖЛ, развитых во время максимума сартанского похолодания, однако многолетняя мерзлота и в этом случае еще сохранялась. Образовавшиеся на месте ПЖЛ полости заполнялись материалом глеевых криогидроморфных почв и породами с междужильного пространства. Вытаивание ПЖЛ сопровождалось формированием тундрово-болотных экосистем, что отражено в спорово-пыльцевом спектре образцов из морфонов псевдоморфоз.
Следует отметить, что данная интерпретация имеющихся материалов вступает в противоречие с гипотезой “позднеледниковой пустыни” Западной Сибири – она была выдвинута в работах [6, 50], которые основывали свою версию в основном на результатах морфоскопического исследования песчаных зерен из отложений, залегающих в регионе под голоценовыми торфяниками. Причина для такого вывода – эти зерна демонстрировали своей формой участие в их проработке эоловых процессов. Не отрицая участия таких процессов в континентальных условиях региона, считаем, что наличие таких черт недостаточно для доказательства холодного пустынного ландшафта. Морфоскопические исследования обнаружили следы обработки песчинок процессами как флювиального, так и эолового характера [44], т. е. речь может идти о локальном ветровом переносе материала и образовании геосистем типа якутских тукуланов – типичного явления в днищах долин крупных сибирских рек области криолитозоны [7].
Результаты изучения разновозрастных разрезов позволили создать схематическую сводную колонку позднеплейстоценовых отложений рассматриваемого региона, коррелировать ее с морской изотопной шкалой (рис. 6) и поставить вопрос о сопоставлении полученных данных со стратиграфическими колонками сопредельных территорий и выходе на создание почвенно-мерзлотной палеолетописи севера Западной Сибири, поскольку основные выделенные палеопочвенные уровни имеют свои корреляты. Для педокомплекса МИС-5 – это Бердский педокомплекс в стратиграфической колонке лёссов-почвенных толщ Западной Сибири [16] и мезинский педокомплекс в стратиграфии лёссовой формации Восточно-Европейской равнины [49].
Важно отметить, что, как и в рассматриваемом случае, в мезинском педокомплексе выделяются две контрастно различающихся стадии педогенеза: ранняя, соответствующая самой теплой стадии МИС-5е, и поздняя, приходящаяся на последующие, более холодные подстадии МИС-5. Если сравнивать признаки этих стадий, то оказывается, что ранние этапы (МИС-5е) и на севере Западной Сибири и в центре Русской равнины имеют черты сходства: в обоих случаях было отмечено иллювиирование глины, характерное для лесного педогенеза. Поздние стадии (середина–конец МИС-5) резко различаются. Если в западно-сибирском педокомплексе им соответствует криогидроморфное почвообразование в мерзлотных тундровых экосистемах, то в мезинском педокомплексе Русской равнины эта фаза представлена темногумусовыми горизонтами, формировавшимися в условиях холодной лесостепи.
Аналогами изученных палеопочв МИС-3 являются, соответственно, искитимский педокомплекс на юге Сибири и брянская палеопочва в европейской части России. Оба уровня, хотя и имеют признаки окислительно-восстановительных процессов, не были подвержены сильному надмерзлотному оглеению, как описанные разности. Однако сходные глеевые криогидроморфные палеопочвы, сформировавшиеся в МИС-3, известны и на Русской равнине – это наиболее северные варианты Брянской почвы, описанные в бассейне Верхней Волги. Соотнесение этих вариантов с синхронными палеопочвами севера Западной Сибири и далее – с восточно-сибирскими аналогами, погребенными в толще Ледового комплекса, привело к заключению о существовании в МИС-3 обширной зоны криогидроморфных почв на севере Евразии [39].
Интересная ситуация с выделенным тазовско-надымским почвенно-криогенным горизонтом терминальной, завершающей стадии МИС-2 [40]. Ему в южно-сибирской схеме соответствует Суминская палеопочва, а его аналоги в восточно-европейской стратиграфии – совокупность разных уровней: трубчевской палеопочвы с владимирским и ярославским криогенными горизонтами с крупными псевдоморфозами по ПЖЛ [5]. Полагаем, что выделенный горизонт будет важен в качестве педостратиграфической единицы сартанского, МИС-2, времени для севера Западной Сибири. Кроме того, реально формирование подобного горизонта и в терминальную фазу предыдущего стадиального криохрона МИС-4. Пока имеются только единичные свидетельства о его существовании, в будущем планируем вернуться к этому вопросу.
Сопоставляя результаты своих исследований с данными по сопредельным регионам Евразии, считаем, что именно МИС-2 стала временем максимального расширения ареала криогидроморфных глеевых почв. В это время погребенные почвенные уровни с такими характеристиками фиксируются во многих лёссово-почвенных разрезах перигляциальной гиперзоны центральной и западной Европы (в немецкой литературе тундроглеи). В целом можно говорить о том, что находки палеопочв с данными характеристиками являются важным косвенным индикатором, который можно использовать наряду с прямыми (эвидентными) признаками мерзлотных процессов для реконструкции криогенных систем прошлого [26].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Следует отметить, что роль знаний о плейстоценовых палеопочвах весьма значительна. Это касается как фактов по выявлению основных этапов развития природы, так и для правильной интерпретации современного почвенного покрова. Важно, что взаимодействие в прошлом процессов криогенеза и педогенеза способствует хорошей выраженности почвенно-криогенных горизонтов, выявление которых помогает детализировать ход палеопочвенных и палеокриологических явлений. В частности, выделенный для севера Западной Сибири, в ходе проведенных работ, тазовско-надымский почвенно-криогенный горизонт, характеризующий терминальную, завершающую стадию МИС-2 [40], стал не только информативным индикатором событий рассмотренного региона, но и фактором объективного сопоставления данных с другими регионами.
Особенно подобные аспекты касаются рассматриваемого региона, где палеопочвы и педоседименты конца МИС-2 встречаются на высоких речных террасах, и почти всегда обнаруживаются непосредственно под современными подзолами и подбурами. С одной стороны, соседство реликтов позднеплейстоценовых криогидроморфных и голоценовых альфегумусовых почв свидетельствует о резкой смене ландшафтных систем в конце плейстоцена – начале голоцена. С другой стороны, сильнооглеенные палеопочвенные горизонты примыкают снизу к иллювиально-железистым горизонтам альфегумусовых подзолов, т. е. возможна ошибочная интерпретация их как признаков современного оглеения в средней и нижней части профилей подзолов. В последнее время реликтовые плейстоценовые феномены: гумусированные морфоны, глеевые горизонты, признаки криогенной сортировки и оструктуривания – выявлены и в суглинистых поверхностных почвах изучаемого региона – стагносолях (светлоземах) [38]. Считаем, что для корректной педогенетической интерпретации отмеченных почвенных профилей необходим полный морфологический анализ разрезов и диагностика связанных с палеопочвой МИС-2 древних криогенных признаков. Надеемся, что результаты проведенных исследований помогут в решении такого рода задач.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную признательность всем коллегам, специалистам в разных областях наук о Земле, которые участвовали в исследованиях на разных этапах и внесли ценный вклад в изучение представленных материалов. Особую признательность выражаем Анастасии Кургаевой, оказавшей большую помощь в техническом оформлении и подготовке материалов.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа выполнена при финансовой поддержке по госзаданиям № 121041600042-7 и 121042000078-9 Тюменского научного центра СО РАН.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
About the authors
S. N. Sedov
Institute of Geology, National Autonomous University of Mexico; Institute of the Cryosphere of the Earth, Tyumen Scientific Center SB RAS
Author for correspondence.
Email: serg_sedov@yahoo.com
ORCID iD: 0000-0002-7396-3735
Russian Federation, Mexico City, 04510 Mexico; Tyumen, 625026
V. S. Sheinkman
Institute of the Cryosphere of the Earth, Tyumen Scientific Center SB RAS
Email: serg_sedov@yahoo.com
Russian Federation, Tyumen, 625026 Russia
References
- Архипов С.А. Главные геологические события позднего плейстоцена (Западная Сибирь) // Геология и геофизика. 2000. Т. 41. № 6. С. 792–799.
- Архипов С.А., Волкова В.С. Геологическая история, ландшафты и климаты плейстоцена Западной Сибири // Тр. НИЦ ОИГГМ СО РАН. Вып. 823. Новосибирск: 1994. 105 с.
- Атлас Ямало-Ненецкого автономного округа / Гл. ред. Ларин С.И. Омск, 2004. 303 с.
- Васильевская В.Д., Иванов В.В., Богатырев Л.Г. Почвы севера Западной Сибири. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1986. 286 с.
- Величко А.А., Морозова Т.Д., Нечаев В.П., Порожнякова О.М. Палеокриогенез, почвенный покров и земледелие. М.: Наука, 1996. 147 с.
- Величко А.А., Тимирева С.Н., Кременецкий К.В. и др. Западно-Сибирская равнина в облике позднеледниковой пустыни // Известия РАН. Сер. геогр. 2007. № 4. С. 16–28.
- Галанин А.А. Позднечетвертичные песчаные покровы Центральной Якутии (Восточная Сибирь): строение, фациальный состав и палеоэкологическое значение // Криосфера Земли. 2021. Т. XXV. № 1. С. 3–34.
- Григорьев Н.Ф. Мерзлотно-гидрогеологические особенности района г. Игарки. Якутск: ИМЗ СО РАН, 1992. 56 с.
- Горячкин С.В., Мергелов Н.С., Таргульян В.О. Генезис и география почв экстремальных условий: элементы теории и методические подходы // Почвоведение. 2019. № 1. С. 5–19.
- Гросвальд М.Г. Оледенение Русского Севера и Северо-Востока в эпоху последнего великого похолодания // Материалы гляциологических исследований. Хроника обсуждения. 2009. № 106. 152 с.
- Деев М.Г. Морские льды. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002. 133 с.
- Дергачева М.И. Археологическое почвоведение. Новосибирск: Наука СО РАН, 1997. 228 с.
- Единый государственный реестр почвенных ресурсов России. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2014. 768 с.
- Земцов А.А. Геоморфология Западно-Сибирской равнины (северная и центральная часть). Томск. Изд-во Томск. гос. ун-та, 1976, 344 с.
- Зубов Н.Н. Льды Арктики. М.: Изд-во Главсевморпути, 1945. 360 с.
- Зыкина В.С., Зыкин В.С. Лёссово-почвенная последовательность и эволюция природной среды и климата Западной Сибири в плейстоцене. Новосибирск: Гео, 2012. 477 с.
- Караваева Н.А. Почвы тайги Западной Сибири. М: Наука, 1973. 172 с.
- Сакс В.Н. Четвертичный период Советской Арктике. Л. – М.: Водтрансиздат, 1953. 626 с.
- Стратиграфический словарь мезозойских и кайнозойских отложений Западно-Сибирской низменности / Под ред. Ростовцева Н.Н.. Л: Недра, 1978. 183 с.
- Таргульян В.О. Почвообразование и выветривание в холодных гумидных областях. М.: Наука, 1971. 270 с.
- Тонконогов В.Д. Автоморфное почвообразование в тундровой и таежной зонах Восточно-Европейской и Западно-Сибирской равнин. М.: Почв. ин-т им. В.В. Докучаева, 2011. 304 с.
- Хренов В.Я. Почвы криолитозоны Западной Сибири. Морфология, физико-химические свойства, геохимия. Новосибирск: Наука, 2011, 211 с.
- Чичагова О.А. Развитие представлений И.П. Герасимова об абсолютном и относительном возрасте почв по данным радиоуглеродного датирования // Почвоведение. 2005. № 12. С. 1436–1445.
- Шейнкман В.С., Плюснин В.М. Оледенение севера Западной Сибири: спорные вопросы и пути их решения // Лед и снег. 2015. № 1(128). С. 103–120.
- Шейнкман В.С., Мельников В.П., Седов С.Н., Парначев В.П. Новые свидетельства внеледникового развития севера Западной Сибири в квартере // Доклады АН. 2017. Т. 477. № 4. С. 480–484.
- Шейнкман В.С., Мельников В.П. Эволюция представлений о холоде и возможные пути их развития в науках о Земле // Криосфера Земли. 2019. Т. XXIII. № 5. С. 3–16.
- Шейнкман В.С., Мельников В.П., Парначев В.П. Анализ криогенных и тектонических процессов на севере Западной Сибири в плейстоцене с позиций криогетеротопии // Доклады РАН. Науки о Земле. 2020. Т. 494. № 1. С. 82–86.
- Шейнкман В.С., Седов С.Н., Русаков А.В., Мельников В.П. Криотрасологическая индикация палеопочв // Криосфера Земли. 2019. Т. XXIII. № 1. С. 51–62.
- Bronger A., Winter R., Sedov S. Weathering and clay mineral formation in two Holocenc soils and in buried paleosols in Tadjikistan: Towards a Quaternary paleo-climatic record in Central Asia // Catena. 1998. № 34. P. 19–34.
- Bronger A., Smolíková L. Quaternary loess-paleosol sequences in East and Central Asia in comparison with Central Europe – micromorphological and paleoclimatological conclusions // Boletín de La Sociedad Geológica Mexicana. 2019. № 71(1). P. 65–92.
- Dodonov A.E., Sadchikova T.A., Sedov S.N., Simakova A.N., Zhou L.P. Multidisciplinary approach for paleoenvironmental reconstruction in loess-paleosol studies of the Darai Kalon section, Southern Tajikistan // Quater. Int. 2006. V. 152/153. P. 48–58.
- Grosswald M.G., Hughes T. The Russian component of an Arctic Ice Sheet during the LGM // Quater. Science Reviews. 2002. V. 21(1). P. 121–146.
- Kukla G., An Z. Loess stratigraphy in central China // Paleogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 1989. V. 72. P. 203–225.
- Lisiecki L.E., Raymo M.E. A Pliocene-Pleistocene Stack of 57 Globally Distributed Benthic δ18O Records // Paleoceanography. 2005. V. 20. P. PA 1003.
- Marković S.B., Stevens T., Kukla G.J., Hambach U., Fitzsimmons K.E., Gibbard P., Buggle B. et al. Danube loess stratigraphy – towards a pan European loess stratigraphic model // Earth-Science Rev. 2015. V. 148. P. 228–258.
- Möller P., Benediktsson Í.Ö., Anjara J., Ole Bennike O., Bernhardson M., Funder S., Håkansson L.M., et al. Glacial history and paleoenvironmental change of southern Taimyr Peninsula, Arctic Russia, during the Middle and Late Pleistocene // Earth Science Rev. 2019. V. 196. P. 409–428.
- Olsen L. Pleistocene paleosols in Norway: implications of past climate and glacial erosion. // Catena. 1998. V. 34. P. 75–103.
- Pogosyan L., Sedov S., Yurtaev A., Rusakov A., Lessovaia S.N., Sheinkman V., Pechkin A.S. Polygenesis of loamy soils in North-West Siberia in the context of environmental history of the Eurasian Artic region during the Late Quaternary // Quater. Int. 2022. V. 630. P. 110–120.
- Sedov S., Rusakov A., Sheinkman V., Korkka M. MIS3 paleosols in the center-north of Eastern Europe and Western Siberia: Reductomorphic pedogenesis conditioned by permafrost? // Catena. 2016. V. 146. P. 38–47.
- Sedov S., Sheinkman V., Bezrukova E., Zazovskaya E., Yurtaev A. Sartanian (MIS 2) ice wedge pseudomorphs with hydromorphic pedosediments in the north of West Siberia as an indicator for paleoenvironmental reconstruction and stratigraphic correlation // Quater. Int.2022. V. 632. P. 192–205.
- Sheinkman V. Quaternary glaciation in North-Western Siberia – New evidence and interpretation // Quater. Int.2016. V. 420. P. 15–23.
- Sheinkman V., Sedov S., Shumilovskikh L., Korkina E., Korkin S., Zinovyev E., Golyeva A. First results from the Late Pleistocene paleosols in northern Western Siberia: Implications for pedogenesis and landscape evolution at the end of MIS3 // Quater. Int. 2016. V. 418. P. 132–146.
- Sheinkman V., Sedov S., Shumilovskikh L., Bezrukova E., Dobrynin D., Timireva S., Rusakov A., Maksimov F. A multiproxy record of sedimentation, pedogenesis, and environmental history in the north of West Siberia during the late Pleistocene based on the Belaya Gora section // Quater. Res. 2021. V. 99. P. 204–222.
- Sheinkman V., Sharapov D., Sedov S. Northwest Siberia as a MIS 2 desert? Inferences from quartz morphoscopy and polygonal ice wedges // Quater. Int. 2022. V. 620. P. 46–47.
- Smolikova L. Polygenese der fossilen Lossboden der Tschechoslowakei im Lichte mikromorphologischer. Untersuchungen // Geoderma. 1967. № 1. P. 315–324.
- Svendsen J.I., Krüger L.C., Mangerud J. et al. Glacial and vegetation history of the Polar Ural Mountains in northern Russia during the Last Ice Age, Marine Isotope Stages 5–2 // Quater. Sci. Rev. 2014. V. 92. P. 409–428.
- Tarasov P., Bezrukova E., Karabanov E., Nakagaw T., Wagner M., Kulagin N., Letunova P., Abzaeva A., Granoszewski W., Riedel F. Vegetation and climate dynamics during the Holocene and Eemian interglacials derived from Lake Baikal pollen records // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2007. V. 252. P. 440–457.
- Zinovyev E.V., Borodin A.V., Kotov A.A., Korkin S. Palaeoenvironment of MIS5 in the North of Western Siberia, reconstructed on the sub-fossil insect, crustacean and plant macrofossil data // Quater. Int. 2019. V. 534. P. 171–182.
- Velichko A.A. Loess–paleosol formation on the Russian Plain // Quater. Int. 1990. V. 7/8. Р. 103–114.
- Velichko A.A., Timireva S.N., Kremenetski K.V., MacDonald G.M., Smith L.C. West Siberian Plain as a Late Glacial Desert // Quater. Int. 2011. V. 237. P. 45–53.
Supplementary files