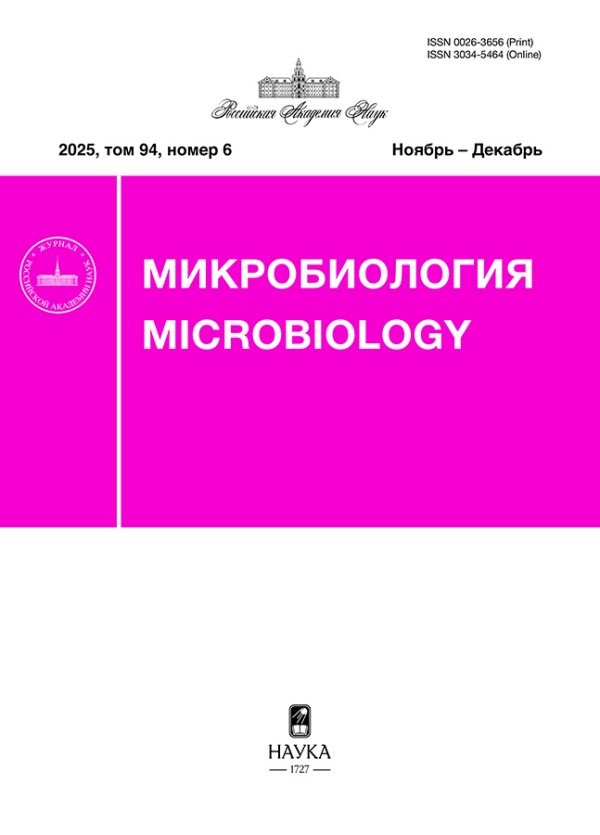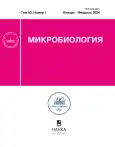Isolation, Identification and Survival Strategy of Dietzia maris MX2 Halotolerant Strain from the Yakshinskoe Mineral Salts Deposit
- Authors: Kharitonova M.A.1, Kupriyanova-Ashina F.G.1, Shakirov T.R.2, Vafina M.S.2, Ilinskaya O.N.1
-
Affiliations:
- Kazan (Volga region) Federal University
- JSC “Central Research Institute of Geology of Non-Metallic Mineral Resources”
- Issue: Vol 93, No 1 (2024)
- Pages: 25-35
- Section: EXPERIMENTAL ARTICLES
- URL: https://bakhtiniada.ru/0026-3656/article/view/257704
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0026365624010032
- ID: 257704
Cite item
Full Text
Abstract
Halophilic and halotolerant microorganisms have a high biotechnological potential. They are producers of biologically active substances, stress-protective agents, hydrolytic enzymes, and are used for environmental bioremediation. At the same time, the characterization of novel halotolerant bacteria and the disclosure of their salt tolerance strategy are topical fundamental problems. In the present work, a new strain MX2 was isolated from the salt well brine of the Yakshinskoe potassium-magnesium salt deposit. The isolate is represented by aerobic gram-positive non-motile bacteria that do not produce spores. The cell morphology varies from cocci to short rods that are capable of producing V-shaped forms. Colonies on the surface of agar nutrient medium were circular with an entire edge and raised center, glistening and orange. Bacteria of strain MX2 are halotolerant microorganisms capable of growing at NaCl concentrations up to 9%. Strain MX2 was sequenced. Its size was estimated at 3747717 b. p., the number of protein-coding genes — 3562. Strain MX2 was identified as belonging to the species Dietzia maris based on analysis of 16S rRNA, gyrB, rpoB, recA, ppk gene sequences and using time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF-MS). D. maris MX2 has complete metabolic pathways for the synthesis of ectoine, hydroxyectoine, and trehalose, as well as transport systems for ectoine, hydroxyectoine, trehalose, glycerol, glycerol-3-phosphate, L-proline, and glycine-betaine. Thus, to ensure the osmotic balance, D. maris MX2 uses the strategy of accumulating compatible organic solutes.
Keywords
Full Text
В микробных сообществах, адаптированных к жизни при высоких концентрациях солей, представлены все три домена жизни — археи, бактерии и эукариоты (Oren, 2016). Галофильные и галотолерантные бактерии обладают различными типами метаболизма и принадлежат к разным филогенетическим ветвям. В их числе аэробные гетеротрофные и аноксигенные фототрофные гаммапротеобактерии, сульфатредуцирующие анаэробные дельтапротеобактерии и различные представители типов Cyanobacteria, Firmicutes, Actinobacteria, Bacteroidetes, Spirochaetes (Ventosa et al., 1998).
При всем разнообразии механизмов противостояния низкой водной активности соляных сред существует две основные стратегии обеспечения осмотического баланса между цитоплазмой клеток и средой обитания: (1) “много соли внутри (high salt-in)” — стратегия соленакопления при которой в цитоплазме облигатных галофилов поддерживаются высокие концентрации KCl, а весь внутриклеточный аппарат адаптирован для функционирования в присутствии высоких концентраций солей; (2) “мало соли внутри (low salt-in)” — стратегия накопления растворимых органических веществ, так называемых совместимых растворов (compatible solutes). Накопление осуществляется в результате процессов активного транспорта молекул из внешней среды, а также синтеза de novo (Oren, 2016). Такие растворенные вещества представляют собой незаряженные или цвиттерионные молекулы, которые не влияют на процессы метаболизма. Существует множество совместимых растворенных веществ, среди которых аминокислоты, сахара, полиолы и их производные, а также азотсодержащие соединения (Hagemann et al., 2016). Преобладающими совместимыми растворами умеренных галофилов являются такие производные аминокислот как эктоин и глицин-бетаин (Waditee-Sirisattha et al., 2016). Вторая стратегия способна обеспечить высокую адаптивность микроорганизмов к изменениям солености среды, поскольку изменения внутриклеточных концентраций совместимых растворенных веществ не оказывают отрицательного воздействия на активность внутриклеточных ферментов (Gunde-Cimerman et al., 2018).
Среды обитания галофильных и галотолерантных бактерий многочисленны, к ним относятся моря, океаны, соляные озера, солончаки (Oren et al., 2016). Гиперсалиновые среды обитания формируются и в результате антропогенных воздействий, таких как промышленные разработки месторождений калийно-магниевых и натриевых солей. Еще в середине ХХ века при изучении примесей, обусловливающих красную окраску минералов Верхнекамского месторождения, Н. К. Чудинов обнаружил в рассоле структуры в виде нерастворимых хлопьев, не выпадающих в осадок. Микроскопический анализ показал наличие подвижных структур разнообразной формы, которые Н. К. Чудинов назвал “палеоорганизмами” (Литовский, 2008). Породами палеозоя представлен и осадочный чехол Верхне-Печорского бассейна (Вишняков и соавт., 2018). Исследования нижнепермской соляной толщи южной части Якшинского месторождения Верхне-Печорского калиеносного бассейна свидетельствуют о наличии органической составляющей, которая, помимо флюидных включений жидких углеводородов, представлена бактериями, водорослями, спорами и пыльцой растений (Шанина и соавт., 2018). Зоны засоления, образующиеся при промышленной добыче и переработке солей, являются местообитанием галофильных и галотолерантных бактерий (Плотникова и соавт., 2001; Корсакова и соавт., 2013; Ястребова и соавт., 2020; Пьянкова и соавт., 2022).
Характеристика новых галофильных и галотолерантных бактерий и установление стратегий осмоадаптации являются актуальными фундаментальными задачами. Кроме того, галотолерантные микроорганизмы находят широкое практическое применение. Они используются для биоремедиации окружающей среды и как продуценты биологически активных веществ, стрессозащитных средств, гидролитических ферментов. Способность к росту в присутствии повышенных концентраций солей позволяет снизить риск микробной контаминации и обуславливает значительную экономию за счет снижения требований к стерильности условий культивирования (Waditee-Sirisattha et al., 2016).
Целью настоящей работы являлось выявление аэробных культивируемых галотолерантных бактерий в скважинном рассоле Якшинского месторождения минеральных солей, определение их таксономического статуса и стратегии выживания.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Физико-химический анализ пробы. Отбор образца рассола из скважины № 31 (6144ʹ16ʺ с. ш., 5636ʹ42ʺ в. д.) Якшинского месторождения произведен после вымывания водорастворимых солей из породы, представленной пластами карналлита (KMgCl3 ∙ 6H2O) и галита (NaCl) на глубине 412.6–416.0 м. В качестве растворителя использовалась вода из гидрогеологической скважины № 30Г/1 (6144ʹ15.5ʺ с. ш., 5636ʹ31.0ʺ в. д.). Образец был предоставлен в. н. с. ФГУП “ЦНИИгеолнеруд” А. К. Вишняковым. Измерение содержания элементов в пробе проводили с использованием титриметрического и гравиметрического анализа, а также атомно-эмиссионной спектроскопии (оптический эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой Optima 4300 DV (“Perkin Elmer”, США). Спектры образцов снимали на инфракрасном Фурье-спектрометре Tensor 27 (“Bruker”, Германия) при скорости сканирования 10 кГц и разрешении 4 см‒1. Исследования выполнены методом спектроскопии нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО или ATR, аttenuated total reflection). Изображения проб, получали с помощью растрового электронного микроскопа “РЭМ-100У” (Россия) в режиме съемки: Uуск = 30 кВ. Контрастирование производили путем напыления углерода.
Выделение и культивирование микроорганизмов. Выделение микроорганизмов проводили посредством прямого посева образцов скважинного рассола на чашки Петри с агаризованной минеральной солевой средой (МСС) (Nesterenko et al., 1982) с добавлением 0.5% глюкозы и 3% NaCl. Колонии пересевали на среду ГРМ (ТУ 9398–001–78095326–2006). Фиксированные препараты микроорганизмов, окрашенные по Граму, изучали с помощью оптического микроскопа Axiovert 200M (“Carl Zeiss”, Германия). На среде МСС бактерии выращивали при температуре 28 в течение 72 ч на лабораторных качалках с интенсивностью качания 200 об./мин. Контроль роста культуры осуществляли нефелометрически на КФК-2 при длине волны 590 нм. За единицу биомассы принимали поглощение в 1 см кювете, равное 1. Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакета программ Excel, рассчитывая среднеквадратичное отклонение (σ). Результаты считали достоверными при σ ≤ 10%. При расчете достоверности получаемых разностей использовали критерий Стьюдента, принимая Р ≤ 0.05 за достоверный уровень значимости.
MALDI-TOF/MS анализ. Одну колонию суточной культуры микроорганизмов наносили на ячейку слайда, затем наслаивали 1 мкл раствора матрицы (альфа-циано-4-гидроксикоричная кислота) и подсушивали на воздухе в течение 5 мин. Масс-спектрометрический анализ осуществляли с помощью времяпролетного MALDI масс-спектрометра VITEK MS (“BioMerieux”, Франция). Для записи, обработки и анализа масс-спектров использовали программное обеспечение MYLA (“BioMerieux”, Франция).
Определение последовательности гена 16S рРНК. ДНК выделяли с использованием набора FastDNA Spin Kit For Soil (“MP Biomedicals”, США) в соответствии с рекомендациями производителя. ПЦР проводили с использованием пары 16S рДНК-специфичных праймеров 27F и 1492R и набора реактивов BigDyеTerminator v3.1 CycleSequencingKit. Детекция продуктов секвенирования проводилась в автоматическом режиме методом капиллярного электрофореза на генетическом анализаторе ABI Prism 3730 Genetic Analyzer (“Applied Biosystems”, США) на базе Междисциплинарного центра коллективного пользования Казанского федерального университета.
Полногеномное секвенирование (WGS) осуществляли на платформе Illumina MiSeq (“Illumina”, США) на базе Междисциплинарного центра коллективного пользования Казанского федерального университета с использованием наборов NEBNext Ultra II DNA Library Prep Kit for Illumina и MiSeq Reagent Kits v3 (600-Cycle Kit). Сборка генома проводилась с использованием алгоритма SPAdes 3.15.5.
Биоинформационный анализ. Поиск гомологичных последовательностей проводили с использованием баз данных NCBI (htpp://www.ncbi.nlm.nih.gov) и EzBioCloud (http://www.ezbiocloud.net). Филогенетический анализ был проведен с помощью программы MEGA 6 (“MEGA software group”, США). Для построения деревьев использовали метод максимального правдоподобия (maximum likelihood, ML) с бутстреп-анализом 500 повторов (Tamura et al., 2013). Множественные выравнивания были выполнены с использованием ClustalW. Нуклеотидные последовательности генов 16S рРНК, генов домашнего хозяйства, а также генов ферментов, участвующих в синтезе и транспорте осмолитов, были получены из базы данных GenBank (NCBI). Сведения о метаболических путях синтеза осмолитов были получены с использованием баз данных Киотской энциклопедии генов и геномов KEGG (Kanehisa, 2000). Сравнение нуклеотидных и аминокислотных последовательностей проводили с помощью пакета программ BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov). Сравнительный анализ полногеномных последовательностей проводили путем расчета средней идентичности нуклеотидных последовательностей (average nucleotide identity, ANI) (Rodriguez and Konstantinidis, 2016).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Характеристика образцов скважинного рассола. Содержание H2O в пробе составило 874.65 г на 1 кг рассола. Преобладающими ионами являлись ионы натрия и хлора. NaCl присутствовал в доле 73.83% и отражал основную составляющую породы — галит (табл. 1).
Таблица 1. Количественный химический анализ скважинного рассола и пересчет на солевой и минеральный составы (содержание H2O в пробе: 874.65 г/кг рассола)
Ионный состав, % | |||||||
K+ | Na+ | Mg2+ | Ca2+ | Cl– | SO42– | ||
6.34 | 28.13 | 2.83 | 1.23 | 58.79 | 2.68 | ||
Солевой состав, % | |||||||
KCl | NaCl | MgCl2 | CaSO4 | ||||
12.08 | 73.83 | 11.08 | 3.79 | ||||
Минеральный состав, % | |||||||
KCl (сильвин) | NaCl (галит) | КMgCl3∙6H2O (карналлит) | CaSO4 (ангидрит) | ||||
3.41 | 73.83 | 19.76 | 3.79 | ||||
Доля карналлита (КMgCl3 ∙ 6H2O) в растворе — 19.76%. Содержание MgCl2 и KCl было примерно одинаково (11.08 и 12.08% соответственно), CaSO4 содержался в меньших количествах (3.79%). Методом растровой электронной микроскопии были получены изображения пробы скважинного рассола (рис. 1).
Рис. 1. Изображения пробы скважинного рассола, полученные методом растровой электронной микроскопии при 50-кратном (а) и 200-кратном увеличении (б). Длина масштабных меток: 1 мм (а), 200 мкм (б)
Образцы представлены частицами неправильной, изломанной формы размером менее 40 мкм, часть их имеет нерезкие оплывшие грани, что характерно для карналлита. Дифференциальным фильтрованием через фильтры Шотта были получены фракции пробы скважинного рассола, которые исследовались методом инфракрасной спектроскопии (табл. 2, рис. 2).
Таблица 2. Характеристика фракций проб скважинного рассола, полученных дифференциальным фильтрованием через фильтры Шотта
Фракция | Описание пробы | Полосы поглощения, см‒1 |
1 | Исходная проба, содержащая блестки и хлопья | 3384, 1637, 1439, 999, 905, 795, 631 |
2 | Блестки и хлопья, выделенные фильтрацией (S00, 250‒500) | 3377, 3242, 1635, 1005, 798, 628 |
3 | Отмытые блестки и хлопья (S0, 160‒250) | 3395, 1638, 1439, 992, 797 778, 746, 695, 643 |
4 | Отмытые хлопья (S1, 100‒160) | 3110, 1639, 1450, 1001, 906, 795, 631 |
5 | Отмытые блестки (S2, 40‒100) | 3355, 2922, 1460, 992, 191ДП, 645 |
6 | Раскристаллизованный раствор фильтрации (S3, 16‒40) | 3377, 3243, 1634, 1113, 1006 |
Примечание. В скобках указаны класс и пористость фильтров Шотта в мкм.
Рис. 2. ИК-спектры фракций пробы скважинного рассола, полученных дифференциальным фильтрованием через фильтры Шотта
Во всех фракциях в области 3650‒3000 см‒1 наблюдали полосы валентных колебаний ОН-, NН- и СН-групп. Разделение полос поглощения в области 3650‒3000 см‒1 и наличие полосы поглощения при ~1635 см‒1 свидетельствуют о наличии NН-связей в образцах 1, 2 и 3. Полосу поглощения при 905 см‒1 можно отнести к деформационным колебаниям СН-связей. Минералогическая составляющая образцов проявляется в области 1200–600 см‒1. Полосы при 797 и 778 см‒1 указывают на большое содержание калиевого полевого шпата и кварца во фракциях 3 и 5. Сравнение ИК-спектров всех фракций показало, что органические вещества присутствуют в исходной пробе 1, а также во фракциях 2 и 6. Отмывка приводила к очищению от органической части.
Выявление и идентификация галотолерантных микроорганизмов в скважинном рассоле. Прямое микроскопирование фиксированных препаратов образцов скважинного рассола показало наличие в нем объектов в форме кокков и эллипсов (коротких палочек), окрашивающихся по Граму в синий цвет (рис. 3а).
Рис. 3. Выявление микроорганизмов в скважинном рассоле: прямое микроскопирование фиксированного препарата образца скважинного рассола (а); микроскопирование D. maris МХ2 (б); колонии D. maris МХ2 на агаризованной среде ГРМ (в). Длина масштабной метки 5 мкм
Через 48 ч после посева образцов на солевом агаре появлялись бактериальные колонии трех типов. Преобладали мелкие светло-оранжевые гладкие колонии (8.7×103 КОЕ/мл), в 4 раза меньше было полупрозрачных колоний молочного цвета (2.1×103 КОЕ/мл), в незначительном количестве присутствовали матовые колонии с неровным краем (0.7×102 КОЕ/мл). Для дальнейшего исследования были выбраны микроорганизмы, присутствующие в пробе в наибольшем количестве. Их пересев на среду ГРМ приводил к росту выпуклых, блестящих, ярко-оранжевого цвета колоний с ровными краями и приподнятым центром, диаметр которых достигал 3–4 мм на 10 сут культивирования (рис. 3в). Оборотная сторона колоний, прилегающая к субстрату, окрашена неравномерно: центр имеет оранжево-желтую окраску, периферия яркого оранжевого цвета. По прошествии двух недель цвет колоний становился кораллово-красным. Микроскопия окрашенных по Граму фиксированных препаратов показала, что колонии состоят из грамположительных не споровых кокковых и эллипсовидных клеток, образующих V-образные формы (рис. 3б). Для определения интервала галотолерантности штамм МХ2 выращивали в среде МСС с добавлением NaCl в диапазоне концентраций от 1 до 10% (рис. 4).
Рис. 4. Влияние различных концентраций NaCl на рост D. maris МХ2. К — культивирование в минеральной солевой среде MCC, содержащей 0.1% NaCl
Установлено, что оптимальными являются концентрации NaCl до 3%; вместе с тем, штамм МХ2 способен к росту в присутствии 4–9% NaCl. Увеличение концентрации соли выше оптимальной приводило к снижению интенсивности роста в 2–8 раз. Поскольку в образцах скважинного рассола ионы натрия и хлора преобладали, а концентрация NaCl составила 9.2%, можно предположить, что штамм МХ2 способен к жизнедеятельности в гиперосмотических условиях, создающихся в рассоле в результате вымывания солей из породы.
В результате MALDI-TOF-MS анализа было установлено, что исследуемый микроорганизм является представителем актинобактерий — Dietzia maris с показателем достоверности идентичности белковых профилей 99.9. Была проведена молекулярно-генетическая идентификация штамма МХ2 посредством анализа нуклеотидной последовательности гена 16S pРНК. Последовательность гена 16S рРНК была депонирована в базе данных GenBank NCBI под регистрационным номером ON527787, ее длина составила 1332 нуклеотида. Анализ сходства с последовательностями, депонированными в GenBank, показал, что исследуемый штамм принадлежит к роду Dietzia. Наиболее близкими видами являются D. maris и D. kunjamensis. Было выявлено 22 штамма D. maris нуклеотидная идентичность с генами 16S рРНК которых составила 99.85–100.00% (MT632637, MK254648, MN134494, MG547917, MK318606, KU601225, OP218699, MW599789, KJ939458, OK299010, KF923451, KF740541, MZ292942, MZ149266, MW965720, MW624378, JF798365, GQ870425, NR_116685, NR_037025, NR_118596, MN134494, X79291). Идентичность с геном 16S рРНК типового штамма D. maris DSM 43672–99.92%. Также высокий уровень сходства генов 16S рРНК (99.77–100%) показали шесть штаммов D. kunjamensis (D. kunjamensis WD821, D. kunjamensis 313, D. kunjamensis NC162, D. kunjamensis D143, D. kunjamensis ssp. Schimae DSM 45139, D. kunjamensis DSM 44907). Идентичность с генами 16S рРНК типовых штаммов D. kunjamensis DSM 44907–99.85%, D. kunjamensis ssp. schimae DSM 45139–99.77%.
К настоящему времени последовательности геномов D. kunjamensis получены в виде контигов (RAQB01, JAALDS01, JAALDR01, FXTG01) и скаффолдов (JAPWIF01, JASIRP01), расшифровка генома штамма D. kunjamensis 313 полностью завершена (GCA_024125715). Референсным является геном штамма D. kunjamensis ssp. schimae DSM 45139 (FXTG01). Геномы D. maris не расшифрованы полностью, 6 геномов представлены набором контигов: (JALXXM01, QNTT01, JAALDN01, JALXXI01, CANNAK01, CANNAO01), у двух геномов контиги упорядочены в скаффолды (LMTF01, JAPWIO01). Опубликованный геном типового штамма D. maris DSM 43672 по данным GenBank (от 05.09.2023 г.) контаминирован (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/datasets/genome/GCF_001630765.1/). Ранее референсным считался геном штамма D. maris p3-SID1051 (JALXXI01). В 2023 году референсным был назначен геном штамма D. maris IEGM 44 (JAPWIO01), выделенный из загрязненных нефтью почв.
Было проведено секвенирование генома штамма МХ2, который был депонирован в Genbank под номером доступа JAUHTB01. Геном представлен 111 контигами, его размер составил 3747717 п. о., содержание пар Г + Ц — 70.18%, число белок-кодирующих генов — 3562. Были выявлены полные нуклеотидные последовательности гена 16S pРНК, генов домашнего хозяйства (“housekeeping”) gyrB (β-субъединицы ДНК-гиразы), rpoB (β-субъединицы РНК-полимеразы), recA (рекомбиназы A), ppk (полифосфаткиназы), а также ген alkB (алкан-монооксигеназа). Наличие гена alkB, кодирующего ключевой ферментом деградации н-алканов (van Beilen et al., 2007), может свидетельствовать о том, что штамм MX2 наряду с другими представителями рода Dietzia (Gharibzahedi et al., 2014) способен разлагать алифатические углеводороды. Нуклеотидная идентичность полных генов 16S rRNA (1523 п. о.) штамма МХ2 и типовых штаммов D. maris DSM 43672 и D. kunjamensis DSM 44907 одинакова и составила 99.93%. Идентичность с генами 16S rRNA штаммов D. maris IEGM 44 и D. kunjamensis ssp. schimae DSM 45139 составила 100%. Существует вероятность того, что результаты MALDI-TOF-MS анализа могут быть ошибочны (Lorente-Leal et al., 2022) в связи с высоким сходством между видами и/или отсутствием спектров D. kunjamensis в базе данных. Поскольку возможности идентификации на основе последовательности генов 16S rRNA у близкородственных видов бывают ограничены (Cohan, 2001), для уточнения филогенетического положения были использованы гены “домашнего хозяйства”, эволюционирующие сравнительно медленно, но быстрее, чем гены 16S рРНК. Наиболее высокой идентичностью обладали гены домашнего хозяйства штамма D. maris IEGM 44 (gyrB — 98.58%, rpoB — 99.77%, recA — 99.19%, ppk — 99.76%). Нуклеотидная идентичность c генами домашнего хозяйства D. kunjamensis ssp. schimae DSM 45139, D. kunjamensis DSM 44907 и D. kunjamensis 313 была на 0.2–2.76% ниже. Идентичность с последовательностями генов домашнего хозяйства других видов Dietzia была ниже 92%. Кроме того, ген alkB штамма D. maris IEGM 44 обладал наибольшей идентичностью (99.19%) с геном, принадлежащим штамму MX2. Был проведен сравнительный анализ полногеномных последовательностей штамма MX2, D. maris IEGM 44, D. maris p3-SID1051, D. kunjamensis ssp. schimae DSM 45139, D. kunjamensis 313, основанный на расчете средней идентичности нуклеотидных последовательностей (ANI). Наиболее высокий показатель ANI (98.49 и 97.27%) был установлен для штаммов вида D. maris (табл. 3).
Таблица 3. Попарное сравнение значений ANI (в %) геномов штаммов MX2, D. maris IEGM 44, D. maris p3-SID1051, D. kunjamensis DSM 44907, D. kunjamensis ssp. Schimae DSM 45139, D. kunjamensis 313
D. kunjamensis 313 | D. kunjamensis ssp. Schimae DSM 45139 | D. kunjamensis DSM 44907 | D. maris IEGM 44 | D. maris p3-SID1051 | MX2 | |
D. kunjamensis 313 | 100.00 | 96.82 | 97.93 | 97.13 | 97.17 | 97.12 |
D. kunjamensis ssp. Schimae DSM 45139 | 96.82 | 100.00 | 96.77 | 96.57 | 96.63 | 96.56 |
D. kunjamensis DSM 44907 | 97.93 | 96.77 | 100.00 | 96.77 | 96.85 | 96.92 |
D. maris IEGM 44 | 97.13 | 96.57 | 96.77 | 100.00 | 97.20 | 98.49 |
D. maris p3-SID1051 | 97.17 | 96.63 | 96.85 | 97.20 | 100.00 | 97.27 |
MX2 | 97.12 | 96.56 | 96.92 | 98.49 | 97.27 | 100.00 |
Таким образом, штамм МХ2 был идентифицирован, как принадлежащий к виду Dietzia maris. Дерево, показывающее филогенетическое положение штамма Dietzia maris МХ2, на основе анализа последовательностей гена gyrB представителей рода Dietzia, а также других актинобактерий (Rhodococcus jostii RHA1, Nocardiopsis dassonvillei DSM 43111, Brevibacterium linens BS258) представлено на рис. 5a.
Рис. 5. Неукорененные филогенетические деревья, построенные методом максимального правдоподобия по результатам сравнительного анализа: (а) нуклеотидных последовательностей генов gyrB и (б) аминокислотных последовательностей L-эктоинсинтазы штаммов D. maris MX2, D. maris IEGM 44, D. maris p3-SID1051, D. kunjamensis ssp. schimae DSM 45139T, D. kunjamensis DSM 44907T, D. kunjamensis 313, D. lutea YIM 80766T, D. psychralcaliphila ILA-1T, Dietzia sp. oral taxon 368, Dietzia sp. JS16-p6b, D. timorensis ID05-A0528T, Rhodococcus jostii RHA1, Nocardiopsis dassonvillei DSM 43111T, Brevibacterium linens BS258. Цифрами указана статистическая значимость порядка ветвления (в %), определенная с помощью бутстреп-анализа 500 альтернативных деревьев. Масштабная метка — 0.05 замен на одну нуклеотидную позицию
Результаты исследования влияния различных концентраций NaCl на рост штамма МХ2 согласуются с данными литературы (Koerner et al., 2009; Пьянкова и соавт., 2022), свидетельствующими о способности D. maris к росту при концентрации NaCl в среде культивирования до 7%, что позволяет считать данные бактерии галотолерантными микроорганизмами. Присутствие штамма D. maris МХ2 в образце рассола может быть связано как с выделением непосредственно из соляной толщи в процессе подземного растворения, так и с наличием данных бактерий в растворителе. Ранее было показано, что бактерии рода Dietzia отсутствуют в растворителе, но при этом в рассоле скважины № 31 они были выявлены (Пьянкова и соавт., 2022). Таким образом, вероятным источником D. maris МХ2 является соляная толща. Отсутствие органической составляющей в отмытых фракциях (нерастворимые компоненты: хлопья и блестки) свидетельствует о том, что бактерии могут быть обнаружены только в растворимой части породы.
Стратегия выживания D. maris MX2 в гиперосмотических условиях. Род Dietzia был предложен Rainey в 1995 г. как моноспецифический таксон для микроорганизма, ранее классифицированного как Rhodococcus maris (Nesterenko et al., 1982; Rainey et al., 1995). На момент написания статьи род Dietzia включал 14 культивируемых достоверно охарактеризованных видов, входящих в семейство Dietziaceae и образующих отдельную кладу на филогенетическом дереве семейства Corynebacteriaceae. Представители Dietzia встречаются в широком спектре водных и наземных местообитаний. Они были выделены из щелочных подземных вод, соленых озер, почвы, нефтяных месторождений, образцов, взятых у пациентов с острыми инфекциями и c поверхности растений (Koerner et al., 2009). Разнообразие сред обитания, во многих из которых создаются стрессовые для бактериальной клетки условия, свидетельствует о наличии механизмов адаптации. Так, в клеточных стенках актинобактерий рода Dietzia, принадлежащего к надродовому таксону Mycolata, содержатся миколовые кислоты, играющие важную роль в сопротивляемости к обезвоживанию, химическим воздействиям и антибактериальным препаратам (Goodfellow, Maldonado, 2006).
Способность штамма МХ2 к существованию в средах обитания с широким диапазоном концентраций солей, позволяет предположить, что данная актинобактерия для обеспечения осмотического гомеостаза использует вторую стратегию выживания в гиперосмотических условиях. Для представителей актинобактерий Actinopolyspora halophila и Nocardiopsis sp. известно, что доминирующими совместимыми веществами являются эктоин и бетаин, наименее значимы гидроксиэктоин и трегалоза (Gunde-Cimerman et al., 2018). Актинобактерии порядка Micrococcales (Brevibacterium epidermidis, Kocuria varians, Nesterenkonia halobia) и порядка Streptomycetales (S. coelicolor, S. griseolus) также накапливают эктоин, бетаин, гидроксиэктоин и трегалозу (Pastor et al., 2010). Rhodococcus jostii RHA1, принадлежащий, как и виды рода Dietzia к порядку Corynebacteriales, в условиях стресса индуцирует пути биосинтеза эктоина (LeBlanc et al., 2008). R. jostii PD630 продуцирует три осмолита — трегалозу, эктоин и гидроксиэктоин (Alvarez, 2004). Вероятно, D. maris МХ2, как и другие галотолерантные актинобактерии, для адаптации к гиперосмотическим условиям накапливает подобные осмолиты.
Анализ полных последовательностей геномов представителей рода Dietzia (D. lutea YIM 80766, D. psychralcaliphila ILA-1, D. timorensis ID05-A0528, D. kunjamensis 313, Dietzia sp. JS16-p6b, Dietzia sp. oral taxon 368 W5195) с использованием баз данных KEGG pathway показал наличие в них метаболических путей биосинтеза и деградации эктоина. Эктоин синтезируется из L-аспартат-4-полуальдегида в цепи реакций, которые осуществляет диамино-бутират-2-оксоглутарат транс-аминаза [EC:2.6.1.76], L-2,4-диамино-бутират ацетил-трансфераза [EC:2.3.1.178] и L-эктоин-синтаза [EC:4.2.1.108]. Данные ферменты у различных грамотрицательных и грамположительных бактерий кодируются эволюционно консервативным кластером генов, ectABC (Bursy et al., 2007). Субстрат для синтеза эктоина, L-аспартат-4-полуальдегид, образуется из аспартата при помощи аспартаткиназы [EC: 2.7.2.4] и аспартат-полуальдегид-дегидрогеназы [EC: 1.2.1.11]. Под воздействием эктоингидроксилазы (EctD) [EC:1.14.11.55] осуществляется гидроксилирование эктоина с образованием гидроксиэктоина. Для установления возможности использования эктоина в качестве инструмента второй стратегии борьбы с осмотическим стрессом, в геноме D. maris МХ2 был произведен поиск генов, кодирующих ферменты метаболических путей синтеза эктоина. Выявленные последовательности идентичны гомологичным генам D. maris IEGM 44 на 97.68–99.53% и D. maris p3-SID1051 на 97.15–98.83%. Также высокой идентичностью обладают гены D. kunjamensis ssp. schimae DSM 45139 (96.30–99.06%) D. kunjamensis DSM 44907 (96.41–99.53%) и D. kunjamensis 313 (96.41–99.77%). Гены штаммов D. maris МХ2 и D. maris IEGM 44, кодирующие L-эктоин-гидроксилазу, идентичны на 100%, гомологичные гены D. maris p3-SID1051, D. kunjamensis ssp. schimae DSM 45139 и D. kunjamensis 313 идентичны на 96.30–96.76%. Идентичность гомологичных генов представителей других видов рода Dietzia существенно ниже (74.71–94.10%). На филогенетическом дереве, построенном на основании выравнивания аминокислотных последовательностей L-эктоинсинтаз, D. maris МХ2 располагается в общей кладе с представителями D. kunjamensis и D. maris. Данная клада, в свою очередь, находится в кладе, объединяющей другие виды рода Dietzia (рис. 5б). Подобное расположение соответствует топологии филогенетического дерева, сформированного на основании последовательностей генов gyrB видов рода Dietzia и других представителей актинобактерий (рис. 5а). Это может свидетельствовать о том, что гены L-эктоинсинтазы рода Dietzia являются гомологами, возникшими от предкового гена в процессе видообразования.
Сопротивляемость солевому стрессу с помощью эктоина осуществляется галотолерантными бактериями не только путем синтеза, но и за счет его поглощения из окружающей среды. Ранее было показано, что в геномах представителей рода Dietzia, выделенных из водной среды, наиболее распространены гены, кодирующие АТФ-связывающие транспортные белки суперсемейства ABC (Fang et al., 2020). В геноме штамма D. maris МХ2 обнаружены гены, для которых на основании гомологии транслированных аминокислотных последовательностей установлено, что они кодируют субъединицы ABC-транспортера эктоина/гидроксиэктоина (АТФ-связывающий белок EhuA, субстрат-связывающий белок EhuB, гомологичные пермеазы EhuC и EhuD). Таким образом, штамм D. maris МХ2 способен как поглощать эктоин из внешней среды, так и синтезировать его de novo. Помимо генов ABC-транспортеров эктоина, в геноме Dietzia sp. МХ2 были обнаружены и другие осмопротекторные транспортеры. Это АВС-транспортер глицерина и глицерин-3-фосфата (гены ugpA, ugpB, ugpC), АВС-транспортер L-пролина и глицин-бетаина (гены proX и proP), а также транспортер глицин-бетаина пермеаза OpuD.
Важную роль в защите бактерий в условиях водного и гиперосмотического стресса играет такое осмопротекторное соединение как трегалоза, углевод из группы невосстанавливающих дисахаридов. Наиболее распространенным является путь синтеза трегалозы из UDP-глюкозы и глюкозо-6-фосфата при участии трегалозо-6-фосфат синтазы и трегалозо-6-фосфат фосфатазы. Трегалозо-6-фосфат синтаза (OtsA, EC2.4.1.15) была выделена у актинобактерии Rhodococcus opacus (Tischler et al., 2013). Установлено, что в геномах D. lutea YIM 80766, D. psychralcaliphila ILA-1, Dietzia sp. oral taxon 368, D. timorensis ID05-A0528, присутствуют гены, транслированные аминокислотные последовательности которых на 65.73–66.67% идентичны трегалозо-6-фосфат синтазе R. opacus. В геноме D. maris MX2 также были обнаружены гены, кодирующие ферменты, ответственные за синтез трегалозы из UDP-глюкозы и глюкозо-6-фосфата. При этом наибольшей идентичностью с ними (99.38–100.00%) обладали гены D. maris IEGM 44. Кроме того, с использованием баз данных KEGG pathway у представителей рода Dietzia обнаружен другой метаболический путь синтеза трегалозы, в котором происходит превращение олиго/полимальтодекстринов/гликогена в трегалозу в двустадийной реакции с помощью мальтоолигозилтрегалозо синтазы (TreY, EC:5.4.99.15) и мальтоолигозилтрегалозо трегалогидролазы (TreZ, EC:3.2.1.141). Установлено, что последовательности, кодирующие оба фермента, присутствуют в геноме D. maris MX2 и показывают высокое сходство с гомологичными последовательностями D. maris IEGM 44 (98.69% (treY) и 97.92% (treZ)) и D. maris p3-SID1051 (98.90% (treY) и 93.24% (treZ)).
В результате анализа генома штамма D. maris MX2 на наличие систем транспорта трегалозы, были обнаружены последовательности генов, кодирующих белки-переносчики трегалозы — пермеазы SugA и SugB. Гомологичные пермеазы являются компонентами транспортера трегалозы у актинобактерии Mycobacterium tuberculosis. Поскольку у млекопитающих трегалоза отсутствует, данный транспортер необходим M. tuberculosis для ретроградного транспорта трегалозы как побочного продукта биосинтеза миколовых кислот клеточной оболочки (Kalscheuer et al., 2010). Соответственно, пермеазы SugA и SugB штамма D. maris MX2 с большой вероятностью осуществляют не только транспорт трегалозы из окружающей среды, но и обеспечивают рециркуляцию трегалозы, освобождающейся при формировании клеточной стенки.
Таким образом, из Якшинского месторождения минеральных солей был выделен новый штамм D. maris МХ2, который является галотолерантным и адаптируется к высоким концентрациям солей в среде обитания посредством второй стратегии обеспечения осмотического баланса путем регулирования процессов синтеза и/или транспорта таких осмопротекторов как эктоин, гидроксиэктоин, трегалоза, глицерин, глицерин-3-фосфат, L-пролин и глицин-бетаин.
БЛАГОДАРНОСТИ
Авторы выражают признательность за возможность использования ресурсов, предоставляемых Междисциплинарным центром коллективного пользования Казанского (Приволжского) федерального университета.
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАБОТЫ
Работа выполнена в рамках Программы стратегического академического лидерства КФУ (Приоритет 2030) и поддержана грантом РНФ № 22–24–00036.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ СТАНДАРТОВ
Настоящая статья не содержит результатов исследований с использованием животных в качестве объектов.
КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
About the authors
M. A. Kharitonova
Kazan (Volga region) Federal University
Author for correspondence.
Email: Maya_Kharitonova@mail.ru
Russian Federation, Kazan
F. G. Kupriyanova-Ashina
Kazan (Volga region) Federal University
Email: Maya_Kharitonova@mail.ru
Russian Federation, Kazan
T. R. Shakirov
JSC “Central Research Institute of Geology of Non-Metallic Mineral Resources”
Email: Maya_Kharitonova@mail.ru
Russian Federation, Kazan
M. S. Vafina
JSC “Central Research Institute of Geology of Non-Metallic Mineral Resources”
Email: Maya_Kharitonova@mail.ru
Russian Federation, Kazan
O. N. Ilinskaya
Kazan (Volga region) Federal University
Email: Maya_Kharitonova@mail.ru
Russian Federation, Kazan
References
- Вишняков А. К., Вафина М. С., Игнатович О. О. Строение и условия формирования калийных солей западной части Верхнепечорского соленосного бассейна // Отечественная геология. 2018. № 2. С. 70–78.
- Vishnyakov A. K., Vafina M. S., Ignatovich O. O. Structure and formation conditions of potash salts, western part of verkhnepechorsky salt-bearing basin // Otechestvennaya geologiya (National Geology). 2018. № 2. P. 70–78. (In Russian).
- Корсакова Е. С., Ананьина Л. Н., Назаров А. В., Бачурин Б. А., Плотникова Е. Г. Разнообразие бактерий семейства Halomonadaceae района разработок Верхнекамского месторождения солей // Микробиология. 2013. Т. 82. С. 247–250.
- Korsakova E. S., Anan’ina L.N., Nazarov A. V., Bachurin B. A., Plotnikova E. G. Diversity of bacteria of the family Halomonadaceae at the mining area of the Verkhnekamsk salt deposit // Microbiology (Moscow). 2013. V. 82. P. 249–252.
- Литовский В. В. Мировые минеральные ресурсы: калийные соли Прикамья и фундаментальные проблемы геобиогенеза. Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. ун-та путей сообщения, 2008. 162 с.
- Litovskiy V. V. World mineral resources: potassium salts of the Prikamye and fundamental problems of geobiogenesis. Yekaterinburg: Publishing house of the Ural State University of Railway Transport, 2008. 162 p. (In Russian).
- Плотникова Е. Г., Алтынцева О. В., Демаков В. А., Кошелева И. А., Пунтус И. Ф., Филонов А. Е., Гавриш Е. Ю., Боронин А. М. Бактериальные деструкторы полициклических ароматических углеводородов, выделенных из засоленных почв и донных отложений в районах добычи соли // Микробиология. 2001. T. 70. C. 61–69.
- Plotnikova E. G., Altyntseva O. V., Demakov V. A., Kosheleva I. A., Puntus I. F., Filonov A. E., Gavrish E. Yu., Boronin A. M. Bacterial degraders of poly cyclic aromatic hydrocarbons isolated from salt-contaminated soils and bottom sediments in salt mining areas // Microbiology (Moscow). 2001. V. 70. P. 51–58.
- Пьянкова А. А., Плотникова Е. Г., Шанина С. Н. Бактериальное сообщество рассолов, извлекаемых при подземном растворении калийно-магниевых солей Якшинского месторождения (Республика Коми) // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Естеств. науки. 2022. Т. 164. кн. 3. С. 457–474.
- Pyankova A. A., Plotnikova E. G., Shanina S. N. Bacterial community of the brines extracted during the underground dissolution of potassium-magnesium salts of the Yakshinskoe deposit (Komi Republic, Russia) // Uchenye Zapiski Kazanskogo Universiteta. Seriya Estestvennye Nauki. 2022. V. 164. № 3. P. 457–474. (In Russian)
- Шанина С. Н., Галамай А. Р., Игнатович О. О., Бурдельная Н. С., Валяева О. В. Органическое вещество соляной толщи южной части Якшинского месторождения калийно-магниевых солей // Геохимия. 2018. T. 56. № 7. С. 693–708.
- Shanina S. N., Burdelnaya N. S., Valyaeva O. V., Galamay A. R., Ignatovich O. O. Organic matter of the salt sequence in the southern part of the Yakshinskoe potassium–magnesium salt deposit // Geochem. Int. 2018. V. 56. С. 719–734.
- Ястребова О. В., Плотникова Е. Г. Филогенетическое разнообразие бактерий семейства Micrococcaceae, выделенных из биотопов с различным антропогенным воздействием // Вестн. Пермского ун-та. Сер. Биология. 2020. Вып. 4. С. 321–333.
- Yastrebova O. V., Plotnikova E. G. Phylogenetic diversity of bacteria of the Micrococcaceae family, isolated from biotopes with different anthropogenic impacts // Bulletin of the Perm University. Series Biology. 2020. Iss. 4. P. 321–333. (In Russian).
- Alvarez H. M., Silva R. A., Cesari A. C., Zamit A. L., Peressutti S. R., Reichelt R., Keller U., Malkus U., Rasch C., Maskow T., Mayer F., Steinbüchel A. Physiological and morphological responses of the soil bacterium Rhodococcus opacus strain PD630 to water stress // FEMS Microbiol. Ecol. 2004. V. 50. P. 75–86.
- Bursy J., Pierik A. J., Pica N., Bremer E. Osmotically induced synthesis of the compatible solute hydroxyectoine is mediated by an evolutionarily conserved ectoine hydroxylase // J. Biol. Chem. 2007. V. 282. P. 31147–31155.
- Cohan F. M. Bacterial species and speciation // Syst. Biol. 2001. V. 50. P. 513‒524.
- Fang H., Xu J. B., Nie Y., Wu X. L. Pan-genomic analysis reveals that the evolution of Dietzia species depends on their living habitats // Environ. Microbiol. 2021. V. 23. P. 861–877.
- Gharibzahedi S. M.T., Razavi S. H., Mousavi M. Potential applications and emerging trends of species of the genus Dietzia: a review // Ann. Microbiol. 2014. V. 64. P. 421–429.
- Goodfellow M., Maldonado L. A. The Families Dietziaceae, Gordoniaceae, Nocardiaceae and Tsukamurellaceae // The Prokaryotes / Eds. Dworkin M., Falkow S., Rosenberg E., Schleifer KH., Stackebrandt E. N.Y.: Springer, 2006. P. 843–889.
- Gunde-Cimerman N., Plemenitaš A., Oren A. Strategies of adaptation of microorganisms of the three domains of life to high salt concentrations // FEMS Microbiol. Rev. 2018. V. 42. P. 353–375.
- Hagemann M. Coping with high and variable salinity: molecular aspects of compatible solute accumulation // The physiology of microalgae. Developments in applied phycology / Eds. Borowitzka M., Beardall J., Raven J. Cham: Springer, 2016. V. 6. P. 359–372.
- Kalscheuer R., Weinrick B., Veeraraghavan U., Besra G. S., Jacobs W. R. Jr. Trehalose-recycling ABC transporter LpqY-SugA-SugB-SugC is essential for virulence of Mycobacterium tuberculosis // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2010. V. 107. P. 21761–21766.
- Kanehisa M., Goto S. KEGG: Kyoto encyclopedia of genes and genomes // Nucl. Acids Res. 2000. V. 28. P. 27–30.
- LeBlanc J.C., Gonçalves E. R., Mohn W. W. Global response to desiccation stress in the soil actinomycete Rhodococcus jostii RHA1 // Appl. Environ. Microbiol. 2008. V. 74. P. 2627–2636.
- Lorente-Leal V., Liandris E. Bezos J., Pérez-Sancho M., Romero B., de Juan L. MALDI-TOF mass spectrometry as a rapid screening alternative for non-tuberculous mycobacterial species identification in the veterinary laboratory // Front. Vet. Sci. 2022. V. 9. P. 827702.
- Nesterenko O. A., Nogina T. M., Kasumova S. A., Kvasnikov E. I., Batrakov S. G. Rhodococcus luteus nom. nov. and Rhodococcus maris nom. nov. // Int. J. Syst. Bacteriol. 1982. V. 32. P. 1‒14.
- Oren A. Life in Hypersaline Environments // Their world: A diversity of microbial environments. Advances in Environmental Microbiology / Eds. Hurst C. Cham: Springer, 2016. V. 1. P. 301–339.
- Pastor J. M., Salvador M., Argandoña M., Bernal V., Reina-Bueno M., Csonka L. N., Iborra J. L., Vargas C., Nieto J. J., Cánovas M. Ectoines in cell stress protection: uses and biotechnological production // Biotechnol. Adv. 2010. V. 8. P. 782.
- Rainey S., Klatte S., Kroppenstedt R. M. Dietzia, a newgenus including Dietzia maris comb. nov., formerly Rhodococcus maris // Int. J. Syst. Bacteriol. 1995. V. 45. P. 32–36.
- Rodriguez-R L.M., Konstantinidis K. T. The enveomics collection: a toolbox for specialized analyses of microbial genomes and metagenomes // PeerJ Preprints. 2016. V. 4. e1900v1.
- Tamura K., Stecher G., Peterson D., Filipski A., Kumar S. MEGA6: molecular evolutionary genetics analysis version 6.0 // Mol. Biol. Evol. 2013. V. 30. P. 2725–2729.
- Tischler D., Niescher S., Kaschabek S. R., Schlömann M. Trehalose phosphate synthases OtsA1 and OtsA2 of Rhodococcus opacus 1CP // FEMS Microbiol. Lett. 2013. V. 342. P. 113–122.
- van Beilen J. B., Funhoff E. G. Alkane hydroxylases involved in microbial alkane degradation // Appl. Microbiol. Biotechnol. 2007. V. 74. P. 13‒21.
- Ventosa A., Nieto J. J., Oren A. Biology of moderately halophilic aerobic bacteria // Microbiol. Mol. Biol. Rev. 1998. V. 62. P. 504–544.
- Waditee-Sirisattha R., Kageyama H., Takabe T. Halophilic microorganism resources and their applications in industrial and environmental biotechnology // AIMS Microbiol. 2016. V. 2. P. 42–54.
Supplementary files