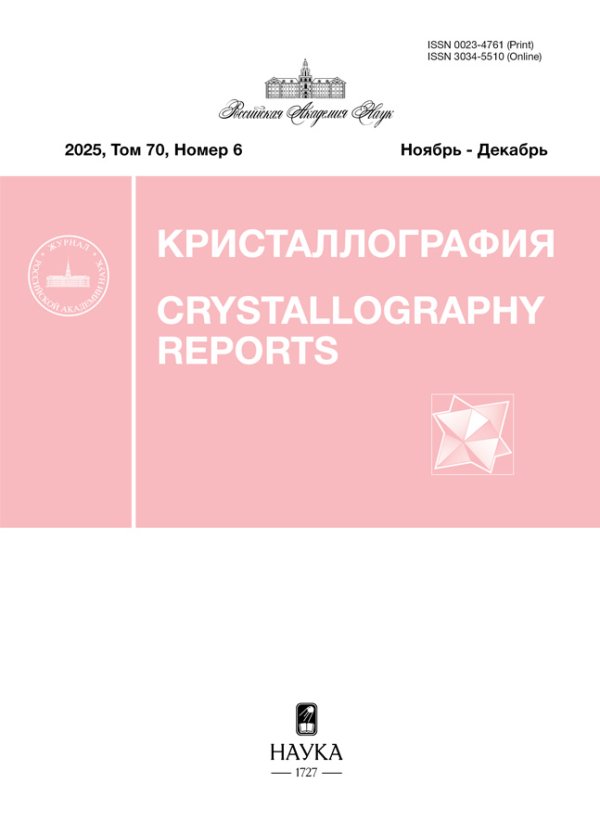Люминесценция оксидных пленок, полученных молекулярным наслаиванием
- Authors: Барабан А.П.1, Дмитриев В.А.1, Дрозд А.В.1, Петров Ю.В.1, Петров Ю.В.1, Габис И.Е.1, Селиванов А.А.1
-
Affiliations:
- Санкт-Петербургский государственный университет
- Issue: Vol 69, No 1 (2024)
- Pages: 111-118
- Section: ПОВЕРХНОСТЬ, ТОНКИЕ ПЛЕНКИ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0023-4761/article/view/255431
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0023476124010163
- EDN: https://elibrary.ru/sjjrpn
- ID: 255431
Cite item
Full Text
Abstract
Показаны возможности метода люминесценции при исследовании структур Si–оксид и Si–SiO2–оксид. Предложена модель электронного строения слоев Ta2O5 и TiO2, позволяющая объяснить вид спектрального распределения люминесценции независимо от способа ее возбуждения. Сопоставление спектров люминесценции одиночных оксидных слоев со спектром структур Si–SiO2–оксид позволило сделать заключение о процессах взаимодействия между слоями при формировании слоистой структуры и оценить ширину запрещенной зоны: Ta2O5 – 4.4 эВ, TiO2 – 3.3 эВ. Формирование Ta2O5 на поверхности SiO2 приводило к трансформации в приповерхностной области SiO2, проявляющейся в уменьшении интенсивности полосы люминесценции 1.9 эВ, и образованию дефектов – центров люминесценции в области 3 эВ. Синтез TiO2 на поверхности SiO2 не сопровождался изменениями в спектрах люминесценции.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время наиболее эффективным и востребованным способом нанесения тонких пленок является метод молекулярного наслаивания (МН) [1]. Метод МН позволяет при относительно низкой температуре синтезировать пленки заданного состава и толщины путем последовательного циклического проведения на поверхности подложки ряда самозавершающихся химических реакций, образующих один слой формируемого вещества за один цикл. Отличительной особенностью метода МН является возможность нанесения покрытий на развитые поверхности твердых тел (3D-объекты). Наибольший практический интерес вызывает синтез методом МН оксидных соединений, широко используемых в статических и динамических оперативных запоминающих устройствах, “сухих” конденсаторах нового поколения, характеризующихся максимальным отношением емкость/габариты, оптоэлектронных устройствах, а также в элементах памяти на кремниевой основе и резистивной памяти [2–5]. По различным оценкам объем продукции, выпускаемой в мире с применением технологии МН (за рубежом метод получил название Atomic Layer Deposition (ALD)), составляет ~5 млрд долл. в год. При этом наиболее широко в современной твердотельной электронике используются системы из нескольких диэлектрических слоев на поверхности полупроводников и металлов. Однако объем исследований, посвященных таким структурам и свойствам границы слоев, недостаточен. В результате малоизученными остаются не только строение и свойства синтезируемых методом МН оксидных слоев, но и особенности формируемой межфазной границы диэлектрик–диэлектрик, включающие в себя возможную модификацию контактирующих областей.
В настоящей работе на примере двух широко используемых оксидных слоев Ta2O5 и TiO2 обобщены результаты, демонстрирующие эффективность метода люминесценции при различных способах ее возбуждения и позволяющие получать информацию о свойствах и электронном строении слоистых структур, включая область межфазной границы диэлектрик–диэлектрик [6–11].
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
В работе изложены результаты исследования структур кремний–оксид и кремний–SiO2–оксид. В качестве подложки использовали монокристаллический кремний р-типа с концентрацией легирующей примеси 8∙1014 см–3 и ориентацией (100).
Синтез пленок Ta2O5 осуществляли либо на монокристаллических кремниевых пластинах диаметром 100 мм, либо на пластинах с термическим слоем SiO2 (окисление в “сухом” кислороде при 1000°C, толщина оксида 50 нм) с использованием двух реагентов – хлорида тантала (TaCl5) и воды. Для обеспечения высокой скорости роста синтез структур Si–Ta2O5 и структур Si–SiO2–Ta2O5 осуществляли на вращающуюся подложку при температуре 180–250°C и температуре испарителя хлорида тантала 45–90°C.
Рост пленок TiO2 осуществлялся при температуре подложки 200°C на монокристаллических кремниевых пластинах или на пластинах с термическим слоем SiO2 (окисление в “сухом” кислороде при 1000°C, толщина оксида 40 нм) с использованием реагентов – тетракис(диметиламино)титана [(CH3)2N]4Ti и воды.
Морфологию и состав синтезированных структур контролировали методами сканирующей электронной микроскопии и рентгеновского микроанализа. По данным рентгеновского микроанализа все полученные пленки по составу представляли собой стехиометрические оксиды Ta2O5 и TiO2. Толщины диэлектрических слоев определяли измерениями на сколе структур при помощи сканирующего ионного гелиевого микроскопа Zeiss ORION и контролировали эллипсометрически на длине волны 632.8 нм.
Для реализации метода катодолюминесценции (КЛ) использовали сканирующий электронный микроскоп Zeiss SUPRA 40VP с системой регистрации катодолюминесценции Gatan MonoCL3+. Регистрацию спектров КЛ проводили в диапазоне 250–800 нм в режиме непрерывного сканирования электронным пучком поверхности образца. Каждый спектр регистрировали на новом месте образца при параметрах: ширина области сканирования – 30 мкм, время регистрации одной точки на спектре – 1 с, спектральное разрешение – 2 нм, энергия электронов, возбуждающих люминесценцию, – 5 и 10 кэВ, ток пучка составлял 2–11 нА.
Спектры электролюминесценции (ЭЛ) регистрировали при положительном смещении кремниевой подложки в системе электролит–диэлектрик–полупроводник в диапазоне 250–800 нм на автоматизированной установке на базе светосильного монохроматора, выполненного по схеме Черни–Тернера с одной дифракционной решеткой 600 l/мм, в условиях, не приводящих к развитию пробоя и деградации оксидного слоя [10]. В качестве электролита использовали водный раствор Na2SO4.
Спектры фотолюминесценции (ФЛ) и возбуждения ФЛ снимали на установке Fluorolog-3 (HORIBA Jobin Yvon), состоящей из двух независимых монохроматоров, выполненных по схеме Черни–Тернера с одной дифракционной решеткой 1200 l/мм. Для возбуждения ФЛ использовали излучение ксеноновой лампы мощностью 450 W. Скорость сканирования регистрируемого спектра составляла 150 нм/с. Длина волны возбуждающего излучения варьировалась в спектральном диапазоне 275–400 нм с шагом 25 нм при спектральной ширине монохроматора возбуждения ФЛ 10 нм и спектральной ширине монохроматора регистрации люминесценции 5 нм. Спектры ФЛ регистрировали в диапазоне длин волн, исключающем влияние дифракции второго порядка на регистрируемый спектр ФЛ.
Все спектры регистрировали в режиме счета фотонов, корректировали на спектральную чувствительность аппаратуры и нормировали на ток фотодиода, пропорциональный интенсивности лампы возбуждения в случае ФЛ. Все измерения выполнены при температуре 293 К.
Спектры отражения снимали на спектрофотометре Lambda 1050 c аналитическим модулем – 150 мм интегрирующей сферой. При этом использовали оксидные слои с толщиной, исключающей наличие первого интерференционного минимума в пределах диапазона измерений (250–800 нм).
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Люминесценция структур Si–Ta2O5. На рис. 1а приведены спектры люминесценции структур Si–Ta2O5 при различных способах ее возбуждения. В случае КЛ и ЭЛ люминесценция наблюдалась в области энергий 1.6–4.7 эВ (750–250 нм) с интенсивностью, пропорциональной толщине оксидного слоя и плотности тока возбуждения. При совместном анализе всего набора полученных спектров выявлена возможность их аппроксимации единым набором гауссовых распределений (табл. 1). Пример такой аппроксимации приведен на рис. 1б.
Рис. 1. Спектры ЭЛ (1), КЛ при энергии возбуждения 5 кэВ и токе пучка 5 нА (2), ФЛ при энергии возбуждения 4.1 эВ (3) и возбуждения ФЛ в области 2.8 эВ (4) структур Si–Ta2O5 (100 нм) (а). Пример аппроксимации спектра ЭЛ, номера полос соответствуют номерам в табл. 1 (б).
Таблица 1. Наличие полос в спектрах люминесценции структур Si–Ta2O5
Полоса | Максимумы полос люминесценции, эВ, ± 0.05 эВ | Наличие полосы в спектре люминесценции | ||
ФЛ | КЛ | ЭЛ | ||
1 | 1.88 | – | + | + |
2 | 2.23 | + | + | + |
3 | 2.40 | + | – | – |
4 | 2.60 | + | + | + |
5 | 2.80 | + | – | – |
6 | 3.00 | + | + | + |
7 | 3.35 | + | + | + |
8 | 3.75 | – | + | + |
Из табл. 1 видно, что в спектрах КЛ и ЭЛ присутствует одинаковый набор полос, однако в спектре ЭЛ структур Si–Ta2O5 существенно меньше относительная интенсивность полосы излучения с максимумом при энергии 2.6 эВ (477 нм). В спектре ФЛ присутствуют полосы 2.4 и 2.8 эВ, которых нет в спектрах КЛ и ЭЛ, и отсутствуют полосы 2.2 и 3.8 эВ, в рассмотренном случае не попадающие в область регистрации спектра ФЛ.
Для спектров возбуждения ФЛ получен набор гауссовых полос поглощения с максимумами при энергиях 3.3 ± 0.1, 3.8 ± 0.1 и 4.4 ± 0.1 эВ. Дисперсия всех полос составляла 0.20 ± 0.05 эВ.
Отметим, что наличие характеристических полос излучения с максимумами при 380 нм (~3.3 эВ), 430 нм (~2.9 эВ), 475 нм (2.6 эВ) и 540 нм (2.3 эВ) в спектре ЭЛ слоев Ta2O5 было отмечено в [12].
Люминесценция структур Si–SiO2–Ta2O5. Приведем результаты исследования структур Si–SiO2–Ta2O5 методом КЛ. Метод ФЛ в данном случае не мог быть использован для исследования свойств межфазной границы SiO2–Ta2O5 (одна из основных задач данной работы), так как возбуждение ФЛ происходило исключительно в слое Ta2O5.
При исследовании структур Si–SiO2–Ta2O5 методом КЛ установлена пропорциональность интенсивности КЛ току возбуждения во всем спектральном диапазоне.
На рис. 2 приведены спектры КЛ структур Si–Ta2O5 (1), Si–SiO2 (2) и Si–SiO2–Ta2O5 (3). В этом случае даже при минимальной энергии возбуждения КЛ (5 кэВ) спектр структур со слоистым диэлектриком содержит элементы спектров КЛ слоев SiO2 и Та2О5 (интенсивность спектра КЛ от кремниевой подложки в этой области энергий пренебрежимо мала [13]). Слабая полоса КЛ в области энергий 3.0 эВ изначально присутствовала в слоях Ta2O5 на Si (табл. 1), но при формировании слоистого диэлектрика интенсивность данной полосы (концентрация соответствующих центров люминесценции) значительно возрастает.
Рис. 2. Спектры КЛ структур: Si–Ta2O5 (1), Si–SiO2 (2) и Si–SiO2–Ta2O5 (3), полученные при энергии пучка 5 кэВ. Ток пучка 5 нА. Модельный спектр – 4. Толщины слоев: Ta2O5 – 100, SiO2 – 50 нм.
Люминесценция структур Si–TiO2. На рис. 3 приведены спектры люминесценции структур Si–TiO2 с толщиной оксидного слоя 20 нм. Слои TiO2 являются наиболее перспективными кандидатами на использование в качестве активного слоя элемента памяти (мемристора), необходимым этапом формирования которого является процесс электроформовки (воздействие сильного электрического поля с напряженностью ~1 МВ/см). Процесс электроформовки осуществлялся в системе электролит–диэлектрик–полупроводник, позволяющей контролировать инжекцию электронов из полевого электрода в диэлектрический слой, осуществляя его модификацию и не вызывая деструктирующего пробоя [15]. Критерием завершения процедуры электроформовки служила возможность реализации резистивных переключений в структуре диэлектрик–полупроводник после полевого воздействия.
Рис. 3. Спектры структур Si–TiO2: КЛ (5 КэВ, 5 нА): исходный спектр (1), после предварительной электроформовки структуры (2), разность спектров (1 и 2, 3); спектр ФЛ при возбуждении в полосе 275 нм (4.5 эВ) (4).
При исследовании структур Si–TiO2 люминесцентными методами были установлены практически полная идентичность спектров КЛ и ЭЛ, пропорциональность интенсивности люминесценции плотности возбуждающего тока и отсутствие зависимости вида спектрального распределения от плотности тока, толщины слоя TiO2 и энергии возбуждающих электронов. При совместном анализе всего набора полученных спектров выявлена возможность их аппроксимации единым набором гауссовых распределений (табл. 2).
Таблица 2. Наличие полос в спектрах люминесценции структур Si–TiO2
Полоса | Максимумы полос люминесценции, эВ, ± 0.05 эВ | Наличие полос в спектре люминесценции | |||
Исходная структура | Структура после электроформовки | Разность спектров | |||
КЛ | ФЛ | КЛ | КЛ | ||
1 | 1.64 | + | - | + | - |
2 | 1.92 | + | - | + | - |
3 | 2.16 | + | - | + | - |
4 | 2.50 | + | + | + | + |
5 | 2.78 | + | + | + | + |
6 | 3.00 | + | + | + | + |
7 | 3.37 | - | + | + | + |
8 | 3.80 | - | + | + | + |
Комментируя полученные спектры люминесценции структур Si–TiO2 (рис. 3) и их аппроксимацию гауссовыми полосами (табл. 2), отметим ряд моментов. Спектр ФЛ при возбуждении квантами с энергией 4.5 эВ по своему составу (наличию характеристических полос излучения) полностью совпадает с разностью нормированных спектров структур после электроформовки и исходного спектра (рис. 3, кривая 3). Электроформовка структур приводит не только к значительному увеличению интенсивности спектральных полос, присутствующих в исходном спектре (2.5, 2.8, 3.0 эВ), но и к появлению дополнительных полос люминесценции (3.37 и 3.80 эВ), не наблюдаемых в исходных спектрах КЛ и ЭЛ. Однако эти полосы люминесценции присутствовали в спектрах ФЛ, полученных на исходных образцах.
Люминесценция структур Si–SiO2–TiO2. Приведем результаты исследования структур Si–SiO2–TiO2 методом КЛ. Использование метода ЭЛ было затруднено полевой деградацией оксидных слоев в процессе регистрации спектров. Метод ФЛ в данном случае не мог быть использован для исследования свойств межфазной границы SiO2–TiO2, так как возбуждение ФЛ происходило исключительно в слое TiO2.
При исследовании методом КЛ структур Si–SiO2–TiO2 установлены пропорциональность интенсивности КЛ плотности тока возбуждения и отсутствие зависимости вида спектрального распределения от толщины слоя TiO2, энергии и плотности тока возбуждающих электронов. На рис. 4 приведены спектры КЛ исследуемых структур. В случае структур Si–SiO2–TiO2 даже при энергии возбуждения КЛ 5 кэВ в спектре можно выделить полосы излучения, характерные для слоев SiO2, и элементы спектра КЛ слоя TiO2.
Рис. 4. Спектры КЛ (5 КэВ, 5 нА) структур: Si–TiO2 (1), Si–SiO2–TiO2 (2), Si–SiO2 (3), сумма спектров (4), Si–SiO2–TiO2 после электроформовки (mod) (5). Толщины: TiO2 – 28, SiO2 – 40 нм.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Люминесценция структур Si–Ta2O5 и Si–SiO2–Ta2O5. Сравним регистрируемый спектр слоистой структуры (рис. 2, кривая 3) с модельным спектром (рис. 2, кривая 4), полученным в результате сложения спектров структур Si–Ta2O5 и Si–SiO2. При сложении интенсивность каждого спектра умножали на весовой коэффициент, пропорциональный потерям энергии возбуждающих электронов в оксидных слоях структуры Si–SiO2–Ta2O5 в процессе измерения спектра КЛ. Расчет таких потерь осуществляли с использованием программы CASINO [14]. Расчеты показали, что при энергии возбуждения 5 КэВ 80% энергии первичного пучка диссипирует в слое пентоксида тантала, а остальная часть практически полностью поглощается в объеме диоксида кремния, следовательно, весовые коэффициенты равны 0.8 и 0.2 соответственно. Сравнение данных спектров с учетом их аппроксимации набором гауссовых распределений свидетельствует об отсутствии аддитивности вкладов люминесценции от отдельных оксидных слоев. Установлено, что нанесение слоя Та2О5 приводит к появлению интенсивной полосы КЛ в области 3.0 эВ, уменьшению интенсивности люминесценции от слоя SiO2 в полосе 1.9 эВ приблизительно в 2.5 раза и практически к полному гашению КЛ в области свыше 4.5 эВ. Связав последнее обстоятельство с поглощением выходящего из слоя SiO2 излучения в слое Та2О5, можно получить качественную зависимость нормированного коэффициента пропускания слоя Та2О5 в этой области энергий и оценить ширину запрещенной зоны слоя Та2О5, полученного методом МН, величиной Еg = 4.4 ± 0.1 эВ.
Наличие в спектре возбуждения ФЛ полосы с энергией, соответствующей ширине запрещенной зоны Ta2O5 (рис. 1), позволяет связать все наблюдаемые полосы люминесценции с набором электронных состояний, энергетически расположенных в запрещенной зоне Ta2O5. Люминесценция вероятнее всего происходит за счет образования неравновесных электронов в зоне проводимости оксида в результате генерации электронно-дырочных пар (КЛ и ФЛ) или инжекции электронов в зону проводимости из полевого контакта (ЭЛ) с последующей излучательной рекомбинацией через локализованные в запрещенной зоне электронные состояния. В этом случае возбуждение ФЛ центров люминесценции с энергией, меньшей ширины запрещенной зоны Ta2O5, происходит за счет оптически стимулированных переходов электронов из валентной зоны Ta2O5 на соответствующий энергетический уровень и последующей излучательной релаксации. Так, спектральное распределение ФЛ Ta2O5 при возбуждении в области энергий 3.3 эВ состояло из трех полос излучения с максимумами при энергиях 2.6, 2.8 и 3.0 эВ [10].
Поскольку интенсивность люминесценции пропорциональна толщине слоя пентоксида тантала, т. е. пропорциональна количеству циклов МН, можно заключить, что центры люминесценции распределены однородно по толщине оксида и формируются непосредственно в процессе его синтеза.
На рис. 5а представлена схема электронного строения слоев Ta2O5, сформированных на поверхности кремния методом МН, которая позволяет объяснить спектральный состав люминесценции при любом из использованных в работе способов ее возбуждения. Отметим, что наличие в запрещенной зоне пентоксида тантала энергетического уровня, расположенного на 2.8 эВ выше потолка валентной зоны Ta2O5, приводит к формированию канала дырочной проводимости в системе Si–Ta2O5, наличием которого объясняется отсутствие соответствующей полосы в спектрах люминесценции, возбуждаемой электронами.
Рис. 5. Электронное строение оксидных слоев Si–Ta2O5 (а) и Si–TiO2 (б).
На основании приведенных экспериментальных результатов связать центры люминесценции с наличием в слоях Ta2O5 конкретных дефектов не представляется возможным и требует проведения дополнительных исследований.
Синтез слоев Ta2O5 на поверхности термически окисленного кремния приводит к формированию переходного слоя вблизи границы диэлектрик–диэлектрик и проявляется в спектрах люминесценции структур со слоистым диэлектриком. Появление в спектрах КЛ структур Si–SiO2–TiO2 интенсивной полосы излучения с максимумом при энергии 2.96 эВ, практически отсутствующей в спектрах КЛ структур Si–SiO2 и мало интенсивной в спектрах структур Si–Ta2O5, является следствием формирования на границе двух диэлектриков переходного слоя типа Siх–Taу–O (Siх–O–Taу), содержащего центры люминесценции, соответствующие данной полосе излучения. Обнаруженное значительное уменьшение интенсивности полосы люминесценции с максимумом при энергии 1.9 эВ свидетельствует об уменьшении концентрации центров люминесценции, которые обусловлены наличием во внешнем слое SiO2 силанольных групп (Si–OH) [11, 16]. В этом случае можно говорить о существенной трансформации, связанной с диссоциацией силанольных групп внешнего слоя SiO2 в процессе формирования слоя Ta2O5. Такие процессы наиболее вероятны в том случае, если в указанных областях присутствуют атомы и/или ионы свободного тантала (включая недоокисленный тантал).
Люминесценция структур Si–TiO2 и Si–SiO2–TiO2. Полосы с максимумами при энергиях 1.6 и 1.9 эВ присутствуют в исходном спектре КЛ структуры Si–TiO2 и являются следствием наличия остатков на поверхности кремния оксидного слоя. Об этом свидетельствует изменение их относительной интенсивности в процессе полевого воздействия, типичное для слоев SiO2 на кремнии в процессе полевой деградации [16].
Сопоставим спектр КЛ структур Si–SiO2–TiO2 (рис. 4, кривая 2) со спектром, полученным сложением спектров КЛ структур Si–TiO2 и Si–SiO2 (рис. 4, кривая 4) с учетом весовых коэффициентов, процедура получения которых описана выше. Видно, что нанесение слоя TiO2 не приводило к появлению дополнительных полос излучения в спектре КЛ слоистого диэлектрика, а сопровождалось уменьшением интенсивности люминесценции от слоя SiO2 в области энергий 2.2–2.5 эВ (515–600 нм) и в УФ-области спектра. Последнее обстоятельство связано с поглощением излучения, выходящего из слоя SiO2 в слое TiO2. Это позволило получить качественную зависимость коэффициента пропускания слоя TiO2, полученного методом МН (рис. 6). На этом же рисунке приведен спектр отражения структуры Si–TiO2. Отсутствие зависимости вида данного спектра от угла падения света позволило связать наблюдаемое в УФ-области значительное уменьшение коэффициента отражения света от кремниевой подложки с поглощением падающего излучения в слое TiO2. Как видно на рис. 6, полученная зависимость в УФ-области спектра полностью согласуется с рассчитанным на основе измерений спектров КЛ коэффициентом пропускания слоя TiO2. Это подтвердило справедливость оценки пропускания по данным измерений КЛ спектров и позволило оценить ширину запрещенной зоны полученного методом МН слоя TiO2 величиной 3.3 ± 0.1 эВ (~372 нм).
Рис. 6. Рассчитанный коэффициент пропускания слоя TiO2 (толщина слоя 28 нм) на основе КЛ-измерений (1) и спектр отражения структуры Si–TiO2 (18 нм) (2).
На основании полученных результатов можно предложить энергетическую схему слоя TiO2, полученного методом МН (рис. 5б). Оксид титана имеет величину запрещенной зоны ~3.3 эВ и характеризуется наличием в ней четырех энергетических уровней, являющихся центрами люминесценции и однородно распределенных по толщине слоя оксида.
Люминесценция во всех рассмотренных случаях в рамках предлагаемой модели происходит за счет образования неравновесных электронов в зоне проводимости оксида путем генерации электронно-дырочных пар (КЛ и ФЛ) или инжекции электронов в зону проводимости из полевого контакта (ЭЛ) с последующей излучательной рекомбинацией через локализованные в запрещенной зоне электронные состояния (центры люминесценции). Наблюдаемое существенное поглощение пленкой диоксида титана люминесценции от слоя SiO2 в области энергий 2.2–2.5 эВ (490–570 нм) (рис. 4, кривые 2, 4) подтверждает наличие в запрещенной зоне TiO2 локализованных электронных состояний. В рамках данной модели ответственными за такой процесс являются локализованные электронные состояния, расположенные на 2.2 и 2.5 эВ выше потолка валентной зоны TiO2. Отметим, что данные центры участвуют как в поглощении излучения, так и люминесценции. Подтверждением предложенного механизма люминесценции является неизменность вида спектров ФЛ в области 400–500 нм (3.0–2.5 эВ) при уменьшении энергии возбуждения до 3.4 эВ (365 нм) – порога возбуждения регистрируемой ФЛ. Последнее обстоятельство подтверждает справедливость оценки ширины запрещенной зоны TiO2.
Полевое воздействие существенным образом модифицирует слой TiO2, что находит свое отражение в появлении в спектре КЛ люминесценции в области 250–375 нм, т. е. в энергетическом диапазоне, превышающим ширину запрещенной зоны исходного слоя TiO2. Наряду с этим значительно увеличивается концентрация локализованных электронных состояний, изначально присутствующих в запрещенной зоне TiO2, что подтверждается увеличением интенсивности люминесценции (рис. 3, кривая 2) и поглощением излучения от слоя SiO2 (рис. 4, кривая 5) в области 400–600 нм.
Наблюдаемое изменение спектра КЛ вероятнее всего связано с трансформацией исходного слоя TiO2 в двухслойный диэлектрик, содержащий сформировавшиеся в результате полевого воздействия центров люминесценции 3.37 эВ (~370 нм) и 3.80 эВ (~325 нм) во внешней части оксидного слоя. Именно во внешний слой происходит инжекция электронов во время полевого воздействия (электроформовки) на структуру Si–TiO2. Отметим особенности спектров ФЛ исходных структур Si–TiO2 (рис. 3, кривая 4), на которых уже присутствовали полосы излучения с максимумами при энергиях 3.37 эВ (~370 нм) и 3.80 эВ (~325 нм). Это свидетельствует о наличии дефектов – центры люминесценции такого типа во внешнем слое исходного диоксида титана, поскольку именно в этой области происходит возбуждение люминесценции в данном случае (энергия возбуждения больше ширины запрещенной зоны).
Внутренний слой модифицированного TiO2 аналогичен по своим свойствам исходному слою TiO2, что подтверждается наблюдаемым поглощением излучения от слоя SiO2 (рис. 4, кривая 5) в области энергий 2.2 эВ (575 нм) и указывает на его значительную толщину по сравнению с внешним слоем. Внешний слой характеризуется наличием высокой концентрации дефектов (центры люминесценции) и может иметь большую ширину запрещенной зоны. В качестве гипотезы можно предположить, что данными центрами люминесценции являются вакансии кислорода, образующиеся в результате полевого воздействия. В [17] было отмечено, что по данным [18] для слоев TiO2 характерно образование содержащих кислородные вакансии комплексов: (Ti3+ – VO + 2e)0 и (Ti3+ – VO+ + 1e)+. Такие комплексы приводят к образованию в запрещенной зоне TiO2 энергетических уровней, расположенных на ~0.3 и ~0.5 эВ ниже дна зоны проводимости, что соответствует полученным уровням 3.0 и 2.8 эВ (рис. 5б). В пользу сделанного предположения свидетельствует также использование подобных подходов в моделях, описывающих эффект резистивного переключения и мемристорные элементы памяти [19, 20].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование люминесцентных методов позволяет получать информацию о наличии локализованных электронных состояний в запрещенной зоне синтезированных методом молекулярного наслаивания оксидных слоев и на этой основе эффективно интерпретировать результаты люминесцентных и электрофизических измерений.
Сопоставление спектров люминесценции одиночных диэлектрических слоев со спектром слоистой структуры позволяет получить качественный вид коэффициента поглощения оксидного слоя, оценить ширину его запрещенной зоны и сделать заключение о процессах взаимодействия между слоями при формировании слоистой структуры. Процесс формирования двухслойных диэлектриков может сопровождаться образованием переходного слоя, обладающего своими характерными свойствами, отличными от свойств входящих в структуру слоев, и способного существенно влиять на электрофизические свойства структур полупроводник–слоистый диэлектрик.
Работа выполнена с использованием оборудования ресурсных центров СПбГУ “Междисциплинарный центр по направлению нанотехногии”, “Инновационные технологии композитных наноматериалов”, “Оптические и лазерные методы исследования вещества”.
About the authors
А. П. Барабан
Санкт-Петербургский государственный университет
Author for correspondence.
Email: alnbaraban@yandex.ru
Russian Federation, г. Санкт-Петербург
В. А. Дмитриев
Санкт-Петербургский государственный университет
Email: w.dmitriew@spbu.ru
Russian Federation, г. Санкт-Петербург
А. В. Дрозд
Санкт-Петербургский государственный университет
Email: alnbaraban@yandex.ru
Russian Federation, г. Санкт-Петербург
Ю. В. Петров
Санкт-Петербургский государственный университет
Email: alnbaraban@yandex.ru
Russian Federation, г. Санкт-Петербург
Ю. В. Петров
Санкт-Петербургский государственный университет
Email: alnbaraban@yandex.ru
Russian Federation, г. Санкт-Петербург
И. Е. Габис
Санкт-Петербургский государственный университет
Email: alnbaraban@yandex.ru
Russian Federation, г. Санкт-Петербург
А. А. Селиванов
Санкт-Петербургский государственный университет
Email: alnbaraban@yandex.ru
Russian Federation, г. Санкт-Петербург
References
- Malygin A.A., Drozd V.E., Malkov A.A., Smirnov V.M. // Chem. Vap. Deposition. 2015. V. 21. P. 216. https://doi.org/10.1002/cvde.201502013
- Perevalov T.V., Volodin V.A., Kamaev G.N. et al. // J. Non. Cryst. Sol. 2022. V. 598. P. 121925 (1–8). https://doi.org/10.1016/j.jnoncrysol.2022.121925
- Перевалов Т.В., Гриценко В.А. // Успехи физ. наук. 2010. Т. 180. С. 587. https://doi.org/10.3367/UFNr.0180.201006b.0587
- Robertson J., Wallace R.M. // Mater. Sci. Eng. R Rep. 2015. V. 88. P. 1. https://doi.org/10.1016/j.mser.2014.11.001
- Kim K.M., Choi B.J., Shin Y.C. et al. // Appl. Phys. Lett. 2007. V. 91. P. 012907. https://doi.org/10.1063/1.2749846
- Baraban A.P., Dmitriev V.A., Drozd V.E. et al. // J. Appl. Phys. 2016. V. 119. P. 055307–5. https://doi.org/10.1063/1.4941270
- Барабан А.П., Денисов Е.А., Дмитриев В.А. и др. // Физика и техника полупроводников. 2020. Т. 54. С. 427. https://doi.org/10.21883/FTP.2020.04.49153.9312
- Барабан А.П., Дмитриев В.А., Дрозд В.Е. и др. // Оптика и спектроскопия. 2020. Т. 128. С. 224. https://doi.org/10.21883/OS.2020.02.48964.282–19
- Барабан А.П., Селиванов А.А., Дмитриев В.А. и др.// Письма в ЖТФ. 2019. Т. 45. С. 13. https://doi.org/10.21883/PJTF.2019.06.47491.17637
- Барабан А.П., Дмитриев В.А., Прокофьев В.А. и др. // Письма в ЖТФ. 2016. Т. 42. С. 10.
- Барабан А.П., Дмитриев В.А., Петров Ю.В. Электролюминесценция в твердотельных слоистых структурах на основе кремния. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2009. 195 с.
- Sekido Y. // Electron. Com. Jpn. Pt 2. 1994. V. 77. P. 54. https://doi.org/10.1002/ecjb.4420770607
- Барабан А.П., Дмитриев В.А., Петров Ю.В., Тимофеева К.А. // Изв. вузов. Электроника. 2013. № 2 (100). С. 71.
- Drouin D. // Microscopy and Microanalysis. 2006. V. 12. P. 1512. https://doi.org/10.1017/S1431927606069686
- Барабан А.П., Булавинов В.В., Трошихин А.Г. // Письма в ЖТФ. 1993. Т. 19. С. 27
- Baraban A.P., Samarin S.N., Prokofiev V.A. et al. // J. Lumin. 2019. V. 205. P. 102. https://doi.org/10.1016/j.jlumin.2018.09.009
- Ярмаркин В.К., Шульман С.Г., Леманов В.В. // ФТТ. 2008. Т. 50. Вып. 10. С. 1767.
- Goepel W., Rocker G. // Phys. Rev. B. 1983. V. 28. P. 3427. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.28.3427
- Choi B.J., Jeong D.S., Kim S.K., Rohde C. et al. // J. Appl. Phys. 2005. V. 98. P. 033715. https://doi.org/10.1063/1.2001146
- Strukov D.B., Williams R.S. // Appl. Phys. A. 2009. V. 94. P. 515. https://doi.org/10.1007/s00339-011-6578-7
Supplementary files