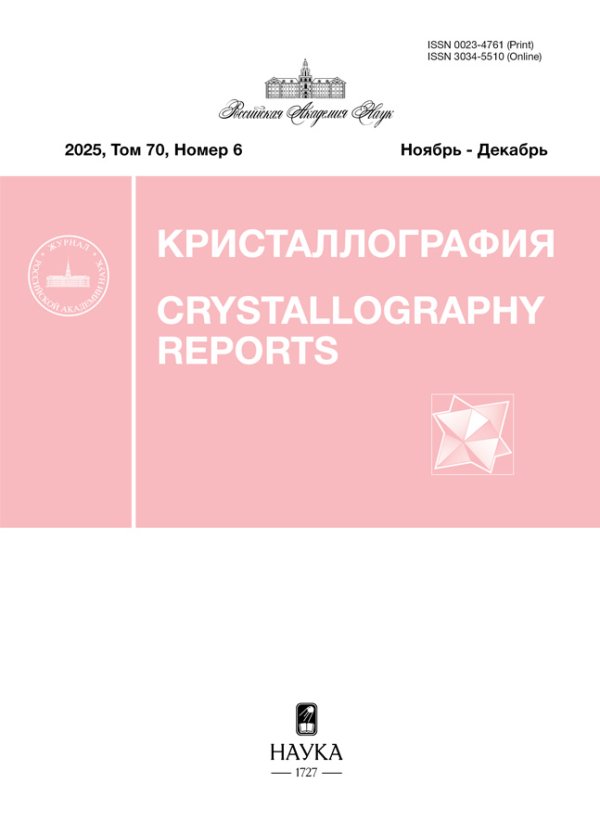Transitions between equilibrium and nonequilibrium phenomena in the description of crystal growth
- Authors: Rakin V.I.1
-
Affiliations:
- Institute of Geology FRC Komi SC UB RAS
- Issue: Vol 69, No 4 (2024)
- Pages: 705-719
- Section: CRYSTAL GROWTH
- URL: https://bakhtiniada.ru/0023-4761/article/view/264437
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0023476124040188
- EDN: https://elibrary.ru/XBPQHN
- ID: 264437
Cite item
Full Text
Abstract
The close intertwining of equilibrium and nonequilibrium thermodynamic representations and transitions between the two limiting principles of thermodynamics: the second beginning and the principle of least coercion (minimum entropy production in the stationary regime) constitute the main content of phenomenological theories of crystal growth. The difference of basic postulates of two sections of thermodynamics forces to discuss problems of reversibility and irreversibility of time, scales of observed phenomena and rules of conjugation of thermodynamic forces and flows in theories of crystal growth. A variant of the solution of some conjugation problems is shown on the example of the fluctuation model of dislocation crystal growth, which is based on the stationary isothermal process of thermodynamic free energy fluctuations. In the case of the limiting mode of adsorption of impurities on the crystal face according to the Langmuir model, the free energy fluctuations possessing the absence of the memory effect allow us to identify three chemical potentials of building particles that determine the corresponding values of solution supersaturations realized at different scale levels at the growing crystal face containing a helical dislocation. The supersaturations control quasi-equilibrium and nonequilibrium thermodynamic processes that constitute a single dislocation mechanism of crystal growth.
Full Text
Введение
Рост монокристалла захватывает широкий круг физических явлений, который простирается на 10 порядков, начиная с масштаба атома и заканчивая метрами. Поскольку физические характеристики кристалла описываются макроскопическими переменными, а феномен его роста доступен для восприятия органами чувств человека, рост кристалла воспринимается как макроскопическое явление. Но в теории роста кристалла, охватывающей отмеченный диапазон масштабов, необходимо преодолеть проблему переходов между разделами физических наук, описывающих явления разного уровня.
Можно выделить несколько задач сопряжения:
- анализ взаимодействия так называемой “строительной частицы” со структурой кристалла и переход к макроскопическому описанию динамической грани растущего кристалла;
- обход или решение проблемы времени, берущей начало в H-теореме Больцмана, и разработка правила перехода от уравнений, оперирующих обратимым временем в молекулярно-кинетических теориях, к уравнениям неравновесной термодинамики, использующих концепцию стрелы времени;
- описание роста грани в условиях дискретных термодинамических флуктуаций, сопряженных с явлениями адсорбции и десорбции примесей, приводящих к непрерывному росту макроскопического кристалла-многогранника;
- анализ многочисленных взаимосвязей и переходов между равновесными и неравновесными термодинамическими представлениями в описании кинетики и эволюции растущей грани кристалла.
Фундаментальный механизм встраивания строительной частицы в структуру кристалла скрывается в области динамики квантовых многочастичных взаимодействий. Однако нетрудно догадаться, что на множество потенциальных актов “встраивания” частиц в структуру кристалла, происходящих с частотой тепловых колебаний должно приходиться почти такое же число актов “отрыва”. Если нормальная скорость роста кристалла составляет 10–8 м/с, то относительный дисбаланс между такими актами присоединения и отрыва частиц составляет 10–8–10–11. По этой причине появляются основания трансформировать динамическую многочастичную задачу в стационарную квантово-механическую модель взаимодействия грани кристалла с частицей, в которой время процесса можно исключить. Данный вывод будет справедлив и для флуктуационной модели [1], в которой дисбаланс реализуется только в краткие моменты релаксации флуктуации свободной энергии, составляющие условно сотую часть от общего времени процесса.
Можно заключить, что квантовый анализ механизма роста не столь актуален для теории роста кристалла, как могло показаться на первый взгляд, и начало описания процесса роста необходимо перенести на более высокий уровень, на котором развиваются переходные процессы и химические состояния вещества, эффективно ингибирующие скорость встраивания частиц в структуру кристалла. Важность поиска закономерностей, проливающих свет на характер элементарных молекулярных процессов роста грани кристалла, подчеркивают не прекращающиеся попытки их анализа с макроскопических позиций [2, 3]. Но с бурным развитием прецизионных исследований все более актуальной становится идея Н. Бора [4] о том, что с уменьшением размера объекта исследователь сталкивается со специфическим процессом взаимодействия объекта с прибором, но не наблюдает напрямую свойства самого объекта [5].
Одна из главных проблем классических теорий роста кристаллов связана с различием в свойствах времени – его обратимости в ньютоновской механике (CPT-инвариантность в квантовой механике) и необратимости в термодинамике [6]. Неслучайно эта проблема волновала Л. Больцмана всю его жизнь [7]. Предприняв многочисленные попытки статистического обобщения обратимых законов ньютоновской динамики, Л. Больцману, как принято считать сегодня [8], все же не удалось вывести обоснование второго начала термодинамики. В классической теории Бартона–Кабреры–Франка [9] переменная времени была введена путем преобразования частотного фактора, присутствующего в статистическом равновесном распределении Больцмана–Гиббса. Затем был осуществлен переход к неравновесному описанию необратимого процесса роста кристалла. Таким образом произошла подмена одного времени другим. Подчеркнем, что частотный фактор в равновесной статфизической модели Больцмана–Гиббса отражает энергетическую характеристику равновесного взаимодействия частицы с гранью (энергию тепловых колебаний) при данной температуре. В равновесной модели Больцмана–Гиббса согласно теореме Лиувилля время должно быть исключено. В результате в классических уравнениях теории роста одновременно присутствуют средние энергии, характерные для условий термодинамического равновесия, равновесный частотный фактор и величина, определяющая все неравновесные процессы в системе – пересыщение. Такой путь в развитии теории можно было бы считать допустимым, если H-теорема была бы доказана. Однако согласно [10] классический способ введения переменной времени запрещен, что ставит под сомнение устоявшуюся классическую теорию дислокационного роста [9].
Заметим, что описанная проблема времени, как и проблема тотальной адсорбции примесей на растущей грани, никогда не привлекали серьезного внимания исследователей роста кристаллов [9, 11]. Помимо этих недостатков в классических кинетических теориях роста широко используется кинетическое уравнение Аррениуса, не имеющее строгого теоретического обоснования для неравновесной системы [12, 13]. Однако важнейший положительный эффект идеи С. Аррениуса, предложенной еще в XIX в., заключается, возможно, не в уравнении для кинетического коэффициента скорости реакции, а в концепции переходного состояния (активированного комплекса), позволяющего перейти от молекулярно-кинетических, ньютоновских моделей взаимодействия частиц вещества к термодинамическому описанию сложной последовательности состояний в ходе химических реакций. И не вина С. Аррениуса, что смысл энергии Гиббса переходного состояния в неравновесной системе и его время жизни остаются до настоящего времени не раскрытыми [12].
По описанным выше причинам во флуктуационной теории роста необратимая переменная времени введена на макроуровне с помощью теоремы перехода [1]. Феномен примеси в макроскопической теории Ленгмюра интерпретируется также на макроуровне [14]. Например, в особо чистых системах примесью будет считаться адсорбированный на изломе ступени активированный комплекс, состоящий из строительных частиц. Переходное состояние вещества, описываемое определенной энергией Гиббса [12, 13], не позволяет частицам встраиваться в структуру кристалла и с успехом выполняет функцию примеси, ингибируя скорость роста, даже если время его жизни меньше, чем средний интервал времени между флуктуациями энтропии, но, вероятно, больше времени релаксации флуктуации [15].
На исторических примерах развития термодинамики от равновесной к неравновесной весьма наглядно продемонстрирована [13] необходимость введения нового предельного принципа – наименьшего принуждения (минимум производства энтропии), реализующегося в линейном неравновесном стационарном режиме. Поэтому при анализе естественного процесса роста кристалла непрерывно возникают переходы от равновесия к неравновесию, управляемые различными предельными принципами, и каждый переход от одной системы к другой должен быть обоснован.
Цель данной работы – описание равновесных и неравновесных процессов и переходов между ними при дислокационном механизме роста грани кристалла в рамках флуктуационной модели, реализованной исключительно на термодинамическом уровне.
Грань кристалла с равномерно чередующимися элементарными ступенями
Модель равновесной грани кристалла, на которой присутствуют регулярно расположенные прямолинейные элементарные ступени, сформулирована Л. Д. Ландау [16] на основе принципа максимального отталкивания элементарных ступеней в приближении потенциала, аналогичного потенциалу Леннард-Джонса. Равные расстояния между ступенями в макроскопическом масштабе формируют новую грань с высокими индексами Миллера. Причем чем тоньше грань, располагающаяся вблизи ребра кристалла, тем больше вероятность обнаружения такой грани на его равновесной поверхности [16]. Это обстоятельство, в частности, обосновывает легкость формирования макроступеней на грани кристалла.
Модель Ландау обладает двумя важными качествами. Во-первых, она, строго говоря, не является равновесной термодинамической, хотя в ней употребляется понятие поверхностного натяжения. В модели реализуется физический принцип минимальной энергии связи между соседними ступенями в некоторой области, охватывающей множество ступеней, что обычно воспринимается как отсылка к принципу минимума свободной поверхностной энергии (второму началу термодинамики). Однако это не исчерпывает всех преимуществ модели. Принцип локального равновесия используется и для неравновесных термодинамических систем, в которых при макроописании предельным принципом служит принцип наименьшего принуждения [6]. Во-вторых, элементарные ступени, описанные в модели, неявно предполагают движение строительных частиц по поверхности грани. Но кинетика такого процесса не является предметом излагаемой теории. В ней обсуждается только конечное, равновесное, макроскопическое состояние ступеней.
Таким образом, модель Ландау обладает большей общностью и применима для неравновесных систем, включая флуктуационную модель роста кристалла.
На поверхности грани и на элементарных ступенях, контактирующих с окружающим раствором, всегда адсорбированы частицы примесей и строительных единиц в переходных состояниях, понижающие локальную плотность поверхностной энергии. Отметим, что в неравновесной гетерогенной системе грань кристалла, на которой бóльшую часть времени располагаются примеси, препятствующие присоединению строительных частиц, можно в полной мере считать равновесной. Однослойная адсорбция примесей по Ленгмюру не является препятствием для локально равновесной трансформации грани в соответствии с теорией Ландау. Тогда если разность химических потенциалов строительного вещества в растворе и структуре кристалла, находящегося под слоем адсорбированных примесей, положительна, то рост кристалла будет возможен только в моменты десорбции примесей под воздействием флуктуаций свободной энергии Гиббса [1].
Обратим внимание, что флуктуация энтропии локальна, всегда отрицательна и происходит в любой термодинамической системе [13]. Она может быть обусловлена разными причинами – положительными или отрицательными колебаниями температуры, колебаниями числа молей химических компонентов в единице объема, числа частиц в единице объема (газа), изменением спонтанной поляризации или намагниченности компактной группы частиц и т. д. В результате релаксации флуктуации энтропия квазиравновесной системы вновь возрастает до максимума. Поэтому флуктуации являются единственным механизмом самопроизвольного движения термодинамической системы к равновесию в замкнутой системе, а в стационарной, открытой (проточной) системе в конечном стационарном режиме – к наименьшему принуждению (минимуму производства энтропии).
При наличии разности химических потенциалов одного из химических компонентов в гетерогенной кристаллообразующей системе (пересыщения) повышение энтропии на поверхности кристаллической фазы в результате реализовавшейся флуктуации будет связано с актом роста кристалла. При большом разнообразии флуктуаций энтропии только небольшая их часть приводит к актам роста грани. Положительная флуктуация свободной энергии на поверхности грани вызывает десорбцию примесей с активных центров роста – изломов элементарных ступеней на некотором участке поверхности. В ходе быстрого неравновесного релаксационного процесса произойдет присоединение некоторого числа строительных частиц и примесей к изломам элементарных ступеней. Динамику явления релаксации, как ни покажется странным, можно описать уравнением, учитывающим исключительно адсорбцию примесей на десорбированном участке неравновесной грани кристалла [15]:
(1)
где Nс – количество свободных изломов ступеней на участке поверхности грани, затронутом флуктуацией, θ – кинетический коэффициент, определяющий темп заселения изломов на ступенях (мест присоединения строительных частиц) молекулами примеси и активированными комплексами, зависящий от температуры, а также концентраций примесных и строительных частиц в окружающей среде, но не от пересыщения (недосыщения) среды кристаллизации.
После этапа релаксации флуктуации следует гораздо более длительный этап равновесного преобразования искривленных ступеней в прямолинейные, равномерно распределенные ступени по Ландау [16]. Этот процесс происходит под воздействием непрерывных многочисленных мелких флуктуаций свободной энергии, не приводящих к заметным актам роста кристалла.
Условие выполнения второго начала термодинамики на локальном участке поверхности грани обусловлено математическими свойствами термодинамической флуктуации: отсутствием эффекта памяти, редкостью таких событий и стационарностью процесса. Напомним, что экспоненциальная зависимость, определяющая вероятность флуктуации Гиббса [13], с достаточной строгостью следует из вероятностной гипотезы о наличии трех перечисленных свойств флуктуации как случайного события [17, 18].
Таким образом, при описании кинетики роста грани становятся важны не столько скорости присоединения строительных частиц или примесей к поверхности грани в краткие моменты релаксации флуктуации, сколько общий интегральный итог – количество вещества, наросшего на участок грани кристалла в результате действия средней флуктуации. По этой причине время, обладающее свойством обратимости в описании динамики релаксационных процессов, присутствующее в уравнении (1), не должно использоваться и не используется в дальнейшем при выводе скорости роста кристалла [15].
Отметим, что сохранение равномерного ступенчатого рельефа стационарно растущей грани при фиксированном отклонении системы от равновесия указывает на дополнительные обстоятельства, реализующиеся в неравновесной системе на стадии равновесной трансформации по модели Ландау [16]:
- известно, что средняя величина флуктуации свободной энергии зависит только от температуры термодинамической системы и постоянна во времени [13]. Тогда независимо от характера рельефа поверхности число изломов ступеней в пределах среднего участка десорбции можно считать неизменным для данной системы. Постоянное число изломов подразумевает также равновесный механизм непрерывной генерации новых изломов, компенсирующих аннигиляцию их на ступени в ходе релаксационных событий. Поэтому уравнение (1), определяющее динамику релаксации флуктуации, описывает главный фактор – адсорбцию примесей на свободных изломах;
- если средний линейный размер области десорбции меньше расстояния между ступенями, то все квазиравновесные изломы ступени будут концентрироваться на десорбированном участке одной ступени [15]. Шаг изломов на ступени неизбежно будет уменьшаться до естественного предела: единичной трансляции структуры по линии ступени на данной грани кристалла.
Таким образом, прирастание кристаллического вещества к грани кристалла происходит в процессе непрерывных переходов от квазиравновесного состояния грани, покрытой адсорбатом, к неравновесному процессу релаксации флуктуации свободной энергии и обратно. Отсутствие эффекта памяти в случайном стационарном процессе флуктуаций энтропии играет роль организующего начала в этих переходах.
Стационарный рост кристалла
Суммируя события роста участка грани в моменты релаксации множества флуктуаций свободной энергии и вводя определенным образом “элементарное” время стационарного роста τ согласно условиям теоремы Хинчина [19], получим экспоненциальный закон плотности распределения вероятности для наросшего на грань кристаллического вещества в локальной точке грани [15]. Важно, что, выполнив предельный переход при вероятностном описании флуктуаций и постулируя элементарное необратимое время стационарного процесса, прирост вещества перестает зависеть от закона распределения интервала времени между двумя последовательными флуктуациями в данной области поверхности грани. Тогда общий прирост центрального расстояния от центра стационарного роста до грани растущего кристалла за длительное время стационарного процесса будет описываться распределением Эрланга [15].
В итоге “мгновенная”, в макроскопическом масштабе измерений необратимого времени, нормальная скорость роста в любой точке плоской грани определится выражением [15]:
(2)
где β – кинетический коэффициент, отражающий темп встраивания строительных частиц в структуру кристалла при данных термодинамических условиях, h0 – вектор Бюргерса винтовой дислокации, σf – относительное пересыщение раствора у поверхности грани кристалла (вдали от дислокации). Грань характеризуется относительными параметрами рельефа – и в которых l1 – среднее расстояние между изломами, расположенными вдоль одной элементарной ступени, l2 – среднее расстояние между ступенями, b – трансляционный параметр решетки (для простоты будем использовать тетрагональную симметрию грани). Кинетические коэффициенты β и θ близки по величине, поскольку отражают конкурентную борьбу схожих по размеру строительных и примесных частиц за свободный излом ступени. Произведение является инвариантом, зависящим от температуры системы, позволяющим подобрать оптимальное элементарное время стационарного роста и соблюсти условия теоремы перехода.
За элементарное, макроскопическое время стационарного роста τ происходит в среднем независимых флуктуаций с весьма значительной дисперсией – Отметим, что согласно теореме перехода [19] при условии q → 1 стандартное отклонение становится близким к числу флуктуаций за элементарное время. Таким образом, скорость роста грани за макроскопически наблюдаемые отрезки времени может колебаться в 60% случаев от нуля до удвоенной средней скорости. По этой причине значительные и хорошо задокументированные экспериментально скачки нормальной скорости роста можно считать обусловленными не мифическими “примесными стопорами” [11, 3], а случайным процессом флуктуаций свободной энергии на неравновесной грани, полностью заселенной примесями.
Модель винтовой дислокации и равновесное двумерное зародышеобразование
Поскольку в кинетике дислокационного роста кристалла важную роль играет рельеф поверхности, обсудим влияние отдельной винтовой дислокации на форму неустранимой элементарной ступени, выходящей из нее. Рассмотрим кристалл Косселя с примитивной кубической ячейкой в условиях термодинамического равновесия с раствором. Для описания энергии связи отдельной строительной частицы в структуре кристалла воспользуемся потенциалом Леннард-Джонса:
(3)
Подчеркнем, что, как в модели Ландау [16], данный потенциал служит только для анализа формы элементарной ступени, но не для описания всей динамики процесса спирального роста со всеми его особенностями.
Равновесное расстояние между частицами при парном взаимодействии в случае (3) хорошо известно: Однако с помощью расчетов легко установить, что для протяженного кубического кристалла минимум энергии взаимодействия частицы достигается на меньшем расстоянии rmin = 1.085c от ближайшего соседа. Расстояния в кристалле удобно рассчитывать в величинах r/rmin. Для поверхностной частицы, представляющей основной интерес в данной задаче, в первую координационную полусферу входит 17 соседей, а во вторую – 57.
Нетрудно убедиться, что основной вклад в энергию связи поверхностной частицы дает первая координационная сфера. Учет взаимодействия с частицами второй координационной сферы вносит систематическую поправку от 8 до 16%, усиливающую энергию связи частицы с кристаллом. В целях упрощения дальнейших расчетов ограничимся только двумя координационными сферами. При оценке энергии связей поверхностной частицы не будем учитывать влияние адсорбированной примеси, поскольку на этапе релаксации флуктуации поверхность грани свободна от примеси.
Пусть винтовая дислокация с единичным вектором Бюргерса выходит на поверхность кристалла в точке с координатами X = 0, Y = 0 (рис. 1). Если присвоить нулевое значение z-координаты верхней границе первого атома, его центр будет находиться в точке [[½.½.–½]]. Остальные три атома, расположенные вокруг дислокации, имеют координаты [[–½.½.–¼]], [[–½.–½.0]], [[½.–½.¼]].
Рис. 1. Расположение поверхностных атомов вокруг винтовой дислокации на грани с тетрагональной симметрией. Показан первый слой ближайших 16 атомов. Темным цветом здесь и в табл. 1 выделены атомы, непосредственно контактирующие с дислокацией.
Допустим, что z-координата любого поверхностного атома зависит линейно от угла поворота радиус-вектора, проведенного от оси дислокации к центру атома. Тогда положение z поверхностных атомов в первой четверти плоскости (x, y) при тетрагональной симметрии грани кристалла будет описываться выражением
(4)
Во второй и далее четвертях при повороте системы координат на π/2 z следует дополнительно увеличивать на ¼. Подчеркнем, что выражение (4) не обязано строго отражать термодинамические характеристики поверхности и приводить к минимуму свободную энергию кристалла, но при взаимное несогласие любых двух соседних поверхностных атомов, очевидно, быстро уменьшается, и влияние дислокации эффективно нейтрализуется.
Энергии связи поверхностных атомов по модели Леннард-Джонса, учитывающие две координационные сферы, приведены в табл. 1. Направление ступени выделено линией, схема взаимного расположения атомов в центральной части таблицы соответствует рис. 1, а положение дислокации отмечено точкой.
Таблица 1. Энергии связи поверхностных атомов вокруг винтовой дислокации с единичным вектором Бюргерса
–1.425 | –1.907 | –1.994 | –2.002 | –2.002 | –2.002 | –2.002 | –2.001 | –2.001 | –2.001 |
–2.164 | –1.426 | –1.908 | –1.994 | –2.002 | –2.002 | –2.002 | –2.002 | –2.002 | –2.001 |
–2.025 | –2.169 | –1.427 | –1.910 | –1.996 | –2.004 | –2.004 | –2.003 | –2.002 | –2.001 |
–2.002 | –2.027 | –2.179 | –1.431 | –1.921 | –2.001 | –2.008 | –2.004 | –2.002 | –2.002 |
–2.002 | –2.003 | –2.032 | –2.207 | –1.438 | –2.012 | –2.011 | –2.004 | –2.002 | –2.002 |
–2.002 | –2.002 | –2.006 | –2.046 | –2.211 | –2.071 | –2.008 | –2.004 | –2.002 | –2.002 |
–2.002 | –2.002 | –2.004 | –2.009 | –2.011 | –2.013 | –2.008 | –2.004 | –2.002 | –2.002 |
–2.001 | –2.002 | –2.003 | –2.004 | –2.004 | –2.004 | –2.004 | –2.003 | –2.002 | –2.001 |
–2.001 | –2.002 | –2.002 | –2.002 | –2.002 | –2.002 | –2.002 | –2.002 | –2.002 | –2.001 |
–2.001 | –2.001 | –2.001 | –2.002 | –2.002 | –2.002 | –2.002 | –2.001 | –2.001 | –2.001 |
Атомы, расположенные на краю ступени, слабо связаны с кристаллом (рис. 1, табл. 1). Для совершенной, бездислокационной, поверхности грани энергия связи любого поверхностного атома с атомами первых двух координационных сфер составляет ~U/4m = –2.0004, что при переходе на макроуровень отражает определенный химический потенциал вещества в структуре кристалла и соответствует некоторой равновесной концентрации окружающего кристаллообразующего раствора. Но для атомов в позициях 4, 5 и далее вдоль ступени [10] (рис. 1, табл. 1) относительное уменьшение химического потенциала составляет довольно большую величину
Преобразуя данное отношение в расчете на молярное количество атомов 4, 5 ступени (рис. 1) и выполняя переход к макроскопическим переменным при малой концентрации раствора (в приближении закона Рауля), получим
(5)
где – относительное изменение равновесной концентрации раствора для этих атомов (рис. 1). Раскладывая логарифм в ряд Тейлора и используя для примера свободную энергию Гиббса образования кристалла при нормальных условиях mc = –1000 Дж/(моль∙К), получим при термодинамическом равновесии идеальной плоской грани кристалла с раствором величину недосыщения для атомов на краю ступени, ориентированной по направлениям <110> в кубическом кристалле sʹ ≈ –0.15. Для сравнения величина недосыщения для атомов ступени, ориентированной по направлениям <100>, составит меньшую величину sʹ ≈ –0.10.
Расчеты показывают, что сила связи атомов на ступени <110> (табл. 1) закономерно меняется при удалении от дислокации с –1.438 до –1.424. Поэтому вероятность отрыва атома P = Z exp(–DW/kT) с края ступени вдали от дислокации будет выше, и именно там будут зарождаться новые изломы ступени. То же самое наблюдается для направления [100]. Но в этом случае сила связи меняется в другом диапазоне: от –1.688 до –1.600, что делает направление ступени [100] термодинамически более устойчивым и долгоживущим. Это обстоятельство является основанием для формирования полигональной (тетрагональной) спирали вдали от дислокации. Однако движение излома по направлению к дислокации приведет к вогнутости ступени и формированию полого округлого ядра вокруг дислокации (табл. 2), теоретически предсказанного из других соображений еще в 1950-х гг. [20, 21] и позже неоднократно наблюдаемого в атомно-силовых исследованиях процесса роста [3, 22]. Полое ядро дислокации диаметром до 50 мкм часто наблюдается даже при интерференционных измерениях рельефа поверхности и образуется за несколько секунд при плавном переходе от роста к растворению [15, 23].
Таблица 2. Относительные вероятности отрыва поверхностных частиц на равновесной поверхности грани вблизи винтовой дислокации
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.22 | 0.01 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0.87 | 0.89 | 0.27 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Подчеркнем, что описываемый процесс образования ядра дислокации (табл. 2) происходит в условиях термодинамического равновесия симметрично эквивалентной грани кристалла, не имеющей дефектов, с раствором. В табл. 2 линией обозначен нависающий край элементарной ступени, точкой – выход дислокации, а прямоугольником – адсорбированная примесь. Важно отметить, что адсорбированная примесь всегда увеличивает силу связи ближайших (в первой координационной сфере) поверхностных частиц с кристаллом. Цепную реакцию, приводящую в дальнейшем к полому ядру, можно описать следующим механизмом:
- случайный отрыв одной частицы с края прямолинейной ступени [100] вдали от дислокации, где энергия связи минимальна –1.600, образует излом на ступени, и связи двух соседних частиц сразу ослабевают до –1.364;
- далее отрываются соседние частицы и два излома начинают перемещаться по ступени в противоположных направлениях. Один из них завершается на дислокации или на неустранимой частице примеси.
Но вблизи выхода единичной дислокации вероятность отрыва уменьшается, а силы связей адсорбированных примесей увеличиваются, поскольку число изломов ступени растет. Примесь, сохранившаяся на поверхности грани в точке излома ступени, существенно понижает вероятность отрыва соседних частиц (табл. 2). Таким образом, в ядре дислокации формируется не полигональная, а округлая многовитковая спираль. При определенной концентрации неустранимых примесей на изломах ступени они способны остановить процесс разрастания ядра дислокации.
Обратим внимание на два обстоятельства:
- в физической модели дислокации с единичным вектором Бюргерса целью расчетов были вероятности отрыва строительных частиц от ступени вблизи линейного дефекта, но не скорости процесса развития полого ядра;
- модель Леннард-Джонса, имеющая дело исключительно с частицами, не допускает использование макроскопического понятия упругих напряжений, которые, безусловно, можно вводить в рамках другой физической модели [20, 21]. Заметим, что описываемая модель линейного дефекта фактически свидетельствует о тех же напряжениях, присутствующих вблизи дислокации, но иным, численным способом (табл. 2).
Важно, что модель потенциала Леннард-Джонса подтверждает, что вблизи дислокации формируется вогнутая округлая спираль, образующая полое ядро дислокации.
Используя полученное доказательство на языке макроскопической теории, оценим размеры полого равновесного ядра дислокации с помощью известной модели двумерного диска [20]. Средняя величина дополнительной свободной энергии при случайном образовании отрицательного диска – пустого пространства вокруг дислокации в кристалле Косселя – диаметром 2rʹ и единичной высотой b должна составлять
(6)
Первое слагаемое отвечает за возникновение дополнительной поверхности по боковой стенке однослойного диска, а второе – за изменение внутренней энергии кристалла, обусловленное потерей частиц, которые образовали бы конденсированное кристаллическое вещество в теле диска, ∆Gʹ – среднее изменение химического потенциала кристалла при встраивании одной строительной частицы в его деформированную (4) и напряженную поверхностную структуру вблизи дислокации, E – средняя энергия единичной связи между двумя поверхностными частицами в пределах определенной ниже площади грани.
Заметим, что переменная ∆Gʹ в расчете на одну поверхностную частицу не совпадает с таковой для частиц вдали от дислокации и, тем более, внутри кристалла, поскольку зависит от меньшего количества связей между частицами и нарушений структуры кристалла (упругих напряжений), а средняя энергия единичной связи E зависит и от количества неустранимых примесей-стопоров, располагающихся по изломам ступени.
Сохранение пустотелого диска на кристалле, находящегося в состоянии равновесия с окружающим раствором, определяется известным условием экстремума вариации свободной энергии в результате серии флуктуаций в данной области поверхности
(7)
Химический потенциал окружающего кристалл раствора по отношению к атомам, находящимся вблизи оси дислокации, отличается на величину
(8)
и закономерно принимает отрицательное значение, что было отмечено в [21]. В результате решения вариационного уравнения (7) получим радиус кривизны боковых стенок равновесного диска на месте винтовой дислокации:
(9)
Здесь представлено некоторое среднее “равновесное” значение эффективного недосыщения s0ʹ для атомов в пределах некоторой площади, охваченной указанным радиусом (9) вокруг дислокации в моменты десорбции примесей. В данном случае эффективное недосыщение характеризует дислокацию с единичным вектором Бюргерса (рис. 1). На периферии диска локальное значение недосыщения для поверхностных строительных частиц приближается к среднему значению, которое отражает квазиравновесное, равномерное распределение эшелона ступеней по Ландау на грани кристалла в условиях тотальной адсорбции примесей. Заметим, что термодинамика существования эшелона ступеней на грани кристалла требует небольшой избыточной концентрации строительных частиц, что не противоречит достижению максимума отталкивания ступеней между собой по модели Ландау. Эту величину недосыщения при локально равновесном подходе можно приравнять к нулю.
Нетрудно обобщить отрицательную величину изменения свободной энергии кристалла в результате одного оборота полого диска с учетом вектора Бюргерса h0:
(10)
что при термодинамическом равновесии в макросистеме указывает на естественный процесс понижения свободной энергии согласно второму началу термодинамики. Здесь при бóльших векторах Бюргерса средняя сила связи атомов на краю ступени и средняя энергия единичной связи между двумя поверхностными частицами будут принимать меньшие значения. Поэтому радиус ядра дислокации увеличится.
Отметим, что запись химпотенциала по формуле (8) [13] позволяет учесть упругие напряжения кристалла, безусловно возникающие вблизи дефекта. Это преимущество формулы дает возможность описать динамику роста, активно используя понятие пересыщения, и не обсуждать энергию деформации, что отличает данный подход от [21].
Заметим также, что одна из главных особенностей флуктуационной модели роста заключается в том, что случайный поток актов роста в ходе релаксационных процессов делает некорректным описание собственного движения элементарной ступени по поверхности грани кристалла, как это сделано в классической теории Бартона–Кабреры–Франка [9] и работах многочисленных последователей [21, 26, 27]. Кроме того, равновесная трансформация ступеней происходит после каждого локального акта прироста вещества к грани, в промежутках между флуктуациями. Этот, подчеркнем, квазиравновесный процесс, происходящий под воздействием множества мелких флуктуаций свободной энергии, статистически приводит к макроскопическому выравниванию поверхности кристалла по модели Ландау до такого состояния, что в широком диапазоне пересыщений визуально и интерферометрически регистрируется практически плоская грань (рис. 2).
Рис. 2. Интерферограмма полигональных пирамид роста двух винтовых дислокаций на поверхности грани (111) алюмо-калиевых квасцов. Пространственная частота интерференционных полос пропорциональна частоте элементарных ступеней. Нижняя дислокация (черная стрелка) обладает вдвое большим вектором Бюргерса, и ее пирамида роста активно поглощает верхнюю пирамиду (белая стрелка). Угол между базовой поверхностью грани октаэдра алюмо-калиевых квасцов и наклонной плоской гранью растущей пирамиды, представляющей собой простую кристаллографическую форму тетрагонтриоктаэдра, меняется обычно в диапазоне от 10 до 20 угловых минут [14].
В более глубоких слоях кристаллического вещества, окружающего дислокацию, формируется второй и последующие полые диски с меньшими радиусами. Форма полого ядра дислокации зависит от особенностей межатомных связей в структуре кристалла, вектора Бюргерса винтовой дислокации и химического строения адсорбата, находящегося в среде кристаллизации, и, как самостоятельная физическая задача, допускает использование разных подходов для ее описания [20, 22]. Но эта задача не имеет прямого отношения к теории роста кристалла. Приведенная выше модель с потенциалом Леннард-Джонса описывает случай единичного вектора Бюргерса (рис. 1, табл. 1, 2) и не предназначена для описания сформировавшегося ядра дислокации.
Важно отметить, что при переходе от состояния равновесия к росту кристалла ядро дислокации может сохраниться только до определенного пересыщения, когда в области ядра дислокации (рис. 1) среднее поверхностное пересыщение раствора еще не способно компенсировать локальное эффективное недосыщение. В рамках используемого приближения формулы (8) можно записать
(11)
Здесь для дислокаций с разными векторами Бюргерса актуально различное значение недосыщения s0ʹ. Поэтому в исследованиях роста кристаллов, выполненных с помощью атомно-силовой микроскопии (АСМ), неоднократно отмечалось [3, 22], что ядра дислокаций наблюдаются только при малых пересыщениях, а пороговые значения их появления зависят от вектора Бюргерса.
Образование дислокационной пирамиды
На выходе из ядра дислокации элементарная ступень при наличии пересыщения образует разбегающуюся спираль, приводящую к формированию дислокационной пирамиды (рис. 2).
Анализ событий, происходящих в области десорбции примесей в результате средней флуктуации свободной энергии на грани кристалла, в первом приближении приводит к формуле, определяющей “мгновенную”, в макроскопическом масштабе измерений, нормальную скорость роста участка грани кристалла (2).
Частота ступеней m2 на боковой грани дислокационной пирамиды зависит от критической кривизны элементарной ступени, прилегающей к ядру винтовой дислокации r [11, 5]. При большом векторе Бюргерса дислокации h0 и малых пересыщениях начальная ступень распадается на элементарные ступени на расстояниях ~100 нм от дислокации [3, 22].
Для описания пирамиды роста вновь воспользуемся моделью двумерного зародыша (6). Однако обратим внимание, что в данном случае за пределами полого ядра дислокации, если оно присутствует (11), у поверхности грани действует пересыщение раствора sf, а ∆G представляет собой среднее изменение химического потенциала кристалла при встраивании одной строительной частицы в недеформированную структуру кристалла и отличается от значения ∆Gʹ. Для элементарной ступени получим радиус
(12)
Обсудим изображение рельефа поверхности грани (010) кристалла бифталата калия, извлеченного из пересыщенного раствора, приведенное в [3] (рис. 3). Только у трех дислокаций: одной с вектором Бюргерса 3b, образующей трехходовую спираль, обозначенной цифрой 2, и двух с вектором 2b (нижняя выделена малым кружком), наблюдаются полые ядра. Остальные четыре дислокации с единичным вектором b, оказавшиеся в пределах кадра, не имеют полых ядер. Семь обнаруживаемых дислокаций имеют один знак. Все полигональные элементарные ступени, в среднем равномерно удаленные друг от друга и ориентированные по преимущественным, согласно [24], направлениям <001>, <101> и <102>, на поворотах демонстрируют закругление со средним значением радиуса 100 нм и стандартным отклонением 20 нм. Выполнено 21 измерение радиуса закругления полигональной ступени на приведенном на рис. 3 изображении. Согласно температуре плавления бифталата калия (573 K) энергия связи E условных строительных частиц в кристалле составляет ~10–20 Дж (0.05 эВ). Учитывая размеры двумерных зародышей на изломах полигональных ступеней, с помощью формулы (12) можно сделать вывод, что последняя стадия роста грани перед извлечением кристалла из раствора и выполнением съемки поверхности (рис. 3) происходила при относительном пересыщении sf = 0.012. Поскольку одноходовые дислокации при разрешении данного снимка, составляющем ~20 нм, не демонстрируют полых ядер (rʹ < 20 нм), то из формулы (9) и закона определяющего термодинамический предел существования макропеременной для конденсированного вещества (радиуса ядра) [25], следует, что предельное недосыщение sʹ0 для строительных частиц на элементарной ступени вблизи дислокации по модулю не превышает 0.012. Таким образом, для дислокаций с единичным вектором Бюргерса критерий (11) при выращивании данного кристалла был преодолен, чего нельзя сказать о двух- и трехходовых дислокациях, расположенных в пределах кадра.
Рис. 3. АСМ-изображение грани бифталата калия, полученное в [3]. Точками отмечены выходы четырех дислокаций с единичным вектором Бюргерса. Кристаллографические направления выделены в соответствии с симметрией грани, описанной в [24].
Если пакет ступеней образован вектором Бюргерса h0, то, учитывая естественное ограничение угловой скорости вращения элементарной ступени из раскрытого пакета вектора Бюргерса при выходе на плоскую квазиравновесную грань [11], получим параметр рельефа
(13)
Таким образом, при равномерном чередовании элементарных ступеней на грани дислокационной пирамиды в режиме модели Ландау в формуле скорости роста (2) неизбежно появляется квадратичная зависимость от пересыщения раствора у поверхности грани:
(14)
Когда вектор Бюргерса составляет две элементарные ступени, то частота ступеней увеличивается вдвое (13), и вероятность присоединения строительных частиц к большему числу изломов и нормальная скорость роста возрастают в той же пропорции, что хорошо диагностируется при интерферометрических наблюдениях (рис. 2) [23].
Таким образом, после десорбции примесей на любом недеформированном участке грани вдали от дислокации, где существуют повороты единичных ступеней, радиус кривизны поворота строго соответствует радиусу двумерного зародыша (12) (рис. 3). Это обстоятельство благодаря процессам равновесной трансформации поверхности по Ландау обеспечивает сохранность стационарной, макроскопически плоской растущей грани.
Проблема нелинейности кинетики роста грани
Наблюдения за ростом кристаллов приводят к хорошо известной нелинейной зависимости скорости роста от величины общего пересыщения в хорошо перемешиваемом растворе [11, 28, 23] (рис. 4). Обычно для анализа таких кинетических кривых неявно применяется линейная зависимость между пересыщениями раствора вдали от кристалла и у поверхности грани [11] во всем диапазоне пересыщений:
(15)
В рамках этой гипотезы (15) обсудим эмпирические данные (рис. 4). На начальном этапе зависимость скорости нормального роста грани от общего пересыщения раствора напоминает квадратичную (14), но с некоторого пересыщения (σ > 0.06) она явно становится линейной (рис. 4, направление для гексаэдра квасцов выделено пунктиром).
Рис. 4. Кинетика роста граней кристалла алюмо-калиевых квасцов в водном растворе при активном перемешивании, полученная с помощью интерферометра Майкельсона [23]. T = 20°C. Грани простых форм: 1 – {111}, 2 – {100}, 3 – {110}.
В классических теориях роста переход от нелинейной кинетики к линейной связывают с тем обстоятельством, что на чистой поверхности грани без присутствующих примесей длина свободного пробега адсорбированной строительной частицы становится больше среднего расстояния между ступенями [11]. Однако в рамках флуктуационной модели, опирающейся на макропроцессы, к аргументам, полученным на основе анализа динамики частиц, обращаться некорректно. Кроме того, напомним, что поверхностная диффузия адсорбированных на грани кристалла строительных частиц происходит в моменты релаксации флуктуации свободной энергии, а согласно обсуждаемой в данной статье термодинамической флуктуационно-адсорбционной модели все процессы релаксации, включая поверхностную диффузию, уже учтены интегрально в выражении (2) [15]. Диффузия частиц на стадии равновесной трансформации ступеней по модели Ландау фактически не влияет на кинетику роста грани. Поэтому переход к линейной тенденции скорости роста с ростом пересыщения может быть обусловлен только макроскопической перестройкой рельефа грани, очевидно, связанной с нарушением макроскопического равновесного механизма равномерного чередования ступеней по Ландау. C ростом пересыщения параметр рельефа m2, как следует из (13), уменьшается, и рано или поздно наступает предельный случай – исчезает его зависимость от пересыщения. Точнее, равновесная модель Ландау, использованная в рамках излагаемой теории, описывающая события отталкивания ступеней в определенной локально равновесной области, перестает работать. Следует признать, что граница применимости теории равномерных ступеней по шкале пересыщений пока не разработана, но то, что эта модель должна быть ограничена определенным диапазоном пересыщений, не вызывает сомнений.
Структурные изменения поверхности грани могут не проявляться визуально. Так, можно утверждать, что при критическом пересыщении 0.06 на грани гексаэдра квасцов пакет ступеней, обусловленный большим вектором Бюргерса, не успевает разделиться на элементарные ступени и непрерывно перемещается по поверхности дислокационной пирамиды до ее основания. Например, если вектор Бюргерса составляет четыре элементарных ступени, то пакет, выходящий из ядра дислокации, не превышает по высоте 1 нм. Поскольку разрешение лазерного интерферометра составляет 300 нм, то нарушение модели Ландау на интерферограмме будет незаметно (рис. 2, 4). Тем не менее переход к линейной зависимости скорости роста от пересыщения в большей степени свидетельствует о вступлении в силу нового макрофеномена (агрегации макроступеней), описанного в [11].
Обратим внимание еще на одно важное обстоятельство, вытекающее из флуктуационной модели. Макроступени локально создают большую плотность изломов. Нетрудно понять, что локального значения избытка свободной энергии при флуктуации, зависящей только от температуры системы, может оказаться недостаточно для десорбции примесей со всех активных центров локального участка крупной макроступени, что будет способствовать торможению тангенциальной скорости распространения макроступени. Поэтому в области макроступени термодинамический параметр m2 приближается к постоянной эффективной величине, определяемой формой макроступени, и перестает зависеть от пересыщения. В этой обстановке нормальная скорость роста грани начинает увеличиваться линейно с пересыщением sf, формула (2) (рис. 4). Заметим, что для граней разных простых кристаллографических форм переход к линейному закону (2) происходит при различных пересыщениях.
Таким образом, при дислокационном росте грани кристалла на термодинамическом уровне описания выявляются разные независимые значения относительных изменений концентрации раствора, имеющие смысл термодинамических сил, управляющих различными процессами в ходе роста грани. Пока в неравновесных условиях взаимодействия грани кристалла с окружающей средой в небольшой области вблизи выхода винтовой дислокации выполняется условие (11), будет существовать полое ядро, размеры которого зависят от вектора Бюргерса линейного дефекта (рис. 3).
При этом критическая кривизна элементарной ступени, определяющая индексы грани дислокационной пирамиды, формируется в областях, не связанных с ядром дислокации. Движущей силой процесса формирования рельефа грани и ее роста становится пересыщение раствора σf. Взаимосвязь между sʹ0 и σf иллюстрируется появлением или исчезновением полого ядра винтовой дислокации (11).
Но в объеме раствора существует третье значение пересыщения σ. Заметим, что пересыщения σf и σ во всем диапазоне пересыщений не связаны линейной зависимостью (15) даже при активном перемешивании раствора. Поэтому для эмпирической зависимости, приведенной на рис. 4, нельзя построить единое теоретическое уравнение.
Предполагая, что все строительное вещество, диффузионно поступающее через вязкий, ньютоновский пограничный слой к растущей грани кристалла, откладывается на его поверхности, получим для стационарной скорости роста грани граничное условие:
(16)
где D – коэффициент диффузии строительного вещества в растворе, ρ – плотность кристалла, dcf/dx – нормальный градиент концентрации строительного вещества в растворе на контакте с поверхностью грани.
Из выражений (14) и (16) в линейном приближении ламинарного пограничного слоя получим связь между пересыщениями:
(17)
где – безразмерный параметр, δ – толщина линейного пограничного слоя. Подчеркнем, что режим роста грани можно определить не значением пересыщения, а величиной параметра ω. При малых ω режим роста грани тяготеет к кинетическому, тогда а при больших – к диффузионному Однако из данных, приведенных на рис. 4, сложно установить значение параметра ω. В общем виде нелинейный участок эмпирической закономерности на рис. 4 можно аппроксимировать сложным выражением, которое получается комбинацией уравнений (14) и (17).
Иная ситуация развивается в области пересыщений (рис. 4). На основании формул (2) и (16) для макроступенчатого рельефа нетрудно вывести выражение (15), и режим роста на этом участке всегда будет определяться только значением постоянного коэффициента ϑ, который легко установить эмпирически.
Линейный режим Онзагера
При малых пересыщениях в описанной выше макроскопической, неравновесной модели роста при движении системы к термодинамическому равновесию важной проблемой становится обоснование линейного режима Онзагера. В квазистационарном режиме существования открытой термодинамической системы при уменьшении отклонения от равновесия любой термодинамический поток должен выражаться как линейная комбинация всех термодинамических сил [13]. В простейшем виде должна проявляться линейная связь между сопряженными термодинамическими силой (F) и потоком (J).
Рассмотрим неравновесную термодинамическую систему, включающую в себя участок поверхности одной из граней дислокационной пирамиды в масштабе 0.1 мм и тонкий прилегающий к ней слой раствора, который будем считать однородным. В такой открытой системе в масштабе элементарного времени стационарного процесса [15] ограничимся только ростом кристалла. Поэтому термодинамическим потоком является вектор скорости роста v = vnf, направленный по нормали к грани пирамиды.
При скалярной природе энтропии термодинамической силой тоже должен быть вектор. Это правило следует не только из векторной алгебры, но и отражает принцип симметрии в термодинамике, связанный с именем И. Пригожина [13]. Поэтому на роль термодинамической силы не подходит скалярная величина разности химических потенциалов строительного вещества в растворе и кристалле, выражаемая общим пересыщением раствора – σ. Термодинамической силой может быть вектор перепада химического потенциала строительного вещества в однородном растворе, прилегающем к данной растущей грани, и кристалле. При малых пересыщениях его можно преобразовать к виду где R – газовая постоянная, ρ – плотность кристалла, nf – единичный вектор нормали к грани дислокационной пирамиды. Тогда линейный режим Онзагера можно выразить формулой
(18)
где с учетом выражения (2) получим – скалярный кинетический коэффициент Онзагера. Таким образом, согласно теории Онзагера при уменьшении пересыщения кинетический коэффициент должен стремиться к константе. Но опытные данные (рис. 4) и выражения (14) и (17), казалось бы, этому противоречат. Проблема заключается в морфологическом параметре µ2, который зависит от пересыщения.
Грани пирамиды, образованной более активной дислокацией (рис. 2, черная стрелка), представляют собой простую кристаллографическую форму тетрагонтриоктаэдра с индексами Миллера {45.45.46}, и эшелон элементарных ступеней при падении пересыщения будет неизбежно увеличивать индексы Миллера. Таким образом, выделенная термодинамическая система движется не только поступательно, но и испытывает поворот. Поэтому проверить условия линейного режима Онзагера для такой движущейся системы в широком диапазоне пересыщений затруднительно.
Тем не менее можно убедиться, что при предельном переходе к равновесию, когда термодинамические поток и сила устремляются к нулю, кинетический коэффициент L стремится к постоянной величине. Согласно (12) в равновесии дислокационная спираль за пределами ядра дислокации должна выпрямляться в единичную линейную ступень (табл. 2). Если кристалл находится в гравитационном поле Земли, то наклонная грань кристалла должна разбиваться на блоки с размером между ними l, не превышающим 1–2 см [29]. Поэтому при наличии дислокации в пределах такого блочного участка грани естественно возникает ограничение для морфологического параметра m2 ≤ l/b. Тогда кинетический коэффициент Онзагера будет стремиться к малой, но постоянной величине. Это обстоятельство, тесно связанное с гравитацией, служит доказательством перехода к линейному режиму Онзагера при бесконечно малых пересыщениях.
В этих условиях локальная плотность производства энтропии для обсуждаемой микроскопической термодинамической системы выражается квадратичной зависимостью от пересыщения раствора у поверхности грани:
(19)
Для данной микросистемы модуль термодинамической силы, определяющей нормальную скорость роста участка грани кристалла, составляет только часть той общепринятой “движущей силы кристаллизации”, под которой обычно понимают разность химических потенциалов строительного вещества в растворе и кристалле, и, соответственно, среднее макроскопическое пересыщение раствора – σ.
Рассмотрим другую термодинамическую систему, включающую в себя макроскопический участок поверхности грани площадью П0 ≈ 1 см2 (рис. 2) и пограничный слой раствора при нормальных условиях толщиной ~0.5 мм [30]. При обсуждении условий линейного режима Онзагера кроме процесса присоединения строительных частиц к грани следует учитывать транспорт вещества через пограничный слой. Сопряженной термодинамической силой для диффузионного потока вещества (вектора) служит средний градиент химического потенциала (градиент концентрации) в пограничном слое у поверхности кристалла.
Скалярное произведение транспортных векторов термодинамической силы и потока дает дополнительное слагаемое в производство энтропии. Средняя плотность производства энтропии на площади П0 при переходе к ламинарному режиму движения раствора вдоль грани и с учетом двух процессов при интегрировании определяется простым выражением [30]:
(20)
где ln(cs/c0) ≈ s – пересыщение раствора вдали от грани кристалла за пределами пограничного слоя. На выделенной площади грани кристалла могут располагаться несколько дислокационных пирамид, и средняя скорость роста грани будет зависеть от обобщенных значений морфологических параметров µ1,2, которые при движении к равновесию стремятся к постоянным значениям по описанным выше причинам. Напомним, что µ1 зависит от температуры и химического состава термодинамической системы, но не от пересыщения. Тогда вновь реализуется линейный режим неравновесного стационарного роста и выводится квадратичная зависимость плотности производства энтропии от общего пересыщения раствора:
(21)
В отличие от (19) в данном случае обобщенная термодинамическая сила выражается через общее пересыщение раствора и сопряжена с макроскопической усредненной по большой площади грани нормальной скоростью роста грани (111) (рис. 2) v = vn. Эта сила учитывает не только встраивание строительных частиц в структуру грани, но и их диффузию через пограничный слой раствора. Только в таком, феноменологическом, интегральном случае появляется возможность оперирования традиционным значением пересыщения раствора, легко измеряемого любым нелокальным методом.
Заключение
В соответствии с целью работы показано, как во флуктуационной теории роста кристалла, охватывающей широкий диапазон масштабов, тесно взаимосвязаны многочисленные равновесные и неравновесные подходы к описанию отдельных процессов и явлений. Осуществление этих переходов значительно облегчает отсутствие эффекта памяти у случайного процесса термодинамических флуктуаций, приводящего к самопроизвольному росту энтропии в замкнутой системе или достижению минимума принуждения в открытой системе.
При малых пересыщениях в модели дислокационного роста появляются два типа двумерных зародышей на поверхности грани, а также неустранимые транспортные явления в среде при росте макрокристалла, которые создают условия для использования трех различных значений пересыщения (недосыщения) раствора, управляющих физическими явлениями, сопровождающими рост кристалла.
Важно подчеркнуть, что во флуктуационной модели вследствие принятого элементарного масштаба времени не возникает необходимости привлекать молекулярно-кинетические процессы движения отдельных строительных частиц в объеме раствора и по поверхности грани. Поэтому нельзя считать корректным сравнение аргументов обсуждаемой флуктуационной модели и классической теории Бартона–Кабреры–Франка [9].
Показано, что линейный режим Онзагера неравновесного роста реализуется на двух уровнях термодинамических масштабов вблизи перехода к равновесию – на границе применимости термодинамики и на феноменологическом макроуровне. Условия реализации линейного режима с учетом всех перекрестных эффектов в данной работе не показаны по той причине, что перекрестные процессы – рассеяние теплоты кристаллизации, теплоты диффузии и гравитационный эффект роста [29, 30] – дают вклады в производство энтропии, на порядки меньшие, чем основные описанные процессы.
Работа выполнена в рамках государственного задания Института геологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (№ АААА-А17-117121270036-7).
About the authors
V. I. Rakin
Institute of Geology FRC Komi SC UB RAS
Author for correspondence.
Email: rakin@geo.komisc.ru
Russian Federation, Syktyvkar
References
- Rakin V.I. // Crystallography Reports. 2016. V. 61. № 3. P. 517. https://doi.org/10.1134/S1063774516020152
- Пискунова Н.Н. // Зап. Рос. минерал. о-ва. 2022. Ч. 151. № 5. С. 112. https://doi.org/10.31857/S0869605522050069
- Рашкович Л.Н., Петрова Е.В., Шустин О.А., Черневич Т.Г. // ФТТ. 2003. Т. 45. № 2. С. 377.
- Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М.: ИЛ, 1961. 151 с.
- Ракин В.И. // Crystallography Reports. 2023. V. 68. № 2. P. 329. https://doi.org/10.1134/S106377452302013X
- Пригожин И. Введение в термодинамику необратимых процессов. М.: ИЛ, 1960. 128 с.
- Больцман Л. Избранные труды. М.: Наука, 1984. 590 с.
- Кэрролл Ш. Вечность. В поисках окончательной теории времени. СПб.: Питер, 2016. 512 с.
- Burton W.K., Cabrera N., Frank F.C. // Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences. 1951. V. 243 (866). P. 299. https://doi.org/10.1098/rsta.1951.0006
- Rakin V.I. // Crystallography Reports. 2022. V. 67. № 2. P. 294. https://doi.org/10.1134/S1063774522020122
- Чернов А.А., Гиваргизов Е.И., Багдасаров Х.С. и др. Современная кристаллография (в 4 томах). Образование кристаллов. М.: Наука, 1980. Т. 3. 408 с.
- Stiller W. Arrhenius Equation and Non-equilibrium Kinetics: 100 Years Arrhenius Equation. Leipzig: Publisher BSB Teubner B.G., 1989 160 p.
- Пригожин И., Кондепуди Д. Современная термодинамика. От тепловых двигателей до диссипативных структур. М.: Мир. 2002. 461 с.
- Rakin V.I. Crystallography Reports. 2023. V. 68. № 2. P. 329. https://doi.org/10.1134/S106377452302013X
- Rakin V.I. // Crystallography Reports. 2022. V. 67. № 7. P. 1259. https://doi.org/10.1134/S1063774522070252
- Ландау Л.Д. О равновесной форме кристаллов: Сборник, посвященный семидесятилетию академика А.Ф. Иоффе. М.: Наука, 1950. 44 c.
- Венцель Е.С. Теория вероятностей: Учеб. для вузов. 7-е изд. М.: Высш. шк., 2001. 575 с.
- Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей. М.: Едиториал УРСС, 2005. 448 с.
- Хинчин А.Я. Предельные теоремы для сумм независимых случайных величин. М.; Л: ОНТИ НКТП СССР, 1938. 116 с.
- Frank F.C. //Acta Cryst. 1951. V. 4. P. 497.
- Cabrera N., Levine M.M. // Philos. Mag. 1956. V. 1. № 5. P. 450. https://doi.org/10.1080/14786435608238124
- De Yoreo J.J., Land T.A., Lee J.D. // Phys. Rev. Lett. 1997. V. 78. № 23. P. 4462.
- Ракин В.И. Пространственные неоднородности в кристаллообразующей системе. Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2003. 370 с.
- Hottenhuis M.H.J., Lucasius C.B. // J. Cryst. Growth. 1989. V. 94. № 3. P. 708.
- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Статистическая физика. Ч. 1. (сер. “Теоретическая физика”. Т. 5.). М.: Наука, 1976. 584 с.
- Gilmer G.H., Ghez R., Cabrera N. // J. Cryst. Growth. 1971. V. 15. P. 79. https://doi.org/10.1016/0022-0248(71)90027-3
- Van Der Erden J.P. // J. Cryst. Growth. 1982. V. 56. P. 174. https://doi.org/10.1016/0022-0248(82)90027-6
- Трейвус Е.Б. // Зап. Всесоюз. минерал. о-ва. 1989. № 3. С. 91.
- Rakin V.I. // Crystallography Reports. 2022. V. 67. № 2. P. 286. https://doi.org/10.1134/S1063774522020110
- Rakin V.I. // Crystallography Reports. 2020. V. 65. № 6. P. 1051. https://doi.org/10.1134/S1063774520060309
Supplementary files