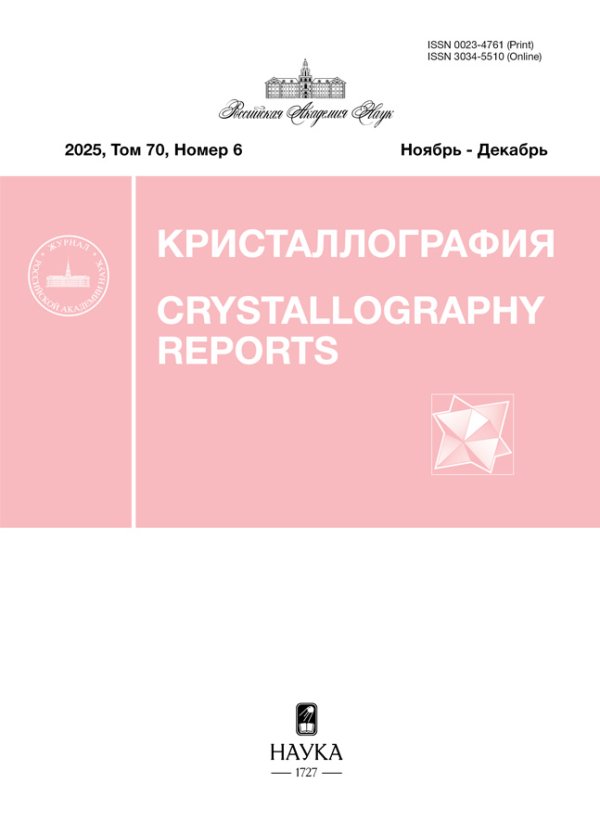Conduction band electronic states of ultrathin furan-phenylene co-oligomer on the surfaces of oxidized silicon and of layer-by-layer grown zinc oxide
- Authors: Komolov А.S.1, Pronin I.A.2, Lazneva Е.F.1, Sobolev V.S.1, Dubov E.A.1, Komolova A.A.1, Zhizhin Е.V.1, Pudikov D.A.1, Pshenichnyuk S.A.3, Becker C.S.4, Kazantsev M.S.4, Akbarova F.D.5, Sharopov U.B.5,6
-
Affiliations:
- St. Petersburg State University
- Penza State University
- Institute of Molecule and Crystal Physics, Ufa Federal Research Centre, Russian Academy of Sciences
- N. N. Vorozhtsov Novosibirsk Institute of Organic Chemistry, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences
- Physical-Technical Institute, Uzbekistan Academy of Sciences
- Bukhara State University
- Issue: Vol 69, No 4 (2024)
- Pages: 670-675
- Section: НАНОМАТЕРИАЛЫ, КЕРАМИКА
- URL: https://bakhtiniada.ru/0023-4761/article/view/264421
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0023476124040139
- EDN: https://elibrary.ru/XCDNNL
- ID: 264421
Cite item
Full Text
Abstract
The paper reports on results of an investigation of the electronic states of the conduction band of ultrathin films of furan-phenylene co-oligomer 1,4-bis(5-phenylfuran-2-yl)benzene (FP5) and the results of an investigation of the interfacial potential barrier upon the formation of these films on the surfaces of (SiO2)n-Si and of layer-by-layer deposited ZnO. Upon deposition of an 8–10 nm thick FP5 film, the total current spectroscopy (TCS) technique was used for investigation within the energy range from 5 eV to 20 eV above EF. FP5 films on the (SiO2)n-Si surface showed a domain structure with a characteristic domain size of the order of 1 micro.m × 1 micro.m and a surface roughness within the domain under 1 nm. In contrast, FP5 on the ZnO surface showed a granular structure with a grain height of 40–50 nm.
Full Text
Введение
Изучение электронных свойств органических материалов на основе π-сопряженных молекул представляет значительный интерес в плане разработки активных слоев органических фотовольтаических, светоизлучающих, транзисторных устройств [1–4]. Одними из перспективных видов молекул для формирования материалов органической электроники являются фуран-фениленовые соолигомеры (ФФСО) [5]. Материалы на их основе продемонстрировали квантовый выход фотолюминесценции до 80%, подвижность дырок как носителей заряда достигала 0.4 см2/(В·с) [5–7]. При осаждении из раствора пленки ФФСО формировали кристаллиты размером до 100 нм. Вероятно, высокая степень кристалличности пленок определяет достаточно высокую дырочную подвижность и эффективность люминесценции. Исследование электронного транспорта в структурах на основе незамещенных ФФСО затруднено по причине достаточно малого электронного сродства таких материалов, что является причиной формирования значительного инжекционного барьера в пленке материала из металлов, обычно используемых в качестве электродов [5]. Уменьшения пограничного барьера для инжекции электронов можно достичь введением электроноакцепторных функциональных групп в молекулу ФФСО. Так, в отдельных случаях удалось снизить значение энергии границы зоны проводимости на 0.5 эВ в материалах на основе фторзамещенных молекул ФФСО по сравнению с незамещенными [5]. С фундаментальной точки зрения представляет интерес исследование не только расположения энергетических уровней транспорта носителей заряда в пленках светоизлучающих полупроводников, но и энергетических состояний в валентной зоне и в зоне проводимости. Особое внимание следует уделять возможному влиянию материала подложки и пограничной области пленки и подложки на структуру максимумов электронных состояний в сформированном на подложке органическом слое ФФСО [8–11].
Наряду с наиболее распространенными кремниевыми подложками представляют интерес подложки на основе бинарных полупроводников, например ZnO, поскольку они могут использоваться в транзисторных и фотовольтаических устройствах [12–14]. Одним из хорошо контролируемых методов формирования двумерных неорганических полупроводников является метод молекулярного наслаивания [13–15]. С его помощью могут быть сформированы сплошные ZnO-покрытия исходной кремниевой подложки толщиной от нескольких нанометров до нескольких сотен нанометров. В [15, 16] были исследованы электронные состояния зоны проводимости пленок на основе малых сопряженных органических молекул и сопряженных олигомеров на полупроводниковых подложках. Измерения проводили методом спектроскопии полного тока. Результаты хорошо соответствуют данным, полученным с помощью других методик, например спектроскопии электронного захвата [17, 18]. В настоящей работе изучены электронные свойства пленок ФФСО на поверхности окисленного кремния и послойно выращенного ZnO. Методом спектроскопии полного тока исследованы структура незаполненных электронных состояний зоны проводимости, характеристика пограничного потенциального барьера между пленкой и подложкой. Приведены данные о топографии поверхности пленок ФФСО, полученные методом атомно-силовой микроскопии (АСМ).
Материалы и методы
В качестве подложек для нанесения пленок использовали поверхности (SiO2)n-Si и полупроводника ZnO, приготовленного методом молекулярного наслаивания. Поверхность (SiO2)n-Si предварительно очищали в 10%-ном растворе HF. В результате такой процедуры очистки на поверхности кремния формируется слой реального оксида кремния толщиной 3–5 нм. Помимо этого из воздуха на поверхность адсорбируются кислород- и углеродсодержащие примеси [16, 19]. С целью удаления излишних примесей непосредственно перед нанесением органического покрытия поверхности подложек очищали с помощью фокусированного пучка ксеноновой лампы высокого давления, световое воздействие которого приводило к нагреву поверхности до 300°C. При такой обработке поверхности частично удаляются адсорбированные атомы, а слой реального оксида не подвергается существенному воздействию, как было показано ранее при исследованиях методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии [15, 16]. Достижение более высокой степени очистки поверхностей подложек нецелесообразно, так как при конструировании устройств органической электроники использование поверхностей с более высокой степенью очистки затруднено. Для синтеза ZnO использовали реагенты диэтилцинк и деионизированную воду, в атмосфере которых при температуре 200–250°C поочередно экспонировали поверхность кремниевой подложки, как описано в [20]. Приготовленные методом молекулярного наслаивания покрытия ZnO имеют ширину запрещенной зоны 3.4 эВ, т. е. значения, характерные для этих полупроводниковых материалов [14]. Для приготовления пленок ФФСО использовали 1,4-бис(5-фенилфуран-2-ил)бензол (FP5) (рис. 1), синтезированный согласно [7]. Дегазацию реактивов проводили путем выдерживания в вакууме при базовом давлении 10–6 Па и температуре 100°C в течение 2–3 ч. Термическое вакуумное осаждение покрытий FP5 толщиной до 10 нм на подложки (SiO2)n-Si и ZnO осуществляли со скоростью 0.1 нм/мин. Во время осаждения пленок допускали повышение давления в вакуумной камере на порядок от базового давления.
Рис. 1. Структурная формула молекул соолигомера 1,4-бис(5-фенилфуран-2-ил)бензола (FP5).
Электронные свойства пленок измеряли методом спектроскопии полного тока в процессе осаждения пленок FP5 на каждую из выбранных для исследований подложек. Измерения проводили 10–15 раз при увеличении суммарной толщины органического покрытия до 8–10 нм. В эксперименте тестирующий пучок электронов площадью поперечного сечения 0.2–0.4 мм2 был направлен по нормали к исследуемой поверхности, с помощью синхронного (lock-in) усилителя регистрировали производную по энергии от полного тока S(E), проходящего через образец [16, 21]. Энергетический диапазон зоны проводимости образца составлял от нуля до 25 эВ относительно уровня вакуума (Evac) поверхности. При совпадении энергии падающего пучка и Evac поверхности регистрировали первичный максимум спектра полного тока. Энергетическое расположение Evac относительно уровня Ферми системы (EF) можно установить с использованием известной калибровочной поверхности, например высокоориентированного пиролитического графита. Для нее характерны хорошо воспроизводимые значения электронной работы выхода около 4.6 эВ [19]. Тонкая структура спектров полного тока формируется при дальнейшем увеличении энергии падающего пучка. Она несет информацию об особенностях функции плотности незаполненных электронных состояний исследованного материала [21–23]. Топографию поверхности пленок FP5 изучали с помощью методики АСМ в полуконтактной моде на микроскопе Ntegra Spectra (NT-MDT Spectrum Instruments).
Результаты и их обсуждение
Экспериментально измеряя тонкую структуру спектров полного тока, исследовали структуру незаполненных электронных состояний зоны проводимости в процессе термического осаждения органической пленки FP5 на поверхности подложек (SiO2)n-Si и ZnO (рис. 2). Тонкая структура представляет собой серию максимумов и минимумов, обусловленных различием интенсивности отражения падающих электронов от поверхности в зависимости от их энергии в выбранном диапазоне от 5 до 25 эВ выше EF. Серия спектров полного тока, измеренная в процессе осаждения пленок FP5 на поверхности (SiO2)n-Si, представлена на рис. 2б. При толщине органического покрытия 0 нм, т. е. до нанесения органической пленки, спектр соответствует поверхности подложки (SiO2)n-Si. Тонкая структура спектра этой поверхности демонстрирует широкий двойной максимум в области энергии от 6 до 16 эВ, что соответствует результатам исследований других образцов (SiO2)n-Si, проведенных ранее [16, 23, 24]. В процессе увеличения толщины органического слоя тонкая структура спектра полного тока подложки затухала и одновременно нарастала интенсивность новых максимумов – P1, P2 и P3 при энергии 7.5, 11.0 и 14.0 эВ соответственно (рис. 2б). Стабильная тонкая структура спектра полного тока пленки FP5 сформировалась при ее толщине от 5 до 8 нм. При осаждении пленки FP5 на поверхности ZnO при ее толщине около 8 нм была также сформирована тонкая структура спектра с максимумами P1, P2 и P3 (рис. 2а). Структуры максимумов спектров пленок FP5 на двух исследованных подложках практически совпадают. Отметим, что тонкая структура спектра поверхности подложки ZnO, подробно описанная в [15], отличается от тонкой структуры спектра поверхности (SiO2)n-Si.
Рис. 2. Тонкая структура спектра полного тока: а – пленок FP5 толщиной 8 нм на поверхности ZnO; б – серия в процессе осаждения на подложку (SiO2)n-Si пленок FP5 толщиной 0 (1), 1 (2), 2 (3), 3 (4), 5 (5), 8 нм (6). Отмечены наиболее отчетливые максимумы P1–P3. Вертикальные пунктирные линии проведены для удобства сравнения их положений.
В ходе эксперимента измеряли энергетическое положение первичного максимума спектра в процессе осаждения органического слоя, что дало возможность установить изменения Evac поверхности относительно EF, т. е. изменения работы выхода поверхности при ее функционализации покрытием FP5. Следует учитывать погрешность определения значений Evac – EF 0.1 эВ вследствие разброса значений энергии электронов в тестирующем пучке. Значение Evac – EF подложки ZnO составило 4.2 эВ. Оно хорошо воспроизводимо в разных сериях изготовления ZnO [15]. Монокристалл ZnO(0001) имеет более высокую работу выхода. Характерные значения Evac – EF поверхности (SiO2)n-Si лежат в диапазоне 4.0–4.2 эВ [16, 24]. Отклонения в рамках этого диапазона, вероятно, обусловлены отклонениями в процедуре предварительной очистки. В результате осаждения пленки FP5 на подложку ZnO повышалась работа выхода от 4.2 до 4.5 эВ (рис. 3а). Исходная работа выхода подложки (SiO2)n-Si составила 4.0 эВ, а осаждение пленки FP5 привело к ее повышению до 4.5 эВ (рис. 3б). Наиболее значительные изменения Evac – EF происходят при увеличении толщины органического покрытия до 3–4 нм, а при дальнейшем формировании пленки толщиной до 5–8 нм величина Evac – EF выходит на насыщение. Перенос заряда на границе пленки FP5 с обеими подложками представляет собой перенос отрицательного заряда (электронов) из подложки в органическую пленку, так как экспериментально установлено увеличение значений Evac – EF в процессе осаждения пленки. Обратим внимание на то, что при различной работе выхода подложек сформированные на них пленки FP5 толщиной 5–8 нм имеют одинаковую работу выхода. Это соответствует литературным данным, согласно которым при отсутствии взаимодействия на границе подложка–органический слой и при толщине органического слоя более 3 нм работа выхода не зависит от материала подложки [8, 25, 26]. Согласно результатам [7], потенциал ионизации FP5 в виде молекул в растворе составляет 5.2–5.3 эВ, а запрещенная зона FP5 – приблизительно 3 эВ. Таким образом, принимая во внимание установленную работу выхода, можно предположить, что уровень EF в пленке FP5 расположен в нижней половине запрещенной энергетической зоны.
Рис. 3. Анализ энергетического положения первичного максимума спектра полного тока, демонстрирующий изменение положения уровня вакуума Evac относительно EF, по мере увеличения толщины слоя пленок FP5 на поверхности ZnO (a) и (SiO2)n-Si (б).
Результаты диагностики топографии исследованных поверхностей пленок FP5 на поверхности подложек (SiO2)n-Si и ZnO представлены на рис. 4. Пленки FP5 формируют практически сплошное покрытие поверхности подложки (SiO2)n-Si на достаточно больших участках размером 2 × 2 мкм (рис. 4a) и более. Пленка FP5 на (SiO2)n-Si обладает доменной структурой с характерным размером домена порядка 1 × 1 мкм. Шероховатость поверхности в рамках отдельного домена не превышает 1 нм, а границам доменов соответствуют уступы высотой до 1–2 нм. Вероятнее всего домены сформированы монокристаллами FP5. Формирование подобных монокристаллов при осаждении пленок FP5 на поверхность кремния из раствора было обнаружено ранее методами микроскопии и рентгеновской дифракции [6, 7]. Пленки FP5 на поверхности ZnO обладают зернистой структурой и покрывают приблизительно половину площади поверхности подложки при достаточно большой средней высоте зерна 40–50 нм (рис. 4б). Размеры зерен в плоскости поверхности составляют 200–400 нм, что значительно меньше соответствующих размеров доменов в структурах FP5 на подложке (SiO2)n-Si. На поверхности пленки FP5 на подложке ZnO можно заметить зерна и меньшего размера 50–100 нм и высотой до 5 нм. Они соответствуют структуре поверхности подложки ZnO, более детально исследованной в [15]. Установление степени заполнения подложки позволяет проводить корректный анализ затухания максимумов тонкой структуры спектра полного тока подложки и нарастания интенсивности максимумов осаждаемого слоя в процессе осаждения органического покрытия FP5 [16, 21].
Рис. 4. АСМ-изображение участка 2 × 2 мкм поверхности пленки FP5 на поверхности (SiO2)n-Si (а) и ZnO (б). Профиль участка поверхности на отмеченном отрезке показан снизу.
Выводы
Методом термического вакуумного осаждения сформированы пленки FP5 толщиной 8–10 нм на поверхности (SiO2)n-Si и послойно выращенного ZnO. В процессе формирования пленки FP5 методом спектроскопии полного тока установлена структура максимумов незаполненных электронных состояний в зоне проводимости в энергетическом диапазоне 5–20 эВ выше EF. Работа выхода пленки FP5 по достижении толщины 8 нм составила 4.5 ± 0.1 эВ независимо от материала подложки. Пленки FP5 формируют сплошное покрытие поверхности подложки (SiO2)n-Si на достаточно больших участках размером несколько мкм2. Пленки обладают доменной структурой с характерным размером домена порядка 1 × 1 мкм и шероховатостью поверхности в рамках отдельного домена не более 1 нм. В отличие от этого пленки FP5 на поверхности ZnO обладают зернистой структурой с высотой зерна 40–50 нм и покрывают приблизительно половину площади поверхности подложки.
Синтез и характеризацию молекулярного материала FP5 проводили с использованием оборудования химического сервисного центра Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН. Для АСМ-измерений использовано оборудование Научного парка Санкт-Петербургского государственного университета “Физические методы исследования поверхности”, “Инновационные технологии композитных наноматериалов” и “Диагностика функциональных материалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники”.
Исследования зоны проводимости пленок FP5 и пограничного потенциального барьера проведены при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект № 124041700069-0 для ПГУ).
About the authors
А. S. Komolov
St. Petersburg State University
Author for correspondence.
Email: a.komolov@spbu.ru
Russian Federation, St. Petersburg
I. A. Pronin
Penza State University
Email: a.komolov@spbu.ru
Russian Federation, Penza
Е. F. Lazneva
St. Petersburg State University
Email: a.komolov@spbu.ru
Russian Federation, St. Petersburg
V. S. Sobolev
St. Petersburg State University
Email: a.komolov@spbu.ru
Russian Federation, St. Petersburg
E. A. Dubov
St. Petersburg State University
Email: a.komolov@spbu.ru
Russian Federation, St. Petersburg
A. A. Komolova
St. Petersburg State University
Email: a.komolov@spbu.ru
Russian Federation, St. Petersburg
Е. V. Zhizhin
St. Petersburg State University
Email: a.komolov@spbu.ru
Russian Federation, St. Petersburg
D. A. Pudikov
St. Petersburg State University
Email: a.komolov@spbu.ru
Russian Federation, St. Petersburg
S. A. Pshenichnyuk
Institute of Molecule and Crystal Physics, Ufa Federal Research Centre, Russian Academy of Sciences
Email: a.komolov@spbu.ru
Russian Federation, Ufa
Ch. S. Becker
N. N. Vorozhtsov Novosibirsk Institute of Organic Chemistry, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences
Email: a.komolov@spbu.ru
Russian Federation, Novosibirsk
M. S. Kazantsev
N. N. Vorozhtsov Novosibirsk Institute of Organic Chemistry, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences
Email: a.komolov@spbu.ru
Russian Federation, Novosibirsk
F. Dj. Akbarova
Physical-Technical Institute, Uzbekistan Academy of Sciences
Email: a.komolov@spbu.ru
Uzbekistan, Tashkent
U. B. Sharopov
Physical-Technical Institute, Uzbekistan Academy of Sciences; Bukhara State University
Email: a.komolov@spbu.ru
Uzbekistan, Tashkent; Bukhara
References
- Varghese M.A., Anjali A., Harshini D. et al. // ACS Appl. Electron. Mater. 2021. V. 3. P. 550. https://doi.org/10.1021/acsaelm.0c00931
- Nenashev G.V., Kryukov R.S., Istomina M.S. et al. // J. Mater. Sci.: Mater. Electron. 2023 V. 34. P. 2114. https://doi.org/10.1007/s10854-023-11566-5
- Алешин А.Н., Щербаков И.П., Трапезникова И.Н. и др. // ФТТ. 2016. Т. 58. С. 1818.
- Sosorev A.Y., Nuraliev M.K., Feldman E.V. et al. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2019. V. 21. P. 11578. https://doi.org/10.1039/C9CP00910H
- Koskin I.P., Becker Ch.S., Sonina A.A. et al. // Adv. Funct. Mater. 2021. V. 31. P. 2104638. https://doi.org/10.1002/adfm.202104638
- Mannanov A.A., Kazantsev M.S., Kuimov A.D. et al. // J. Mater. Chem. C. 2019. V. 7. P. 60. https://doi.org/10.1039/C8TC04151B
- Kazantsev M.S., Frantseva E.S., Kudriashova L.G. et al. // RSC Adv. 2016. V. 6. P. 92325. https://doi.org/10.1039/C6RA23160H
- Hill I.G., Schwartz J., Kahn A. // Org. Electron. 2000 V. 1. P. 5. https://doi.org/10.1016/S1566-1199(00)00002-1
- Krzywiecki M., Smykala S., Kurek J. et al. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2022. V. 24. P. 11828. https://doi.org/10.1039/D2CP00844K
- Komolov A.S., Akhremtchik S.N., Lazneva E.F. // Spectrochim. Acta. A. 2011. V. 798. P. 708. https://doi.org/10.1016/j.saa.2010.08.042
- Sharopov U.B., Abdusalomov A., Kakhramonov A. et al. // Vacuum. 2023. V. 213. P. 112133. https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2023.112133
- Лазарев В.В., Блинов Л.М., Юдин С.Г. и др. // Кристаллография. 2015. Т. 60. C. 314. https://doi.org/10.7868/S0023476115020162
- Frankenstein H., Leng C.Z., Losego M.D. et al. // Org. Electron. 2019. V. 64. P. 37. https://doi.org/10.1016/j.orgel.2018.10.002
- Walter T.N., Lee S., Zhang X. et al. // Appl. Surf. Sci. 2019. V. 480. P. 43. http://doi.org/10.1016/j.apsusc.2019.02.182
- Комолов А.С., Лазнева Э.Ф., Соболев В.С. и др. // Кристаллография. 2024. Т. 69. C. 134. https://doi.org/10.31857/S0023476124010197
- Komolov A.S., Lazneva E.F., Gerasimova N.B. et al. // J. Electron Spectr. Rel. Phenom. 2019. V. 235. P. 40. https://doi.org/10.1016/j.elspec.2019.07.001
- Pshenichnyuk S.A., Asfandiarov N.L., Markova A.V. et al. // J. Chem. Phys. 2023. V. 159. P. 214305. https://doi.org/10.1063/5.0180053
- Pshenichnyuk S.A., Modelli A., Lazneva E.F. et al. // J. Phys. Chem. A. 2016. V. 120. P. 2667. https://doi.org/.1021/acs.jpca.6b02272
- Hwang J., Wan A., Kahn A. // Mater. Sci. Eng. R. 2009. V. 64. P. 1. https://doi.org/10.1016/j.mser.2008.12.001
- Кукушкин С.А., Осипов А.В., Романычев А.И. // ФТТ. 2016. Т. 58. С. 1398.
- Komolov A.S., Moeller P.J., Lazneva E.F. // J. Electron Spec. Rel. Phen. 2003. V. 131–132. P. 67. https://doi.org/10.1016/S0368-2048(03)00104-X
- Bartos I. // Progr. Surf. Sci. 1998. V. 59. P. 197. https://doi.org/10.1016/S0079-6816(98)00046-X
- Komolov A.S., Lazneva E.F., Akhremtchik S.N. // Appl. Surf. Sci. 2010. V. 256. P. 2419. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2009.10.078
- Komolov A.S., Moeller P.J., Aliaev Y.G. et al. // J. Mol. Struct. 2005. V. 744–747. P. 145. https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2005.01.047
- Shu A.L., McClain W.E., Schwartz J. et al. // Org. Electron. 2014. V. 15. P. 2360. https://doi.org/10.1016/j.orgel.2014.06.039
- Braun S., Salaneck W., Fahlman M. // Adv. Mater. 2009. V. 21. P. 1450. https://doi.org/10.1002/adma.200802893
Supplementary files