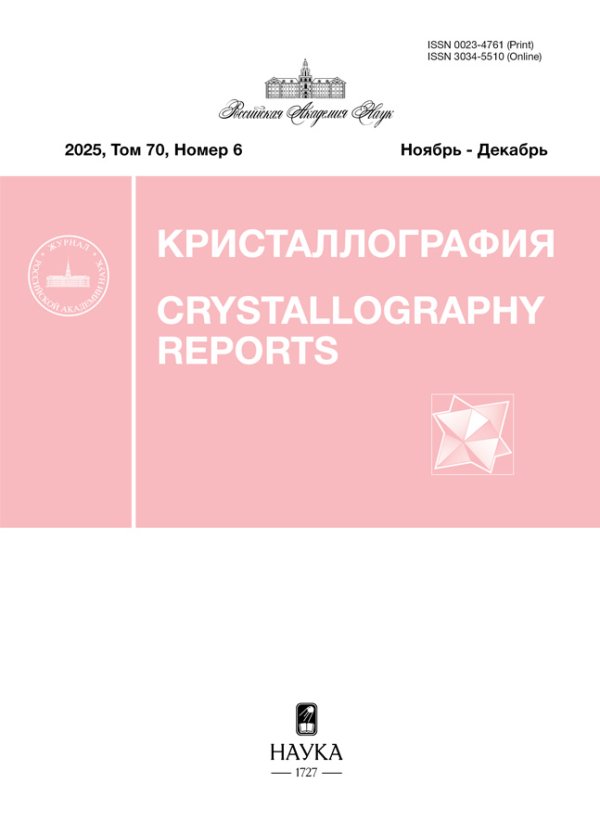Characterization and photocatalytic properties of zno tetrapods synthesized by high-temperature pyrolysis
- Authors: Krasnova V.V.1, Muslimov A.E.1, Lavrikov A.S.1, Zadorozhnaya L.A.1, Orudzhev F.F.2, Gulakhmedov R.R.2, Kanevsky V.M.1
-
Affiliations:
- Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
- Dagestan State University
- Issue: Vol 69, No 3 (2024)
- Pages: 549-556
- Section: CRYSTAL GROWTH
- URL: https://bakhtiniada.ru/0023-4761/article/view/263176
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0023476124030215
- EDN: https://elibrary.ru/XNMHNT
- ID: 263176
Cite item
Full Text
Abstract
The presented work presents the structural and morphological characterization and the results of studies of luminescent, photocatalytic properties of ZnO tetrapods synthesized by the method of high-temperature pyrolysis. It has been shown that the morphology and structural parameters of ZnO tetrapods are determined by the location in the synthesis zone (correlated with the distance from the air inflow window). All samples were characterized by pseudo-three-dimensional morphology of tetrapods. A correlation was found between luminescent properties and photocatalytic activity of tetrapods. The highest photodegradation rates of methylene blue under ultraviolet radiation were demonstrated by ZnO tetrapods grown in the zones closest and farthest from the window (rate constants 54 × 10–3 min–1 and 50 × 10–3 min–1, respectively).
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Фотокаталитические (ФК) процессы отличаются экологичностью и высокой чувствительностью, обеспечивая минерализацию токсичных органических молекул низкой концентрации с образованием воды и углекислого газа в присутствии фотокатализатора. Наиболее распространенным и востребованным фотокатализатором [1] является диоксид титана (TiO2). В частности, популярна марка P25 Degussa [2] порошка TiO2, содержащая наночастицы размером ~25 нм, состоящие на 80% из анатаза и на 20% из рутила, получаемые сжиганием при температуре 1000–2400°С смеси пара высокочистого TiCl4 с кислородом и водородом. Несмотря на высокую эффективность, фотокатализатор TiO2 обладает рядом недостатков. Помимо вредных производственных факторов, максимальную эффективность наночастицы TiO2 демонстрируют исключительно при УФ-облучении. В последние годы ведутся активные исследования в области разработки альтернативных фотокатализаторов, эффективных при использовании солнечного света как неисчерпаемого источника энергии. Одним из перспективных материалов является оксид цинка (ZnO). ZnO обладает большей эффективностью, чем TiO2, благодаря высокой подвижности электронов и высокому окислительному потенциалу генерируемых гидроксильных радикалов [3]. Для ZnO возможно усиление фоточувствительности в видимой области по причине низких энергий образования и ионизации собственных дефектов, с которыми связана высокая плотность состояний вблизи уровня Ферми. Кроме того, привлекательной является дешевизна как самого цинка, так и методов синтеза микроструктур (тетраподов) ZnO, демонстрирующих высокую ФК-активность [4, 5]. Тетраподы ZnO представляют собой самоорганизованные псевдотрехмерные микроструктуры, характеризуемые четырьмя монокристаллическими стержнями, исходящими из вершин тетраэдра. Такая геометрия тетраподов способствует увеличению активной площади поверхности до 22 м2/г [6]. Для сравнения эта же величина у наночастиц TiO2 марки Р25 ~65.3 м2/г [2], а у коммерческих наночастиц ZnO со средним диаметром 20 нм ~43.4 м2/г [7]. Видно, что при радикальном различии в размерах микро- и нанообъектов активная площадь поверхности тетраподов меньше, чем у наночастиц, всего лишь в 2–3 раза. Другим ключевым фактором высокой ФК-активности тетраподов ZnO является высокая концентрация кислородных вакансий [8]. С концентрацией кислородных вакансий связана повышенная адсорбция O2, что, в свою очередь, усиливает генерацию супероксидных радикалов O2– [9, 10]. Поскольку производство фотокатализатора должно носить массовый характер, необходимы методы, предусматривающие масштабирование процесса синтеза. Среди них можно выделить плазменные методы синтеза [4, 11] и метод высокотемпературного пиролиза [8]. Сравнение результатов фотокатализа аналогичных органических загрязнителей показало, что наибольшей эффективностью обладают тетраподы ZnO, полученные методом высокотемпературного пиролиза из органических солей. Более того, благодаря высокой плотности дефектов тетраподы ZnO демонстрировали ФК-активность при освещении видимым светом. Отличительной особенностью пиролитического синтеза является слабый контроль морфологии и структуры формируемых материалов, на которые в первую очередь влияют конструкция ростовой зоны, способ нагревания, способ введения реагентов, состав газовой смеси. С учетом склонности ZnO к морфологическому многообразию, в зависимости от зоны роста формируется осадок с высокой неоднородностью отдельных элементов по размерам и формам, что может влиять на ФК-свойства ансамбля тетраподов ZnO.
В настоящей работе приведены структурно-морфологическая характеризация и результаты исследований люминесцентных и ФК-свойств тетраподов ZnO, синтезированных методом высокотемпературного пиролиза.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Тетраподы ZnO синтезировали методом высокотемпературного пиролиза. В качестве прекурсоров использовали следующие реактивы: металлические гранулы Zn диаметром ∼5 мм чистотой 99.999% (metals basis) производства Alfa Aesar. Источником углерода служили фильтры целлюлозные обеззоленные. Синтез проводили в корундовых тиглях при температуре 1050°C с изотермической выдержкой 50 мин. Внутренний диаметр корундовых тиглей 40 мм, диаметр окна для притока воздуха 2 мм.
Микроскопические исследования проводили на растровом электронном микроскопе Jeol Neoscope 2 (JCM-6000). Рентгенофазовый анализ выполняли на дифрактометре X’PERT PRO (PANalytical, Нидерланды) с использованием CuKα-излучения (1.5405 Å). Для исследования ФК-активности тетраподы ZnO (10 мг) помещали в водный раствор метиленового синего (МС) объемом 25 мл с концентрацией 1 мг/л, перемешивали в темноте в течение 30 мин, затем суспензию облучали светом при постоянном перемешивании. Источником света служила УФ-С-лампа DKB-7 (НИИИС Лодыгина, Саранск, Россия) с доминирующей длиной волны излучения 253.7 нм, мощностью излучения 1.5 Вт, интенсивностью ~180 мВт/cм2. Концентрацию МС определяли спектрофотометрическим методом на спектрофотометре РВ 2201 (SOL-Instruments, Беларусь). Использовали спектрофотометрические кюветы типа А. Спектры фотолюминесценции (ФЛ) снимали на спектрофлюориметре СМ 2203 (SOL-Instruments, Беларусь).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Микроскопические исследования. В процессе синтеза на верхней поверхности тигля формируется толстый равномерный слой оксида цинка, состоящий из разноразмерных тетраподов с различной геометрией. После отделения синтезированного материала от стенок тигля были выделены четыре зоны (рис. 1) по отношению к окну для притока воздуха (источника кислорода) с приблизительно однородными тетраподами. Деление пространства тигля на “зоны” – условное, сообразно его геометрии и возможной определенной симметрии поступления в него потока воздуха. Особенностями условий синтеза являлись почти однородное заполнение тигля парами цинка и неоднородное заполнение парами кислорода из-за постоянного притока воздуха через окно в зоне 1.
Рис. 1. Схема (вид сверху в разрезе) зон роста тетраподов ZnO.
В зоне 1 (рис. 2а), расположенной ближе всего к источнику кислорода, росли самые крупные, хорошо сформированные тетраподы, где четыре гексагональных острия вюрцита выходят из центральной оцинкованной сердцевины [12]. Результаты синтеза в зонах 2 (рис. 2б) и 4 (рис. 2г) морфологически идентичны с зоной 1, однако наблюдается уменьшение размеров тетраподов (примерно в 1.5 раза), связанное с уменьшением концентрации кислорода. Самые мелкие тетраподы с тонкими игольчатыми стержнями образуются в зоне 3 (рис. 2в), наиболее удаленной от источника кислорода; соотношение линейных размеров образцов в зонах 3 и 1 ~ 1/5.
Рис. 2. Микроскопические изображения тетраподов ZnO: а – зона 1, б – зона 2, в – зона 3, г – зона 4.
Выращенные тетраподы были собраны со стенок тигля. Осадок представлял собой порошок, состоящий из отдельных игольчатых тетраподов и тонких тетраподных стержней. Можно предположить, что порошок образован из разрушенных тетраподов, т.е. в ходе синтеза, последующего охлаждения или отделения от стенок реактора происходит их повреждение – разъединение стержней по границам их стыка, что облегчается при наличии межзеренных напряжений.
Рентгенодифракционные исследования и люминесцентный анализ. На рис. 3 представлены дифрактограммы тетраподов, синтезированных в зонах 1–4. Дифракционные отражения тетраподов относятся к фазе гексагонального вюрцита ZnO (JCPDS № 05-0664). Наибольшую интенсивность имеют отражения от плоскостей (100), (002) и (101) ZnO. Формирование структуры цинковой обманки (сфалерита) происходит во время зарождения, а структура вюрцита преобладает во время процесса роста. Диаметр ядра тетрапода (фаза сфалерита) составляет около четверти диаметра стержневой части тетрапода [13]. Следовательно, масса вюрцита более чем в 100 раз превышает массу сфалерита. Таким образом, сфалерит не может быть обнаружен методом рентгеновской дифракции, поскольку его содержание ниже предела обнаружения примерно на 4 порядка.
Рис. 3. Дифрактограммы тетраподов ZnO, выращенных в зонах 1–4.
Параметры решетки синтезированных образцов приведены в табл. 1. Cогласно полученным данным, параметры гексагональной решетки тетраподов ZnO и объем элементарной ячейки меньше стандарта (JCPDS № 05-0664). Более того, указанные величины уменьшаются в ряду зон 1, 4, 2, 3 с удалением от источника кислорода. Уменьшение объема элементарной ячейки может быть связано как с уменьшением концентрации междоузельного цинка Zni [14], так и с увеличением концентрации вакансий кислорода VO [15].
Таблица 1. Структурные параметры тетраподов ZnO
Зона | а = b, Å | с, Å | V, Å3 | L, нм | I101/I100 |
1 | 3.247 | 5.202 | 47.50 | 26.8 | 1.42 |
2 | 3.246 | 5.199 | 47.44 | 22.6 | 1.43 |
3 | 3.245 | 5.199 | 47.41 | 20.0 | 1.38 |
4 | 3.247 | 5.201 | 47.49 | 22.5 | 1.5 |
Важной характеристикой фотоактивных микроструктур ZnO является соотношение I101/I100. По данным [16] пирамидальные наностержни [101] ZnO проявляли большую фоточувствительность, нежели призматические [100] ZnO. Согласно расчетам плоскость (101) ZnO сильнее взаимодействует с промежуточными продуктами, образующимися в результате каталитического разложения, что повышает каталитическую эффективность. В настоящей работе тетраподы ZnO формировались с пирамидальными “ногами”, поэтому радикального различия между соотношениями I101/I100 в зонах 1–3 не наблюдалось (табл. 1). Несколько выделялась зона 4. По всей видимости, в зоне 4 протекают процессы, требующие дополнительного исследования.
Для оценки среднего размера областей когерентного рассеяния L использовали уравнение Шеррера:
(1)
где β – ширина пика на полувысоте, λ – длина волны используемого излучения, θ – угол дифракции [17].
Расчет по уравнению (1) демонстрирует уменьшение величины L (табл. 1) при удалении от источника кислорода. Низкая концентрация кислорода ухудшает условия, при которых кристаллизуется осадок и, соответственно, уменьшается размер кристаллитов ZnO.
Спектры ФЛ тетраподов представлены на рис. 4. В спектрах люминесценции ZnO традиционно присутствуют две компоненты [18]: узкая полоса краевой люминесценции (КрЛ) в области 380−400 нм и широкая полоса зеленой люминесценции (ЗЛ) в области 450−650 нм. Полоса КрЛ при комнатной температуре связана с рекомбинацией свободных экситонов. Источником ЗЛ считаются точечные дефекты кристаллической решетки ZnO [18]. Во всех образцах наблюдалась низкоинтенсивная полоса КрЛ и интенсивная широкая полоса ЗЛ (рис. 4). Максимум КрЛ тетраподов, синтезированных в различных зонах, располагался на 390 нм, что косвенно подтверждает близость параметров их зонной структуры. В табл. 2 приведено отношение IКрЛ/IЗЛ для всех спектров ФЛ тетраподов. Видно, что эта величина уменьшается в ряду зон 1, 3, 2, 4, что не коррелирует со структурными данными.
Рис. 4. Спектры ФЛ тетраподов ZnO, выращенных в зонах 1–4 (номера кривых соответствуют номерам зон). На вставке: результат деконволюции зеленой полосы люминесценции тетраподов ZnO (зона 1); сплошная линия 1 – эксперимент, пунктирная 2 – результат подгонки.
Таблица 2. Люминесцентные и фотокаталитические свойства тетраподов ZnO
Зона | IZni–Vo/ICB–Vo | IZni–Vo/IZni–Oi | k, 10–3 мин–1 | IКрЛ/IЗЛ |
1 | 1.4242 | 1.97 | 54 | 0.219 |
2 | 1.39 | 1.94 | 34 | 0.163 |
3 | 1.33 | 1.88 | 50 | 0.186 |
4 | 1.39 | 2.01 | 30 | 0.154 |
При выполнении деконволюции (восстановления истинной формы сигнала) широкой полосы ЗЛ выделяются три полосы с максимумами при 497, 550 и 616 нм. Cогласно [19, 20] эти полосы можно связать с излучательными переходами между зоной проводимости и вакансиями кислорода VО, междоузельным цинком Zni и VО, Zni и междоузельным кислородом Оi. Наибольшей интенсивностью обладает полоса 550 нм, что свидетельствует о присутствии большого количества дефектов типа Zni и VО. Качественную оценку содержания междоузельного цинка Zni в тетраподах можно провести исходя из соотношения IZni–Vo/ICB–Vo, где СB – зона проводимости. Из табл. 2 следует, что оно уменьшается в ряду зон 1, 2, 4, 3 и близко к закономерности, обнаруженной при исследовании структурных параметров. Об изменении концентрации вакансий кислорода VО в тетраподах в зависимости от зоны роста позволяет судить отношение интенсивностей полос люминесценции IZni–Vo/IZni–Oi с учетом низкой вероятности образования дефектов типа Оi в ZnO. Из данных табл. 2 следует, что концентрация VО уменьшается в ряду зон 4, 1, 2, 3. Из-за уменьшения содержания кислорода в направлении от окна (зона 1) к дальней стенке тигля (зона 3) можно ожидать максимальной концентрации VО в зоне 3. Однако процессы роста ZnO определяются в первую очередь присутствием паров цинка. Можно предположить, что в случае высокотемпературного пиролитического синтеза тетраподов структурные параметры преимущественно определяются не вакансиями кислорода, а междоузельным цинком.
Исследования фотокаталитических свойств. На рис. 5а представлены кривые зависимости C/C0 от времени облучения в присутствии образцов ZnO в качестве фотокатализатора; C0 и C – концентрация МС в растворе соответственно до и после облучения. Для сравнения оценивали эффективность процесса фотолиза МС без катализатора ZnO (рис. 5б, кривая 5). Видно, что при добавлении тетраподов ZnO глубина фотодеградации МС значительно увеличивалась. Константу скорости фотодеградации МС рассчитывали по углу наклона линеаризованных кинетических кривых ln(C/C0) – t (рис. 5б) с использованием модели Ленгмюра–Хиншельвуда. Наибольшая скорость фотодеградации МС (табл. 2) была достигнута для образцов тетраподов зоны 1 (константа скорости k = 54 × 10–3 мин–1). Константа скорости для процесса фотолиза k = = 3.4 × 10–3 мин–1. Немного медленнее, особенно на первоначальном этапе, протекал процесс фотодеградации МС при добавлении тетраподов из зоны 3 (константа скорости k = 50 × 10–3 мин–1). Образцы из зон 2 и 4 демонстрировали наименьшую эффективность – константы скорости 34 × 10–3 и 30.0 × 10–3 мин–1 соответственно. Таким образом, константы скорости фотодеградации уменьшаются в ряду зон 1, 3, 2, 4, как и соотношения IКрЛ/IЗЛ (табл. 2).
Рис. 5. Оптические спектры поглощения растворов красителя МС под действием УФ-излучения (253.7 нм, 180 мкВт/см2) (а) и определение константы скорости реакции (k, мин–1) (б) в присутствии тетраподов ZnO различных типов. C – концентрация МС в момент времени t от начала облучения, С0 – исходная концентрация МС (1 мг/л). Обозначения на (а): 0 – 0 мин, 1 – 10 мин, 2 – 20 мин, 3 – 30 мин, 4 – 60 мин. Обозначения на (б): 1–4 – соответственно зоны 1–4, 5 – фотолиз.
Как показывают результаты исследований, структурные данные тетраподов определяются скорее междоузельным цинком, нежели вакансиями кислорода. Высокая концентрация кислорода определяет высокую скорость роста тетраподов в зоне 1, который сопровождается интенсивным захватом цинка и его стабилизацией как в узлах кристаллической решетки, так и в междоузельных положениях. По мере удаления от окна, в зонах 2 и 4, уменьшается концентрация кислорода, снижаются скорость роста и содержание избыточного цинка. С этим связано уменьшение объема ячейки. Минимальное содержание кислорода в зоне 3 резко тормозит рост тетраподов, и избыточные атомы цинка успевают десорбироваться в газовую фазу. Прямого влияния параметров кристаллической структуры на ФК-свойства в проведенном исследовании обнаружить не удалось. ФК-активность определяется скоростью генерации пар носителей заряда, которая в свою очередь зависит от ширины запрещенной зоны. В обычном полупроводниковом кристалле ширина запрещенной зоны фиксирована за счет непрерывности энергетических состояний. Это подтверждается одинаковым положением максимума КрЛ (рис. 4а) для всех тетраподов.
Другой важной составляющей ФК-активности является эффективное разделение носителей в паре электрон–дырка, препятствующее их обратной рекомбинации. Такое разделение происходит путем активного захвата носителей на уровни ловушек, которые создаются дефектами и примесями. В этой связи неудивительна корреляция между люминесцентными (отношение IКрЛ/IЗЛ) и ФК-свойствами тетраподов. Наличие полосы КрЛ свидетельствует о генерации пар носителей заряда. Наличие полосы ЗЛ связано с уровнями дефектов в запрещенной зоне. Однако увеличение количества дефектов выше предельных значений может привести к обратному эффекту – дефекты становятся центрами безызлучательной рекомбинации и снижают ФК-активность. Для образцов тетраподов из зон 1 и 3 отношение IКрЛ/IЗЛ, как и ФК-активность, максимально. Кроме того, для образцов из зоны 3 характерен малый размер и, соответственно, большая величина активной площади поверхности катализатора. Отметим, что при минимальном значении отношения IКрЛ/IЗЛ для образцов из зоны 4 их ФК-активность поддерживается высокой концентрацией кислородных вакансий и усиленной генерацией супероксидных радикалов O2–.
Из полученных данных следует, что при близких размерах и идентичной морфологии наибольшую эффективность демонстрируют тетраподы ZnO, в спектрах ФЛ которых соотношение IКрЛ/IЗЛ максимально, а также наблюдается высокая концентрация вакансий кислорода.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведены структурно-морфологическая характеризация, а также результаты исследований люминесцентных и ФК-свойств тетраподов ZnO, синтезированных методом высокотемпературного пиролиза. Показано, что морфология и структурные параметры тетраподов ZnO определяются условиями синтеза (главным образом концентрацией кислорода) в различных зонах роста в камере реактора.
Наибольшими размерами и наилучшим кристаллическим качеством (размер области когерентного рассеяния) обладали тетраподы, выращенные в зоне 1 – самой близкой к источнику кислорода. Помимо кристаллического качества для них характерно максимальное соотношение IКрЛ/IЗЛ, что является предпосылкой к максимальной ФК-активности (константа скорости 54 × 10–3 мин–1) в процессе деградации МС.
Наименьшими размерами обладали тетраподы, выращенные в наиболее дальней от источника кислорода зоне 3 реактора. Несмотря на низкую скорость роста и сравнительно низкое кристаллического качество (размер области когерентного рассеяния), спектры ФЛ тетраподов зоны 3 характеризовались высоким соотношением IКрЛ/IЗЛ. Этот фактор и повышенная активная площадь поверхности тетраподов зоны 3 определяют высокую скорость фотодеградации МС (константа скорости 50 × 10–3 мин–1) при воздействии УФ-излучения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант № 24-29-00696, https://rscf.ru/project/24-29-00696/).
About the authors
V. V. Krasnova
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: amuslimov@mail.ru
Russian Federation, Moscow
A. E. Muslimov
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Author for correspondence.
Email: amuslimov@mail.ru
Russian Federation, Moscow
A. S. Lavrikov
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: amuslimov@mail.ru
Russian Federation, Moscow
L. A. Zadorozhnaya
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: amuslimov@mail.ru
Russian Federation, Moscow
F. F. Orudzhev
Dagestan State University
Email: amuslimov@mail.ru
Russian Federation, 367001, Makhachkala
R. R. Gulakhmedov
Dagestan State University
Email: amuslimov@mail.ru
Russian Federation, 367001, Makhachkala
V. M. Kanevsky
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: amuslimov@mail.ru
Russian Federation, Moscow
References
- Baaloudj O., Assadi I., Nasrallah N. et al. // J. Water Process Eng. 2021. V. 42. P. 102089. https://doi.org/10.1016/j.jwpe.2021.102089
- Rui Z., Wu S., Peng C. et al. // Chem. Eng. J. 2014. V. 243. P. 254. https://doi.org/10.1016/j.cej.2014.01.010
- Turkten N., Bekbolet M. // J. Photochem. Photobiol. A. Chem. 2020. P. 112748. https://doi.org/10.1016/j.jphotochem.2020.112748
- Sung-Gyu H., Sung-Il J., Goo-Hwan J. // Curr. Appl. Phys. 2023. V. 46. P. 46. https://doi.org/10.1016/j.cap.2022.12.004
- Mishra Y.K., Modi G., Cretu V. et al. // ACS Appl. Mater. Interfaces. 2015. V. 7. № 26. P. 14303. https://doi.org/10.1021/acsami.5b02816
- Sulciute A., Nishimura K., Gilshtein E. et al. // J. Phys. Chem. C. 2021. V. 125. P. 1472. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.0c08459
- Wang J., Xia Y., Dong Y. et al. // Appl. Catal. B. Environ. 2016. V. 192. P. 8. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2016.03.040
- Orudzhev F., Muslimov A., Selimov D. et al. // Int. J. Mol. Sci. 2023. V. 24. P. 16338. https://doi.org/10.3390/ijms242216338
- Fichtl M.B., Schumann J., Kasatkin I. et al. // Angew. Chem. Int. Ed. 2014. V. 53. P. 7043. https://doi.org/10.1002/anie.201400575
- Kurtz M., Strunk J., Hinrichsen O. et al. // Angew. Chem. Int. Ed. 2005. V. 44. P. 2790. https://doi.org/10.1002/anie.200462374
- Muslimov A., Antipov S., Gadzhiev M. et al. // Appl. Sci. 2023. V. 13. P. 12195. https://doi.org/10.3390/app132212195
- Manna L., Milliron D., Meisel A. // Nat. Mater. 2003. V. 2. P. 382. https://doi.org/10.1038/nmat902
- Ding Y., Wang Z.L., Sun T. et al. // Appl. Phys. Lett. 2007. V. 90. P. 153510. https://doi.org/10.1063/1.2722671
- Kumari C., Pandey A., Dixit A. // J. Alloys Compd. 2018. V. 735. P. 2318. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2017.11.377
- Li X., Wang Y., Liu W. et al. // Mater. Lett. 2012. V. 85. P. 25. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2012.06.107
- Zhou T., Hu M., He J. et al. // CrystEngComm. 2019. V. 21. P. 5526. https://doi.org/10.1039/c9ce01073d
- Larbah Y., Adnane M., Sahraoui T. // Mater. Sci.-Poland. 2015. V. 33. P. 491. https://doi.org/10.1515/msp-2015-0062
- Rakov E.G. // Russ. Chem. Rev. 2007. V. 76. P. 1. https://doi.org/10.1070/RC2007v076n01ABEH003641
- Ahn C.H., Kim Y.Y., Kim D.C. et al. // J. Appl. Phys. 2009. V. 105. P. 013502. https://doi.org/10.1063/1.3054175
- Cao B., Cai W., Zeng H. // Appl. Phys. Lett. 2006. V. 88. P. 161101. https://doi.org/10.1063/1.2195694
- Paulauskas I.E., Jellison G.E., Boatner L.A. et al. // Int. J. Electrochem. 2011. P. 563427. https://doi.org/10.4061/2011/563427
Supplementary files