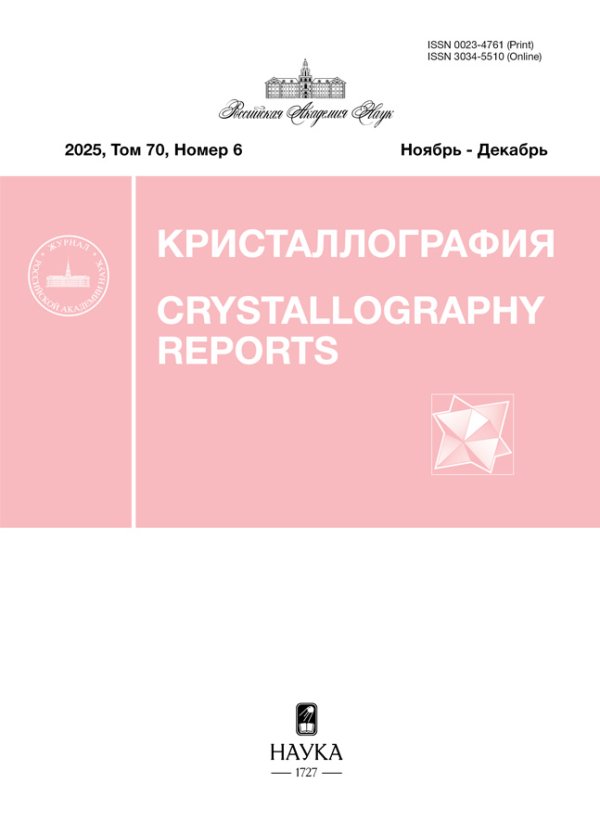The nano-organization structure of triple fluorocopolymer
- Authors: Sokolova L.V.1, Losev A.V.1, Chrustalev A.N.1, Volkov V.V.2,3
-
Affiliations:
- MIREA – Russian Technological University
- Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
- National Research Center “Kurchatov Institute”
- Issue: Vol 69, No 3 (2024)
- Pages: 541-548
- Section: НАНОМАТЕРИАЛЫ, КЕРАМИКА
- URL: https://bakhtiniada.ru/0023-4761/article/view/263175
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0023476124030208
- EDN: https://elibrary.ru/XNNQNA
- ID: 263175
Cite item
Full Text
Abstract
Three nanostructures with size 37–130 nm discovered in the triple fluorocopolymer with different temperature past by X-ray pattern at small and wide angles. Two level of order nano-organization are determined which change with phase transitions above glass transition. The conformation TGTG′ of vinyledenfluoride microblockes passage in conformation zigzag at the ρ3′–ρ5′ transitions in triple fluorocopolymer different from polyvinyldifluoride.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Для объяснения некоторых экспериментальных данных о поведении высокомолекулярных соединений в аморфном фазовом состоянии допускается существование упорядоченных образований (кластеров, доменов) исключительно флуктуационной природы [1–3]. Однако по данным [4–7] во время синтеза высокомолекулярных соединений в зависимости от его условий и химического строения макромолекул формируется другое фазовое состояние – состояние наноорганизации, которое включает в себя упорядоченные образования разного строения, размера и содержания, соединенные проходными цепями в единую систему. Наноорганизация высокомолекулярных соединений имеет термодинамическую природу согласно данным рентгеноструктурного анализа (РСА) в области больших углов, дифференциально-сканирующей калориметрии, ИК-спектроскопии и других методов. Температурный интервал наноорганизации высокомолекулярных соединений определяется в первую очередь кинетической гибкостью макромолекул и молекулярной массой.
Цель работы – выяснить влияние химического строения макромолекул тройного фторсополимера на особенности его наноорганизации.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Объектом исследования служил тройной сополимер винилиденфторида (69.8 мас. %), гексафторпропилена (4.6 мас. %) и перфторалкилвинилового эфира (ПФАВЭ) (25.6 мас. %) марки ФПМ-260 LT-60 (OOO “Альфа Фтор”) – терполимер (ТСПЛ). Вязкость по Муни 63 усл. ед. при 121°С. В макромолекулах ТСПЛ микроблоки двух-трех винилиденфторидных (ВФ) звеньев разделены развязками – изолированными звеньями: гексафторпропиленовыми −СF2−CF(СF3)− и ПФАВЭ. Первые звенья соединены в основном регулярно – ‘‘голова к хвосту’’ [8, 9]. Благодаря столь сложному строению макромолекул ТСПЛ не способен к кристаллизации [8, 9].
Дифрактограммы ТСПЛ регистрировали в режиме на отражение в интервале углов 2θ от 3° до 60° на приборе Дрон-3 (СuKα-излучение, Ni-фильтр). Средние размеры упорядоченных образований определяли (в первом приближении) по уравнению Дебая–Шерера: D = Kλ/βсos θ, где λ = 1.5418 Å, β – интегральная ширина рефлекса, θ – угол дифракции. Коэффициент формы K упорядоченных образований принимали равным 0.9. Средние межплоскостные расстояния рассчитаны по уравнению Вульфа–Брэгга [10]. Точность определения углового положения рефлексов 2θ составляет 0.02°.
Интенсивность малоуглового рентгеновского рассеяния (МУРР) измерена на автоматическом малоугловом рентгеновском дифрактометре “АМУР-К” [11] с однокоординатным позиционно-чувствительным детектором ОД3М при λ = 0.1542 нм (Kα-линия острофокусной трубки с медным анодом, монохроматор из пиролитического графита) и коллимационной системой Кратки. Сечение рентгеновского пучка составляло 0.2 × 8 мм, область углов рассеяния соответствовала диапазону модуля вектора рассеяния 0.1 < s < 10.0 нм–1 (, 2θ – угол рассеяния). Обработку и анализ данных МУРР проводили с помощью программного обеспечения, входящего в пакет ATSAS [12, 13].
ИК-спектры нарушенного полного внутреннего отражения сополимера регистрировали в интервале 400–3150 см–1 при ~20°С с помощью ИК-фурье-спектрометра Nicolet IS50 FT-IR. Данные о коэффициенте диэлектрических потерь ТСПЛ получены с помощью прибора ВР 4090 с Q-метром ВМ 4090 (ТESLA, 20–300 МГц). Температурные зависимости коэффициента термического расширения, тангенса механических потерь и модуля накопления ТСПЛ регистрировали с помощью дилатометра Netzch DL 402 SE. Скорость нагревания 3 град/мин. Ошибка метода составляет 3%.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Характеризация тройного сополимера
Дифрактограмма ТСПЛ наряду с аморфным гало с максимумом при 2θ = 39.50° содержит интенсивный рефлекс с максимумом при 2θ = 17.0°, который обусловлен упорядоченными образованиями размером 2 нм со средними межплоскостными расстояниями 5.21 Å (далее основной рефлекс) (рис. 1а, 1б, кривая 1). Средние межмолекулярные расстояния в сополимере составляют 2.28 Å. Аналогичные дифрактограммы характерны и для других фторсополимеров [7, 14].
Рис. 1. Дифрактограммы ТСПЛ (1) после термообработки при 75 (а), 120 (б) и 170°С (в) в течение 20 (2), 45 (3) и 90 мин (4) в свободном состоянии.
Для того чтобы изучить особенности наноорганизации и изменение структуры ТСПЛ, его предварительно выдерживали вблизи температур его фазовых переходов ρ3′–ρ5′ при 75, 120 и 170°С соответственно. Обозначение фазовых переходов ρi′, ответственных за особенности движения основной цепи полимера и обусловливающих изменение наноорганизации выше температуры стеклования (Тс), введено в [15, 16]. О переходах ρ1′–ρ6′ в ТСПЛ при 1, 23, 67, 116, 164 и 213°С соответственно свидетельствует сложный характер изменения коэффициента термического расширения, тангенса механических потерь и модуля накопления ТСПЛ с повышением температуры (рис. 2). Множественные фазовые переходы ρi′ подчиняются уравнениям:
Рис. 2. Температурные зависимости коэффициента термического расширения (1), тангенса механических потерь (2) и модуля накопления (3) ТСПЛ.
Здесь i ≥ 2 − порядковый номер перехода ρi′, Т1′, Тi′ и Тс измеряются в кельвинах, как и в случае полимеров различного химического строения [4, 17]. ТСПЛ отличается от большинства фторсополимеров достаточно низкой Тс (243 К) благодаря высокому содержанию звеньев ПФАВЭ в его макромолекулах [8, 9] (рис. 2).
Влияние предыстории на наноорганизацию терполимера
Размер нанообразований ТСПЛ уменьшился до 1.5 нм, а содержание их увеличилось после термообработки при 75°С в течение 20 мин по сравнению с исходным образцом (рис. 1а, кривые 1, 2). Средние межплоскостные расстояния в нанообразованиях и средние межмолекулярные расстояния в ТСПЛ приведены в табл. 1.
Таблица 1. Основные параметры дифрактограмм терполимера
Температура/время нагревания, °С/мин | 2θ, град | d, Å | D, нм |
Исходный терполимер | 17 | 5.21 | 2 |
39.5 | 2.28 | ||
75/20 | 17.32 | 5.12 | 1.5 |
40.55 | 2.22 | ||
75/45 | 17.38 | 5.10 | 1.5 |
40.95 | 2.20 | ||
75/90 | 17.93 | 4.94 | 1.5 |
41.30 | 2.18 | ||
120/20 | 17.41 | 5.09 | 1.5 |
40.55 | 2.22 | ||
120/45 | 17.81 | 4.97 | 1.5 |
40.95 | 2.20 | ||
120/90 | 17.5 | 5.06 | 1.5 |
41.3 | 2.18 | ||
170/20 | 12.39 | 7.14 | 130 |
17.35 | 5.11 | 1.5 | |
25.05 | 3.55 | 56 | |
40 | 2.25 | ||
170/45 | 12.3 | 7.19 | 60 |
17.13 | 5.17 | 1.5 | |
24.85 | 3.58 | 64 | |
40 | 2.25 | ||
170/90 | 12.35 | 7.16 | 63 |
17.23 | 5.14 | 1.5 | |
24.87 | 3.58 | 37 | |
40.2 | 2.24 |
С увеличением продолжительности обработки ТСПЛ при 75°С, особенно после 45 мин, содержание нанообразований размером 1.5 нм уменьшилось, как и средние межплоскостные и межмолекулярные расстояния (табл. 1, рис. 1а, кривые 3, 4). Однако степень упорядочения ТСПЛ увеличилась благодаря повышению содержания упорядоченных образований небольшого размера за счет частичного распада нанообразований размером 1.5 нм.
Уменьшение содержания нанообразований, ответственных за основной рефлекс, объясняется переходом ТСПЛ из высокоэластического релаксационного состояния в вязкотекучее: температура его текучести (Тт) составляет ~47°С (рис. 2). Этот релаксационный переход спровоцирован фазовым переходом ρ2′ при 23°С (рис. 2). Очевидно, часть распавшихся нанообразований размером 1.5 нм относится к числу нанообразований межмолекулярного типа, которые создают в объеме ТСПЛ единую сетку, препятствующую его течению, как и в случае других полимеров [14, 17].
Несколько иначе изменяется дифрактограмма ТСПЛ при 120°С (рис. 1б). Содержание нанообразований, ответственных за основной рефлекс, незначительно увеличилось после его термообработки в течение первых 20 мин, как и средние межплоскостные и межмолекулярные расстояния по сравнению с выдержанным при температуре 75°С в течение 90 мин (табл. 1, рис. 1б, кривая 2). С увеличением продолжительности обработки до 45 мин при 120°С содержание нанообразований размером 1.5 нм, наоборот, уменьшилось, как и средние межплоскостные расстояния в них и средние межмолекулярные расстояния в ТСПЛ (табл. 1, рис. 1б, кривая 3). Однако интенсивность основного рефлекса ТСПЛ частично восстановилась после выдерживания при 120°С в течение 90 мин (рис. 1б, кривая 4). Средние межплоскостные расстояния в нанообразованиях размером 1.5 нм увеличились, тогда как средние межмолекулярные расстояния в ТСПЛ дополнительно уменьшились (табл. 1).
Тем не менее степень упорядочения ТСПЛ с увеличением времени термообработки при 120°С продолжала возрастать по сравнению с исходным образцом благодаря увеличению содержания упорядоченных образований небольшого размера, вносящих вклад в аморфное гало. На это указывают средние межмолекулярные расстояния в ТСПЛ, которые не только были меньше, чем в исходном образце, но и дополнительно уменьшались с продолжительностью обработки, несмотря на то что ТСПЛ находился в вязкотекучем состоянии (рис. 2).
Сложный характер наноорганизации ТСПЛ после выдерживания при 120°С подтвердили данные МУРР (рис. 3а). Кривая распределения нанообразований по размерам для исходного ТСПЛ носит бимодальный характер: узкий пик (1–10 нм с центром при 3 нм) и более широкий (10–60 нм c центром при 36 нм) (рис. 3а, кривая 1). Другими словами, во время синтеза и последующего хранения в ТСПЛ сформировались нанообразования достаточно большого размера в основном двух видов. Объемное содержание образований первого вида существенно больше, чем второго, и на дифрактограмме в области больших углов присутствует лишь рефлекс нанообразований первого вида. Небольшое уменьшение содержания нанообразований, отвечающих за второй пик кривой распределения, и появление большого количества нанообразований размером 4 нм обнаружены после выдерживания в течение 20 мин (рис. 3а, кривая 2). Увеличение продолжительности термообработки ТСПЛ до 45 мин привело к резкому уменьшению содержания нанообразований очень большого размера и сужению их распределения – сохранилось лишь их небольшое количество с преобладающим размером 27 нм (рис. 3а, кривая 3). Размер первых нанообразований также уменьшился (до 2.5 нм), но их содержание осталось высоким. Кардинальное изменение характера распределения нанобразований по размерам ТСПЛ отмечено после выдерживания при 120°С в течение 90 мин. Зависимость приобрела мономодальный характер: очень широкий пик (10–100 нм c центром при ~41 нм) (рис. 3а, кривая 4).
Рис. 3. Кривые распределения нанообразований ТСПЛ по размеру (1) после термообработки при 120 (а) и 170°С (б) в течение 20 (2), 45 (3) и 90 мин (4) в свободном состоянии.
Таким образом, продолжительность термообработки при 120°С оказала влияние на структурные параметры нанообразований и характер их распределения по размеру. Однако содержание нанообразований очень большого размера осталось невысоким, поскольку не проявился дополнительный рефлекс на дифрактограммах. Более того, приведенные данные МУРР и РСА позволяют допустить, что нанообразования размером 1.5–4 нм являются основой для формирования нанообразований большего размера – второго уровня порядка наноорганизации ТСПЛ.
Наиболее кардинально наноорганизация ТСПЛ изменилась после выдерживания при 170°С уже в первые 20 мин благодаря более высокой конформационной и трансляционной подвижности сегментов его проходных цепей (рис. 1в, кривая 2). Возросло содержание нанообразований размером 1.5 нм по сравнению с исходным образцом. Средние межплоскостные расстояния в них и средние межмолекулярные расстояния в ТСПЛ несколько уменьшились по сравнению с исходным образцом, но больше, чем при 120°С (табл. 1). Сформировались нанообразования двух новых видов. Это означает, что степень упорядочения резко увеличилась, несмотря на термообработку ТСПЛ в вязкотекучем состоянии выше его Тт на ~120°С (рис. 2).
С увеличением длительности выдерживания при 170°С содержание нанообразований двух новых видов постепенно возросло, но в разной степени, а их структурные параметры претерпели неодинаковое изменение (табл. 1, рис. 1в, кривые 3, 4). Содержание нанообразований размером 1.5 нм изменялось при этом немонотонно, как и их структурные параметры. Увеличение содержания нанообразований трех видов большого размера при средних межмолекулярных расстояниях меньше, чем в исходном образце, указывает на существенное увеличение степени упорядочения, несмотря на то что ТСПЛ находился выше его Тт на ~120°С. Другими словами, не только увеличилась степень упорядочения ТСПЛ, находящегося в вязкотекучем состоянии, но и существенно усложнилась его наноорганизация при фазовом переходе ρ5′.
О кардинальном изменении наноорганизации ТСПЛ с повышением температуры от 120 до 170°С свидетельствуют и данные МУРР (рис. 3). Распределение нанообразований по размерам приобрело мономодальный характер с преобладающим размером 31 нм после термообработки ТСПЛ в течение первых 20 мин. С увеличением ее продолжительности до 45 мин характер этой зависимости изменился на бимодальный с преобладанием содержания нанообразований размером 27 и 35 нм. Дальнейшее увеличение длительности выдерживания до 90 мин обусловило изменение характера этой зависимости на мономодальный, но с более широким распределением нанообразований по размеру (преобладает ~41 нм). Сформировались нанообразования размером более 50 нм. Их содержание столь большое, что даже на дифрактограммах терполимера проявились рефлексы, отвечающие за нанообразования размером 37 и 63 нм (рис. 1в, кривая 4). Другими словами, о формировании второго уровня порядка нанорганизации полимера свидетельствуют и дифрактограммы в области больших углов, когда его вклад в ее структуру становится достаточно большим.
Важно, что формирование нанообразований столь большого размера обнаружено также в бутилкаучуке (47, 53 и 82 нм), цис-1.4-полиизопрене (55, 58 и 101 нм) и натуральном каучуке (129 нм) со средними межплоскостными расстояниями 4.90, 2.45, 1.63, 4.95, 2.48, 1.64 и 0.62 нм соответственно с помощью МУРР [18, 19], т.е. этот процесс имеет место в полимерах разного химического строения и не зависит от межмолекулярного взаимодействия в них. Неоднородности изодиаметрической формы размером 30–50 нм обнаружены в цис-1.4-полиизопрене с помощью электронной микроскопии [20]. В первых двух полимерах обнаружены нанообразования меньшего размера (~10 нм) со средними межплоскостными расстояниями 10.98 и 8.47 Å соответственно с помощью РСА в области больших углов [6].
Таким образом, данные РСА и МУРР для исходного ТСПЛ и после его термообработки свидетельствуют о том, что состояние наноорганизации не успевает сформироваться в полной мере во время синтеза и последующего хранения, несмотря на его высокую энергию когезии и способность образовывать большое количество прочных межмолекулярных связей Н···F. Средние межмолекулярные расстояния в ТСПЛ при 170°С практически такие же, как в двойном сополимере – фторкаучуке СКФ-26 (2.26 Å [7]). Возможно, при 170°С такая же высокая степень упорядочения наноообразований терполимера, как и в случае СКФ-26.
Характер изменения кривых МУРР с увеличением продолжительности термообработки подтверждает высказанное ранее положение об увеличении размера упорядоченных образований благодаря распаду их части при фазовых переходах выше Тс полимера и одновременном увеличении свободного объема его неупорядоченной части [5, 6]. Так, при переходе ρ4′ в ТСПЛ уменьшилось содержание нанообразований размером 1.5 нм, особенно к 45 мин термообработки, но сформировались нанообразования двух новых видов с преобладающими размерами 27 и 35 нм (рис. 1, 3). Более яркое изменение обнаружено при переходе ρ5′ – уменьшилось содержание нанообразований размером 1.5 нм и распались в основном нанообразования размером 27 нм после выдерживания при 170°С в течение 45 мин, но существенно увеличилось содержание нанообразований размером 36 нм (рис. 3б). Другими словами, фазовые переходы обусловливают изменение структурных параметров обоих уровней порядка наноорганизации ТСПЛ. Это, очевидно, и объясняет удивительно большую продолжительность изменения наноорганизации при фазовых переходах выше Тс полимеров, в частности не менее 1 ч в случае ТСПЛ, полистирола [4] и цис-1,4-полиизопрена [5, 18].
Таким образом, изменение наноорганизации ТСПЛ при фазовых переходах ρ3′–ρ5′ заключается в увеличении размера упорядоченных образований при одновременном уменьшении их числа и увеличении свободного объема в неупорядоченной части полимера. Возможно и одновременное изменение конформации фрагментов цепей в упорядоченных образованиях [5]. В случае ТСПЛ об этом свидетельствуют ИК-спектры (рис. 4). После обработки при 75°С более 20 мин полоса поглощения валентных колебаний связи С–F при 883 см–1, характерная для ТСПЛ, не проявилась (рис. 4а, кривые 1, 3, 4). Очевидно, это следствие полиморфного перехода конформации ТGTG′ последовательностей звеньев ВФ в конформацию “искаженный зигзаг” [21, 22]. Несколько увеличилась интенсивность слабой полосы поглощения при 2922 см–1, но лишь после выдерживания в течение 45 мин (рис. 4б, кривые 1–4). Она, очевидно, обусловлена валентными колебаниями связи С–Н последовательностей звеньев ВФ с конформацией “искаженный зигзаг”. Интенсивность основных полос поглощения ТСПЛ при 2990 и 3032 см–1 вследствие симметричных и асимметричных валентных колебаний связей С–Н этих звеньев не изменилась.
Рис. 4. ИК-спектры ТСПЛ (1) после термообработки при 75 (2–4), 120 (5–7) и 170°С (8–10) в течение 20 (2, 5, 8), 45 (3, 6, 9) и 90 мин (4, 7, 10) в свободном состоянии.
При переходе ρ4′ интенсивность полосы поглощения валентных колебаний связей С–F при 883 см–1 в основном восстановилась после обработки в течение 20 мин (рис. 4а, кривые 5–7). Увеличилась интенсивность полос поглощения при 2853, особенно при 2922 см–1, в большей степени после выдерживания в течение первых 20 мин при 120°С. Эти полосы поглощения обусловлены валентными колебаниями связей С–Н последовательностей звеньев ВФ с конформациями ТGTG′ и “искаженный зигзаг” соответственно. Интенсивность полос поглощения при 2853 и особенно при 2922 см–1 увеличилась в наибольшей степени при переходе ρ5′ – после термообработки ТСПЛ при 170°С в течение 20 мин (рис. 4б, кривая 8). Однако дальнейшее выдерживание сопровождалось уменьшением интенсивности этих полос поглощения (рис. 4б, кривые 9, 10). Более того, после продолжительной обработки (150 мин) полоса поглощения валентных колебаний связей С–F при 883 см–1 не проявилась, т.е. конформация ТGTG′ последовательностей звеньев ВФ перешла в конформацию “искаженный зигзаг” (рис. 4а, кривая 10). Очевидно, первая конформация не только смогла восстановиться при переходе ρ4′, но и просуществовала, несмотря на повышение температуры до 170°С, при которой сохранялась по крайней мере в течение первых 45 мин выдерживания в отличие от поливинилиденфторида [23–25]. Очевидно, это следствие особенностей химического строения ТСПЛ – наличия в его макромолекулах развязок – изолированных гексафторпропиленовых звеньев и звеньев ПФАВЭ с более заторможенной конформационной подвижностью в отличие от микроблоков звеньев ВФ. Другими словами, эти развязки оказывают стабилизирующее действие на конформацию ТGTG′ последовательностей звеньев ВФ терполимера в интервале 80–170°С.
Полоса поглощения при 2962 см–1 проявилась в ИК-спектрах ТСПЛ после обработки при 170°С в течение 20 и 150 мин. Она также отвечает за валентные колебания связей С–Н (рис. 4б, кривые 8, 10). Однако конформация последовательностей звеньев ВФ, ответственная за нее, в настоящее время не понятна.
Таким образом, обнаруженная впервые зависимость полиморфного перехода конформации ТGTG′ последовательностей звеньев ВФ терполимера в конформацию “искаженный зигзаг” от предыстории также указывает на фазовую природу переходов ρi′ выше Тс и подтверждает положение, что это достаточно медленные процессы – требующие не менее 1 ч (рис. 1, 3, 4) [4, 5, 17, 18].
Правомерность этого положения, а также отнесение полос поглощения ТСПЛ нашли подтверждение в сложном характере изменения коэффициента диэлектрических потерь от времени его термообработки, в частности при 75°С (рис. 5). Известно [23, 26–28], что конформация ТGTG′ последовательностей звеньев ВФ неполярная и обусловливает пьезоэлектрические свойства полимера, а конформация “зигзаг”, наоборот, полярная.
Рис. 5. Зависимость от времени термообработки ТСПЛ при 75°С коэффициента диэлектрических потерь при частотах переменного тока: 18 (1), 19 (2), 20 МГц (3).
Столь кардинальное изменение наноорганизации при фазовых переходах ρi′ определяет физические и физико-механические параметры терполимера (рис. 2). Так, его жесткость существенно увеличилась при фазовых переходах ρ6′ и особенно ρ5′ при 213 и 164°С соответственно. Тангенс механических потерь резко увеличился при переходах ρ3′ и ρ5′ при 67 и 164°С соответственно. Другими словами, температурный интервал наиболее существенного изменения этих параметров обусловлен в основном резким увеличением содержания нанообразований большого размера, обусловивших второй уровень порядка наноорганизации терполимера.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные расширили круг полимеров, при синтезе и последующем хранении которых формируется фазовое состояние – состояние наноорганизации с широким набором упорядоченных образований разного содержания, размера и строения. Установлены два уровня порядка наноорганизации терполимера с помощью РСА в области малых и больших углов. Получены прямые доказательства их изменения при фазовых переходах ρi′. С помощью ИК-спектроскопии впервые обнаружен полиморфный переход конформации ТGTG′ последовательностей звеньев ВФ в конформацию “зигзаг” в упорядоченных образованиях терполимера при фазовых переходах ρ3′–ρ5′. Показано, что развязки в макромолекулах терполимера оказывают стабилизирующее действие на конформацию ТGTG′ в интервале 80–170°С. Подтверждено участие нанообразований межмолекулярного типа в формировании единой сетки в объеме полимера, препятствующей переходу его из высокоэластического состояния в вязкотекучее. Изменения некоторых физических и физико-механических параметров терполимера определяются вторым уровнем порядка его наноорганизации.
Работа выполнена частично в рамках государственного задания ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН в части обработки данных МУРР, которые были получены с использованием оборудования Центра коллективного пользования ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН.
About the authors
L. V. Sokolova
MIREA – Russian Technological University
Author for correspondence.
Email: sokolova_mchti@mail.ru
Russian Federation, 119454 Moscow
A. V. Losev
MIREA – Russian Technological University
Email: sokolova_mchti@mail.ru
Russian Federation, 119454 Moscow
A. N. Chrustalev
MIREA – Russian Technological University
Email: sokolova_mchti@mail.ru
Russian Federation, 119454 Moscow
V. V. Volkov
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”; National Research Center “Kurchatov Institute”
Email: sokolova_mchti@mail.ru
Russian Federation, Moscow; Moscow
References
- Kozlov G.V., Zaikov G.E. Structure of the Polymer Amorphous State. Leiden: Brill Academic Publishers, 2004. 465 р.
- Волынский А.Л., Бакеев Н.Ф. Структурная самоорганизация аморфных полимеров. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. 232 с.
- Малкин А.Я., Семаков А.В., Куличихин В.Г. // Высокомолекулярные соединения. 2010. Т. 52. С. 1879.
- Соколова Л.В. // Пластические массы. 2006. № 5. С. 13.
- Соколова Л.В. // Высокомолекулярные соединения. А. 1987. Т. 29. С. 1731.
- Соколова Л.В. // Высокомолекулярные соединения. А. 2017. Т. 59. С. 318. http://doi.org/7868/S2308112017040113
- Соколова Л.В., Лосев А.В., Пронин Д.С., Политова Е.Д. // Кристаллография. 2022. Т. 67. № 3. С. 470.http://doi.org/10.31857/S0023476122030183
- Нудельман З.Н. Фторкаучуки: основы, переработка, применение. М.: ООО ПИФ РИАС, 2007. 384 с.
- Moore A.L. Fluoroelastomers Handbook. N.Y.: William Andrew, 2006. 366 р.
- Уманский Я., Скаков Ю., Иванов А. Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия. М.: Металлургия, 1982. 632 с.
- Могилевский Л.Ю., Дембо А.Т., Свергун Д.И., Фейгин Л.А. // Кристаллография. 1984. Т. 29. Вып. 3. С. 587.
- Manalastas-Cantos К., Konarev P.V., Hajizadeh N.R. et al. // J. Appl. Cryst. 2021. V. 54. P. 343. http://doi.org/10.1107/S160057672001341
- Svergun D.I., Konarev P.V., Volkov V.V. et al. // J. Chem. Phys. 2000. V. 113. P. 1651. http://doi.org/0.1063/1.481954
- Соколова Л.В., Лосев А.В., Политова Е.Д. // Высокомолекулярные соединения. А. 2020. Т. 62. № 2. С. 98. http://doi.org/1031857/S23081120020066
- Соколова Л.В. // Пластические массы. 2001. № 9. С. 8.
- Соколова Л.В. // Пластические массы. 2005. № 1. С. 13.
- Соколова Л.В., Евреинов Ю.В. // Высокомолекулярные соединения. 1993. Т. 35. № 5. С. 244.
- Соколова Л.В., Базарова В.Е. // Бутлеровские сообщения. 2023. Т. 73. № 1. С. 62. http://doi.org/10.37952/ROI-jbc-01/23-73-1-62
- Соколова Л.В., Хрусталев А.Н., Волков В.В., Переверзева С.Ю. // Бутлеровские сообщения. 2023. Т. 73. № 1. С. 50. http://doi.org/10.37952/ROI-jbc- RВ/23-5-1-1
- Михеев А.И. Автореферат “Надмолекулярная организация эластомеров и пространственно-сшитых полимеров” дис. … канд. хим. наук. М.: МИТХТ, 1981.
- Hussein Amel D., Sabry Raad S., Dakhil O.A.A. // J. College Education. 2019. V. 1. № 1. P. 17.
- Кочервинский В.В. // Высокомолекулярные соединения. А. 1993. Т. 35. № 12. С. 1978.
- Salimi A., Yousefi A.A. // J. Polym. Sci. B. 2004. V. 42. № 12. P. 3487.
- Giannetti E. // Polym. Int. 2001. V. 50. № 1. P. 10.
- Lovinger A.J. // Macromolecules. 1982. V. 15. № 1. P. 40.
- Fang J., Wang X., Lin T. // J. Mater. Chem. 2011. V. 21. № 30. P. 11088.
- Sharma M., Madras G., Bose S. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2014. V. 16. № 28. Р. 14792.
- Bafqi M.S.S., Bagherzadeh R., Latifi M. // J. Polym. Resh. 2015. V. 22. № 7. P. 130.
Supplementary files