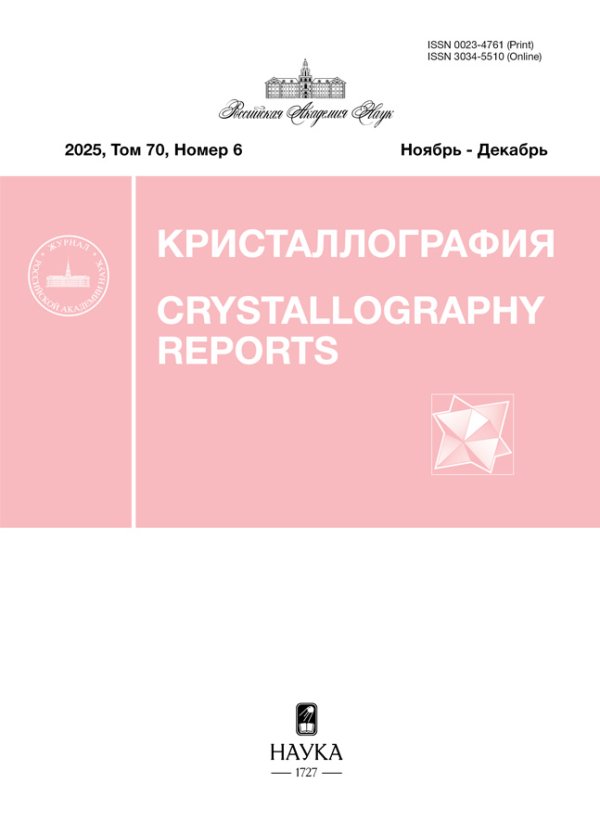X-ray small-angle scattering in the study of the structure of disordered nanosystems
- Authors: Volkov V.V.1, Konarev P.V.1, Petoukhov M.V.1, Asadchikov V.E.1
-
Affiliations:
- Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
- Issue: Vol 69, No 2 (2024)
- Pages: 230-242
- Section: ДИФРАКЦИЯ И РАССЕЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0023-4761/article/view/259682
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0023476124020062
- EDN: https://elibrary.ru/YTLGZK
- ID: 259682
Cite item
Full Text
Abstract
Small-angle scattering (SAS) of X-rays and neutrons is a method for studying the nanostructure of condensed systems with resolutions ranging from fractions to hundreds of nanometers. Its capabilities have significantly expanded in recent decades thanks to the emergence of bright synchrotron radiation sources and laboratory setups with microfocus sources. The increase in computational power of available computers has been accompanied by the development of new algorithms and data analysis techniques, making SAS one of the most effective methods for studying nanostructured materials. After a brief overview of the basic principles of SAS, this paper presents the most prominent examples of such analysis with isotropic dispersive nanosystems: modeling the structure of biological macromolecules in solution, determining size distributions of inhomogeneities in polydisperse systems, and studying multicomponent systems of nanoparticles of various natures. The SAS method does not require special sample preparation and allows for studying objects under conditions close to natural, which is particularly demanded in the development of nature-like technologies.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Разработка новых функциональных материалов требует не только быстрых методов изучения получаемых структур для установления связей структура–свойство, но и методов, позволяющих изучать объекты без разрушающей пробоподготовки. Данные требования оказываются необходимыми в областях, которые сегодня стали относить к "природоподобным". Строение этих материалов, определяющее свойства, часто описывается на надмолекулярном уровне, т.е. при разрешениях от долей до нескольких сотен нанометров. Именно этот диапазон пространственных разрешений и неразрушающий характер измерений свойственны методу малоуглового рассеяния рентгеновского (МУРР) и нейтронного (МУРН) излучения. Этот метод в основном базируется на анализе картин интерференции упруго рассеянного на образце излучения. В данной работе не рассматривается анализ данных неупругого рассеяния, позволяющий изучать динамику структур. Примеры исследований, здесь рассмотренных, в основном будут касаться изучения биологических систем, которые в силу своего разнообразия хорошо демонстрируют возможности МУР. Полный обзор всех возможностей метода в короткой статье привести невозможно, поэтому рассмотрены только некоторые из них. Более полную картину читатель может составить по книгам [1–3] и ряду обзоров, например [4, 5].
Для структурного анализа используется излучение с длиной волны l ~0.1 нм, что близко к межатомным расстояниям. В качестве излучения используют и потоки частиц с энергией, соответствующей примерно такой же длине волны де Бройля, в частности нейтронов. Нейтроны, обладая спином и магнитным моментом, взаимодействуют с веществом более сложным способом по сравнению с электромагнитным излучением, что предоставляет экспериментаторам дополнительные возможности.
Малоугловой дифрактометр почти идентичен по своему устройству дифрактометру для исследования кристаллов или кристаллических порошков: первичный монохроматизированный пучок с малой расходимостью проходит сквозь образец, после образца рассеянное излучение регистрируется детектором. Однако, чтобы такой дифрактометр стал малоугловым устройством, необходимо обеспечить малую расходимость пучка (менее 1–5 мкрад) и его небольшое сечение (десятки микрон и менее). Это должно обеспечить малую величину начального угла измерений – не более 0.1° (в кристаллических дифрактометрах 1°–2°). Некоторые установки обеспечивают начальный угол ~0.001° при типичном расстоянии образец–детектор 0.5–4 м, иногда до 30–40 м. Такой прибор с варьируемым расстоянием образец–детектор может выступать в роли кристаллического дифрактометра, но не наоборот. Максимальный угол регистрации МУР в среднем не превышает 5°–7°.
Требования к аппаратуре МУР объясняются тем, что рассеяние от неупорядоченных систем быстро спадает с ростом угла из-за азимутального размытия интенсивности, а также тем, что чем больше размер рассеивающего объекта, тем в меньшем угловом интервале сосредоточено регистрируемое рассеянное излучение – номинальное разрешение d можно определить соотношением d = 2π/q, где
(1)
модуль вектора рассеяния, |k| = 2π/λ – модуль волнового вектора (индекс s означает вектор рассеянного излучения, 0 – вектор падающей волны), θ – половина угла рассеяния.
Понять принцип образования формы картины рассеяния можно, рассматривая статистику распределения расстояний в образце как длин отрезков, соединяющих рассеивающие центры. В качестве центров можно рассматривать центры атомных электронных облаков. Если в структуре относительное число каких-нибудь расстояний d больше, чем других, на детекторе будет всплеск интенсивности в районе q = 2π/d. Гистограмма количеств расстояний r в объекте представляет собой дискретное представлений функции парных расстояний в прямом пространстве p(r), которая связана с обратным пространством (интенсивностью рассеяния) преобразованием Фурье:
(2)
. (3)
Таким образом, по данным рассеяния можно найти p(r), но структуру объекта (распределение плотности ρ(r)) из p(r) однозначно определить невозможно в силу того, что p(r) связана с ρ(r) нелинейным преобразованием – усредненной по телесному углу ω самосверткой функции структуры:
. (4)
Функцию p(r) можно найти, решая уравнение (2) методом линейных наименьших квадратов с регуляризацией, задавая значения I(q) на экспериментальной угловой сетке, а элементы p(r) – на сетке из 150–250 точек, расположенных равномерно в интервале от 0 до rmax, где rmax – априорная оценка максимального размера рассеивающего объекта. Эта величина уточняется в процессе поиска решения, как описано в [6]. Элементами матрицы системы линейных уравнений в такой задаче являются значения sin(qr)/qr.
Однако располагая структурной моделью ρ(r), всегда можно рассчитать p(r), по уравнению (2) – теоретическую интенсивность и, сравнивая ее с экспериментом, приблизить параметры модели. Интенсивность рассеяния от частицы можно также рассчитать путем суммирования амплитуд рассеяния от ее известных составных частей (например, атомов) с последующим возведением суммы в квадрат. Это так называемая формула суммирования Дебая. Решение таких задач также математически неединственно, но пространство допустимых решений ограничено так называемыми структурными инвариантами, однозначно находимыми по данным рассеяния, – радиусом инерции объекта, его максимальным размером, площадью поверхности [1–3]. Эти ограничения существенно снижают неопределенность решения и на практике позволяют получать физически и химически адекватные ответы. Сказанное выше относится к анализу данных от монодисперсных систем (систем одинаковых по структуре частиц, хаотично распределенных в пространстве). Для полидисперсных и даже бесчастичных систем по данным МУР можно найти распределения по размерам рассеивающих неоднородностей и параметры их взаимного расположения. Резюмируя, можно привести (неполный в рамках статьи) список определяемых по данным МУР характеристик:
– объемные распределения рассеивающих неоднородностей по размерам в изотропных дисперсных системах различной природы (наночастицы, поры, кластеры дефектов в монокристаллах, выделения фаз в сплавах, неоднородности в стеклах и т.д.);
– распределения по диаметрам сильно вытянутых или по толщинам плоских нанообразований в хаотических системах, а при наличии частичной упорядоченности – параметры упаковок неоднородностей;
– распределения по размерам ламеллярных образований и профиль электронной плотности слоев в ламеллах;
– функции распределения и радиусы корреляции наноразмерных неоднородностей в конденсированных системах;
– удельную площадь границы раздела между фазами и/или толщину межфазной границы в двухфазных системах (эти два параметра определяются неустойчиво и требуют привлечения дополнительной информации о фазовом и химическом составе образцов, а также прецизионных экспериментов по измерению рассеяния);
– параметры внутренней структуры (размеры флуктуаций плотности, толщина межфазных границ, типичные форм-факторы флуктуаций) для конденсированных разупорядоченных и частично упорядоченных произвольных систем путем прямого компьютерного моделирования пространственного распределения рассеивающей плотности.
В случае изотропных монодисперсных систем, или систем с узким распределением по размерам рассеивающих неоднородностей, определяют:
– максимальный размер частиц или пор;
– радиус инерции частиц;
– объем и площадь поверхности наночастиц, молекулярную массу макромолекул;
– параметры анизометрии частиц;
– форму наночастиц при разрешении ~1/5–1/7 от максимального размера, в частности структуру биомакромолекул в растворе (белки, РНК, биокомплексы), а также органических и неорганических кластеров и т.п.;
– структурную организацию многофазных частиц, таких как комплексы белков с РНК, строение везикул и мицелл в растворе;
– определение формы и внутренней структуры биомакромолекул в растворе с учетом известной аминокислотной последовательности;
– позиционирование доменов с известной структурой в биополимерных комплексах;
– проводят коррекцию известной кристаллической структуры биомолекул по данным рассеяния от раствора;
– достройку неполных кристаллических структур по данным рассеяния от целых макромолекул в растворе.
Разработаны методы, позволяющие находить структурные параметры неизвестных априори частиц в многокомпонентных системах с ограниченным (на практике 2–5) числом компонентов. Примерами таких систем могут служить равновесные или эволюционирующие смеси белковых комплексов.
С помощью компьютерного моделирования метод МУР позволяет в каждом конкретном случае определять или проверять практически любые структурные параметры в наноразмерном диапазоне, связанные с особенностями данного образца. Отметим, что эффективность использования методов МУР иногда в значительной степени зависит от наличия априорной информации об объекте исследования. Однако структурные параметры, найденные с помощью МУР, нередко являются единственным результатом, который невозможно получить никаким другим методом.
Таким образом, малоугловые эксперименты составляют важную часть в комплексе методик исследования структурной организации вещества в наноразмерном диапазоне – дифракции быстрых электронов, рентгенодифракционных методов, рентгеновской рефлектометрии, атомно-силовой и электронной микроскопии (ЭМ).
Рассмотрим несколько практических примеров.
ПРИМЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Бесчастичные системы. Не будем подробно останавливаться на анализе таких систем, как полимеры, сплавы, стекла, методы исследования которых с применением МУР подробно рассмотрены в монографиях [7, 8]. Скажем только, что по данным рассеяния рассчитывают функции радиального распределения плотности, откуда определяют радиусы ближайшего окружения в расположении неоднородностей, распределения их по размерам, а по интерференционным пикам – средний размер кристаллитов или кластеров и длину пространственной когерентности в случае частичной упорядоченности.
Полидисперсные системы и смеси. Среди полидисперсных систем (т.е. систем неидентичных частиц) можно выделить два наиболее важных случая. В одном из них объект содержит несколько различных типов невзаимодействующих частиц с произвольной структурой. Интенсивность рассеяния от такой смеси может быть записана в виде линейной комбинации
, (5)
где nk ≥ 0 и Ik(q) – объемная доля и интенсивность рассеяния от k-го типа частиц (компонент) соответственно, K – число компонент. Ясно, что располагая только экспериментальными данными рассеяния от смеси, нельзя реконструировать структуры отдельных компонент, и количество параметров, которое может быть извлечено, зависит от дополнительной информации. Если число компонент и их кривые рассеяния известны априори, можно определить объем фракций nk в линейной комбинации (5) методом неотрицательных линейных наименьших квадратов при ограничениях nk ≥ 0. Такие ситуации часто встречаются при анализе равновесных систем (растворы олигомерных белков, процессы сборки самоорганизующихся объектов, фазовые переходы в микроэмульсиях).
Другой тип полидисперсности характерен для систем, где частицы имеют схожие формы и различаются только размерами. Такие системы удобно описывать объемной функцией распределения D(R) = N(R)V(R), где N(R) – число частиц с характерным размером R в системе, а V(R) – объем одной частицы данного размера. Интенсивность рассеяния в этом случае определяется интегралом
, (6)
где i0(qR) – квадрат форм-фактора, т.е. нормированная интенсивность рассеяния частицей (i0(0) = 1), Rmin и Rmax – минимальный и максимальный размеры частиц. Биологические объекты редко дают такой вид полидисперсности, но зато данное уравнение часто применяется к мицеллам, микроэмульсиям, блок-сополимерам, металлическим наночастицам и др. В большинстве практических случаев предполагается, что форм-фактор частицы известен (в частности, для изотропной системы частицы обычно можно считать сферическими). Тогда объемную функцию распределения функций D(R) можно определить аналогично тому, как решается интегральное уравнение (2).
Для анализа полидисперсных объектов в растворе по малоугловым данным существует ряд алгоритмов, среди которых можно выделить несколько основных, основанных на минимизации суммарной квадратичной невязки между экспериментальной и модельной интенсивностями рассеяния:
– прямой поиск распределения частиц по размерам методом линейных наименьших квадратов с регуляризацией решения по Тихонову (программa GNOM [6] из пакета ATSAS [9], программа GIFT [10]);
– прямой поиск распределения частиц по размерам в виде гистограммы методами случайного поиска McSAS [11] или с помощью решения задачи нелинейных наименьших квадратов VOLDIS [12];
– постулирование вида распределения в аналитическом виде и проведение мультипараметрического приближения данных. Это реализовано, например, в программе MIXTURE [13] из пакета ATSAS; в программе SASFIT [14]) и некоторых других.
Каждый из этих алгоритмов обладает своими преимуществами и недостатками, использование только одного из них не всегда позволяет получать решения, свободные от артефактов. В [15] была предложена схема совместного использования алгоритмов, позволяющая повысить надежность восстановления функции распределения частиц по размерам.
Пример исследования системы обратных мицелл вода–ПАВ (ди-2-этил-гексил-сульфосукцинат натрия, AOT), растворенных в изооктане (подробности представлены в [13]), показан на рис. 1.
Рис. 1. Интенсивность МУРР от модели трехкомпонентной системы мицелл АОТ–вода в изооктане
Форм-фактор мицелл рассчитывали по модели сечения, агломераты AOT не содержали водяного ядра и были представлены однородными шариками (рис. 2). На рис. 3 приведены результаты расчетов. Двухкомпонентная модель (без учета агломератов ПАВ) показала отклонение модельной интенсивности рассеяния от эксперимента, тогда как трехкомпонентная описала данные с точностью до случайного шума.
Рис. 2. Модель сечения мицелл АОТ–вода. Плотность ρ представлена в единицах электрон/Å3. Rhs – потенциал слипаемости (hard sticky potential radius). dh – толщина слоя, занятого сульфатными группами ПАВ
Рис. 3. Интенсивности МУРР раствора мицелл АОТ–вода в изооктане при разных температурах (а), б – найденное объемное распределение по радиусам частиц (б)
Если имеются полые сферические частицы с размерами капсул, намного превышающими толщину их оболочки, форму экспериментальной кривой можно рассчитать в приближении разделенных форм-факторов [16], которое содержит вклады как от функции распределения капсул по размерам, так и от распределения плотности оболочечного слоя в направлении, перпендикулярном его поверхности. Результат расчета профилей электронной плотности липидного бислоя везикул от смеси липосом 10% 1,2-диолеоил-sn-глицеро-3-фосфо-L-серин (DOPS) + 90% 1,2-диолеоил-sn-глицеро-3-фосфохолин (DOPC) в присутствии матриксного белка М1 вируса гриппа A по данным МУРР от растворов с разным молярным соотношением липид/белок представлен на рис. 4 [17]. Одной из задач исследования была проверка альтернативных гипотез: белок встраивается внутрь липидного бислоя, моделирующего клеточную мембрану; белок адсорбируется на поверхность липидного бислоя. Полученный результат показал справедливость гипотезы адсорбции.
Рис. 4. Интенсивности МУРР от растворов смеси липосом 10% DOPS + 90% DOPC с разным молярным соотношением липид/белок М1 (а). Белые линии – теоретическая интенсивность, соответствующая моделям профилей плотности липидного бислоя (панель б). Пик плотности ρ в области z ~ 2.3 нм относительно центра липидного бислоя соответствует адсорбированным молекулам матриксного белка М1
С помощью данного подхода можно анализировать профили многослойных покрытий частиц, многослойных стенок капсул и липидных везикул.
Монодисперсные системы. В [18] показан способ расчета распределения электронной плотности в аксиально-симметричных частицах, основанный на представлении распределения электронной плотности рядом по сферическим гармоникам. В [19] показано, что в случае сферически симметричных частиц решение обратной задачи поиска распределения электронной плотности единственно и метод применен к определению структуры бактериофага Т7 (рис. 5). Предсказанное по результатам моделирования наличие и расположение фагового прокапсида впоследствии было подтверждено методом ЭМ.
Рис. 5. Анализ структуры бактериального вируса Т7: а – данные рентгеновского МУР (верхняя панель; сплошная кривая – эксперимент, пунктирная – рассеяние моделью), б – контуры восстановленной плотности фаговой частицы [20], в, г – структура целой частицы и фагового прокапсида соответственно по данным крио-ЭМ [21], найденные 25 лет спустя
Другим примером может служить сравнительное исследование структур иммуноглобулина М (IgM) и ревматоидного фактора (IgM-RF) [22]. В конце 90-х гг. был разработан метод ab initio восстановления формы с использованием модели конечных объемных элементов. Поиск трехмерной формы частицы осуществляется с использованием эвристических методик глобальной минимизации, например моделирования отжига (simulated annealing) [23] или генетического алгоритма [24]. Основная идея моделирования конечными объемными элементами, впервые предложенного в [24], заключается в следующем. Область поиска, (например, сфера с диаметром, равным максимальному размеру частицы Dmax) заполняется N (~103) плотноупакованными шариками радиуса r0 << Dmax. Каждому шарику приписывается индекс Xj, обозначающий, к какой фазе принадлежит данный объемный элемент (Xj = 0 – растворитель, Xj = 1 – частица). При фиксированных положениях шариков форма и структура модели конечных объемных элементов полностью описывается конфигурационным вектором X, содержащим N » (D/r0)3 компонент. В методах [23, 25] интенсивность рассеяния такой моделью быстро рассчитывается с помощью мультипольного разложения амплитуд рассеяния от шариков. Поскольку для ab initio-определения формы используются данные рассеяния, соответствующие низкому разрешению, искомая модель также должна иметь низкое разрешение по отношению к r0. Этот пoдход в разных вариантах использован в ряде программ, находящихся в свободном доступе в интернете (например, DALAI_GA, DAMMIN, DAMMIF и др.) [23–25]. Программа GASBOR [26] вместо шариков использует форм-факторы (амплитуды рассеяния) от аминокислот, координаты которых не фиксированы на сетке, а перемещаются в пространстве в процессе поиска.
На практике получаемые по одному и тому же набору данных рассеяния решения (структурные модели) отличаются друг от друга. Это связано с двумя причинами – неоднозначностью решения и его нестабильностью из-за плохой обусловленности задачи. Неоднозначность проявляется в произвольной ориентации и неразличимости энантиоморфных структур. Кроме того, теоретически возможно существование разных структур, не приводимых друг к другу операциями симметрии, и имеющих одинаковые функции распределений по расстояниям, что соответствует одинаковым модельным кривым рассеяния. Однако эта неоднозначность не является фатальной для методов, так как такие структуры имеют одинаковый набор упоминавшихся выше инвариантов и, различаясь в деталях, сохраняют общую форму частиц. Неустойчивость решения также проявляется в различиях на уровне высокого разрешения между независимо рассчитанными моделями. С помощью специальных программ (SUPCOMB [27], DAMAVER [28] и др.) набор независимо полученных структур анализируют, определяют область их разброса и область, в которую вписываются все решения. Полученная общая часть всех структур, представленная шариковой моделью, уточняется в процессе нового поиска, осуществляемого внутри области разброса.
На рис. 6 в качестве примера показаны результаты моделирования структур IgM и IgM-RF [22]. Ревматоидный фактор отличается от IgM тем, что в нем оказывается активным неспецифичный центр связывания, активность которого блокируется в IgM стерическими особенностями строения. Одной из гипотез было предположение, что периферийные Fab-фрагменты в IgM-RF неполные, что снимает блокировку неспецифичного центра. Однако выделенные из обоих типов молекул Fab-фрагменты по данным МУР оказались идентичными с точностью до ошибок измерений. Более того, шариковые структуры обеих полных молекул имели одинаковые объемы. Тем не менее в найденных структурах были заметные различия в области Fab-фрагментов: в молекуле IgM-RF они оказались несимметричными. Предполагалось, что в ревматоидном факторе гибкость этих фрагментов значительно выше, что дает возможность неспецифичному центру открываться и взаимодействовать с антигенами к собственным белкам организма. Впоследствии эта гипотеза была подтверждена методом электронного парамагнитного резонанса [22].
Рис. 6. Шариковые модели макромолекул иммуноглобулина М (IgM) и ревматоидного фактора IgM-RF, найденные по данным МУР от растворов. Кружками показаны области, занимаемые Fab-фрагментами. Видно, что в молекуле IgM-RF эти области менее симметричны
Другим чрезвычайно важным подходом для интерпретации данных МУР трехмерными моделями является моделирование жесткими телами, или метод молекулярной тектоники. Он получил свое развитие прежде всего в биологических исследованиях, где современные проекты “структурной геномики” позволяют определять тысячи структур индивидуальных макромолекул и их фрагментов с помощью рентгеноструктурного анализа и ЯМР [29–31]. Однако самые важные клеточные функции белков совершаются не отдельными белками, а макромолекулярными комплексами. Такие комплексы обычно слишком велики для исследования методом ЯМР, кроме того, они часто обладают внутренней структурной гибкостью, затрудняя тем самым их кристаллизацию. Алгоритм молекулярной тектоники основан на формуле суммирования амплитуд рассеяния, рассчитанных от известных структур отдельных фрагментов молекул, частиц или комплексов, полученных, например, методами кристаллографии, ЭМ, ЯМР и др. Программа может сдвигать и поворачивать фрагменты с учетом ограничений на такие операции и, тем самым минимизируя отклонение теоретического рассеяния от экспериментального, находить строение сложных составных частиц. При этом важно, что по данным МУР можно восстанавливать и неизвестные фрагменты с помощью моделирования их шариковыми структурами или в случае белковых объектов форм-факторами аминокислотных остатков. Пример уточнения кристаллической структуры белкового комплекса, состоящего из двух субъединиц, показан на рис. 7.
Рис. 7. Пример уточнения кристаллической доменной структуры фермента пируватдекарбоксилазы методом молекулярной тектоники [32]: а – данные рассеяния: ломаная линия – эксперимент, черная – теоретическое рассеяние от модели МУР (в), пунктир – рассеяние от кристаллической модели (б)
Новые методы анализа данных принципиальным образом изменили роль МУР в структурных исследованиях биологических макромолекул в растворе. Более того, эти методы оказались применимы для анализа небиологических наносистем.
Многокомпонентные системы частиц. Нередко изучаемые образцы представляют собой смесь небольшого (2–5) числа компонентов. Структура некоторых из них может быть известна, и это значительно повышает точность интерпретации экспериментальных данных. Для случаев, когда компоненты неизвестны, разработаны аппаратно-программные комплексы исследования смесей с использованием хроматографической колонки. В тех случаях, а их большинство, когда невозможно провести полное разделение, применяют алгоритмы эволюционного факторного анализа. Выход хроматографической колонки соединяют с проточной кюветой и через небольшие интервалы времени снимают кривые интенсивности МУР. Полученный набор измерений (обычно несколько тысяч кривых, объединенных в матрицу данных) анализируют методом сингулярного разложения, определяя временные области, в которых отсутствует один или несколько компонентов. После этого, выделяя эти области, методом неотрицательных наименьших квадратов рассчитывают концентрационные вклады компонентов и соответствующие им кривые рассеяния [33]. Далее по полученным индивидуальным контурам проводят поиск моделей частиц, как это было рассмотрено выше. На рис. 8 показан пример анализа образования гексамеров и октамеров альдолазы со временем.
Рис. 8. Хроматографической профиль (C – относительная концентрация) раствора альдолазы, интервал съемки кадров ~1 с, на врезке – спектр сингулярных чисел матрицы измерений, видны два значимых компонента (а); эволюция величин первых двух сингулярных чисел с ростом включенных кадров (1, 2 – прямой ход расчета) и с ростом исключенных (3, 4 – обратный ход), вертикальными линиями обозначены временные моменты изменения числа компонентов (б); рассчитанные методом факторного анализа концентрационные профили выхода компонентов: 1 – октамеры, 2 – гексамеры, 3 – суммарный контур (в); найденные профили интенсивности рассеяния от компонентов (г) (обозначения те же)
Показателен случай исследования предкристаллизационных растворов биомолекул. Так, с применением программ расчета распределений по размерам частиц в растворах лизоцима было выявлено, что в таком растворе наряду с мономерами присутствуют небольшое количество димеров и значительное количество октамеров [34, 35]. Примечательно, что элементарная ячейка кристалла лизоцима состоит из восьми мономеров. Из этого эксперимента был сделан вывод, подтвердившийся впоследствии и для некоторых других белков [36, 37], что в растворе, пригодном для начала кристаллизации, находятся агрегаты, соответствующие размерам будущих элементарных ячеек.
Многофазные частицы и вариация контраста. Интенсивность рассеяния от частицы и ее компонент пропорциональна квадрату контраста (разности между рассеивающей плотностью частицы и плотностью растворителя). Следовательно, если плотности компонент частицы различаются, их относительный контраст можно менять, варьируя плотность растворителя, и тем самым изменять их относительный вклад в суммарную интенсивность рассеяния. Для нейтронного рассеяния плотность отдельных компонент и растворителя можно менять путем замещения протонов в биополимерах на ядра дейтерия и изменения доли тяжелой воды в растворе. Протоны рассеивают в основном некогерентно, создавая почти не зависящий от угла фон, а ядра дейтерия, рассеивая в основном когерентно и обладая большим сечением рассеяния, определяют форму кривой интенсивности. Меняя концентрацию тяжелой воды в растворителе, можно в широких пределах менять контраст компонентов структуры, подчеркивая и убирая их вклад в данные. Набор кривых нейтронного рассеяния, соответствующих различным контрастам, представляет собой более богатый информацией экспериментальный материал и позволяет селективно моделировать структуру компонент частицы. Примером поиска сложной структуры может служить исследование частично дейтерированных частиц рибосомы Escherichia coli 70S и ее субъединицы 50S. Поиск структуры был проведен аналогом программы шарикового моделирования, в которой плотности шариков можно задавать четырьмя разными значениями и объединять их с помощью штрафных членов за рыхлость структуры, вводя их в минимизируемую целевую функцию для каждой фазы. На рис. 9 показана структура 50S, найденная по набору более чем из 20-ти кривых нейтронного рассеяния, снятых при разных концентрациях тяжелой воды и различных комбинациях дейтерирования белковой и РНК-фаз.
Рис. 9. Шариковая структура частицы рибосомы 50S по данным МУРН [38] (а), кристаллическая модель, найденная впоследствии [39] (б). Более светлые шарики в модели а означают фазу РНК, темные – области, занятые белками
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Еще не так давно – всего три десятилетия назад – основными результатами малоугловых исследований были хорошо (по тем временам) измеренные инварианты рассеяния, определение формы некоторых монодисперсных рассеивающих объектов (в основном белков) и интегральные характеристики полимеров. Но еще раньше началась теоретическая разработка таких методов интерпретации данных рассеяния, которые сегодня дают возможность по одномерной кривой восстанавливать трехмерные распределения плотности. Крайне актуальны и востребованы способы интерпретации данных МУР, основанные на методах регуляризации, нелинейной оптимизации, эвристических алгоритмах и прочих. В развитие таких подходов существенный вклад был внесен многолетними совместными работами лаборатории малоуглового рассеяния Института кристаллографии РАН и группой малоуглового рассеяния Европейской лаборатории молекулярной биологии в Гамбурге. В результате был создан пакет ATSAS [9, 40], свободный для академических пользователей, который вошел также в портал, объединяющий наиболее общие комплексы программ анализа данных рассеяния [41]. Разработчики программных комплексов предоставляют теперь возможность расчета моделей on-line. Среди этих комплексов степень использования программ из пакета ATSAS составляет более 50%, а число цитирований более 1000/год.
По аналогии с базой данных кристаллических белковых структур (PDB) создана и интенсивно расширяется база белковых структур, найденных по данным МУР от растворов SASBDB [42], в которой к моменту написания статьи было размещено более 5000 структур.
Сейчас уже не стоит вопрос, является ли МУР узкоспециальной дисциплиной, необходимой только небольшому количеству специалистов: ежегодное количество статей по рентгеновскому и нейтронному МУР в цитируемых журналах мира возросло от нескольких десятков в 1950 г. до нескольких тысяч в настоящее время, и продолжается экспоненциальный рост. Метод применяется ко все более сложным и важным биологическим и наноструктурированным объектам, причем результаты МУР имеют как самостоятельное значение, так и дополняют и расширяют структурную и функциональную информацию, полученную другими методиками.
Широкое применение синхротронного излучения (СИ) открывает двоякие перспективы для МУР. С одной стороны, быстрые измерения с использованием малых количеств образцов позволяют проводить такие широкомасштабные исследования, как комбинаторный анализ структурных откликов на изменения внешних условий. При этом стандартизация и автоматизация самого эксперимента и анализа данных играет первоочередную роль, и такие автоматические линии уже существуют на синхротронах третьего поколения. С другой стороны, уникальные параметры новейших источников СИ (микронные и субмикронные размеры пучка, его когерентность, возможность исследований в широком диапазоне длин волн) дают возможность проводить концептуально новые эксперименты. Можно ожидать, что дальнейшее развитие МУР на синхротронах третьего и четвертого поколений послужит мостом к проведению будущих экспериментов, использующих лазеры на свободных электронах.
Работа выполнена в рамках Государственного задания Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Часть измерений рентгеновского рассеяния выполнена на оборудовании Центра коллективного пользования Курчатовского комплекса кристаллографии и фотоники.
About the authors
V. V. Volkov
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Author for correspondence.
Email: vvo@crys.ras.ru
Russian Federation, Moscow
P. V. Konarev
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: vvo@crys.ras.ru
Russian Federation, Moscow
M. V. Petoukhov
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: vvo@crys.ras.ru
Russian Federation, Moscow
V. E. Asadchikov
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: vvo@crys.ras.ru
Russian Federation, Moscow
References
- Feigin L.A., Svergun D.I. Structure Analysis by Small-Angle X-ray and Neutron Scattering. New York: Plenum Press, 1987. 321 p.
- Glatter O., Kratky O. Small-Angle X-ray Scattering. London: Acad. Press, 1982. 515 p.
- Guinier A., Fournet G. Small-Angle Scattering of X-rays. New York: John Wiley and Sons, 1955. 269 p.
- Lombardo D., Calandra P., Kiselev M. // Molecules. 2020. V. 25. 5624. P. 1. https://doi.org/10.3390/molecules25235624
- Stribeck N. X-Ray Scattering of Soft Matter. Berlin; Heidelberg: Springer-Verlag, 2007. 238 p. https://doi.org/10.1007/978-3-540-69856-2
- Svergun D.I. // J. Appl. Cryst. 1992. V. 25. P. 495. https://doi.org/10.1107/S0021889892001663
- Бекренев А.Н., Миркин Л.И. Малоугловая рентгенография деформации и разрушения материалов. М.: МГУ, 1991. 246 с.
- Скрышевский А.Ф. Структурный анализ жидкостей и аморфных тел. М.: Высшая школа, 1980. 328 с.
- Manalastas-Cantos K., Konarev P.V., Hajizadeh N.R. et al. // J. Appl. Cryst. 2021. V. 54. P. 343. https://doi.org/10.1107/S1600576720013412
- Glatter O. // J. Appl. Cryst. 1977. V. 10. № 5. P. 415. https://doi.org/10.1107/S0021889877013879
- Bressler I., Pauw B.R., Thunemann A.F. // J. Appl. Cryst. 2015. V. 48. P. 962. https://doi.org/10.1107/S1600576715007347
- Volkov V.V. // Crystals. 2022. V. 12. 1659. P. 1. https://doi.org/10.3390/cryst12111659
- Svergun D.I., Konarev P.V., Volkov V.V. et al. // J. Chem. Phys. 2000. V. 113. P. 1651. https://doi.org/10.1063/1.481954
- Bressler I., Kohlbrecher J., Thünemann A.F. // J. Appl. Cryst. 2015. V. 48. P. 1587. https://doi.org/10.1107/S1600576715016544
- Волков В.В., Конарев П.В., Крюкова А.Е. // Письма в ЖЭТФ. 2020. Т. 112. Вып. 9. С. 632. https://doi.org/10.31857/S1234567820210107
- Kiselev M.A., Lesieur P., Kisselev A.M. et al. // Appl. Phys. A. 2002. V. 74. P. s1654. https://doi.org/10.1007/s003390201837
- Kordyukova L.V., Konarev P.V., Fedorova N.V. et al. // Membranes. 2021. V. 11. P. 772. https://doi.org/ 10.3390/membranes11100772
- Stuhrmann H.B. // Acta Cryst. A. 1970. V. 26. P. 297.
- Свергун Д.И., Фейгин Л.А., Щедрин Б.М. // Кристаллография. 1981. Т. 26. С. 1163.
- Рольбин Ю.А., Свергун Д.И., Фейгин Л.А. и др. // Докл. АН СССР. 1980. Т. 255. С. 1497.
- Agirrezabala X., Martin-Benito J., Caston J.R. et al. // EMBO J. 2005. V. 24. P. 3820.
- Волков В.В., Лапук В.А., Штыкова Э.В. и др. // Кристаллография. 2008. Т. 53. № 3. С. 476.
- Svergun D.I. // Biophys. J. 1999. V. 76. P. 2879. https://doi.org/10.1016/S0006-3495(99)77443-6
- Chacon P., Moran F., Diaz E. et al. // Biophys. J. 1998. V. 74. P. 2760. https://doi.org/10.1016/s0006-3495(98)77984-6
- Franke D., Svergun D.I. // J. Appl. Cryst. 2009. V. 42. P. 342. https://doi.org/10.1107/S0021889809000338
- Svergun D.I., Petoukhov M.V., Koch M.H.J. // Biophys. J. 2001. V. 80. P. 2946. https://doi.org/10.1016/S0006-3495(01)76260-1
- Kozin M.B., Svergun D.I. // J. Appl. Cryst. 2001. V. 34. P. 33. https://doi.org/10.1107/S0021889800014126
- Volkov V.V., Svergun D.I. // J. Appl. Cryst. 2003. V. 36. P. 860. https://doi.org/10.1107/S0021889803000268
- Mertens H.D., Svergun D.I. // J. Struct. Biol. 2010. V. 172. № 1. P. 128. https://doi.org/10.1016/j.jsb.2010.06.012
- Сердюк И., Заккаи Н., Заккаи Дж. Методы в молекулярной биофизике. Структура. Функция. Динамика. В 2 томах. М.: Книжный дом “Университет”, 2009–2010. 1304 с.
- Levitt M. // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2007. V. 104. P. 3183. https://doi.org/10.1073/pnas.0611678104
- Petoukhov M.V., Svergun D.I. // Biophys. J. 2005. V. 89. P. 1237. https://doi.org/10.1529/biophysj.105.064154
- Konarev P.V., Graewert M.A., Jeffries Cy M. et al. // Protein Sci. 2022. V. 31. P. 269. https://doi.org/10.1002/pro.4237
- Kovalchuk M.V., Blagov A.E., Dyakova Y.A. et al. // Cryst. Growth Des. 2016. V. 16. P. 1792. https://doi.org/10.1021/acs.cgd.5b01662
- Дьякова Ю.А., Ильина К.Б., Конарев П.В. и др. // Кристаллография. 2017. Т. 62. № 3. С. 364. https://doi.org/10.1134/S1063774517030051
- Kovalchuk M.V., Boikova A.S., Dyakova Y.A. et al. // J. Biomol. Struct. Dyn. 2019. V. 37. P. 3058. https://doi.org/10.1080/07391102.2018.1507839
- Marchenkova M.A., Konarev P.V., Rakitina T.V. et al. // J. Biomol. Struct. Dyn. 2020. V. 38. P. 2939. https://doi.org/10.1080/07391102.2019.1649195
- Svergun D.I., Nierhaus K.H. // J. Biol. Chem. 2000. V. 275 (19). P. 14432–9. https://doi.org/10.1074/jbc.275.19.14432
- Nissen P., Hansen J., Ban N. // Science. 2000. V. 289. P. 920. https://doi.org/10.1126/science.289.5481.920
- EMBL Hamburg, Biological Small Angle Scattering, BioSAXS. ATSAS online. http://www.embl-hamburg.de/biosaxs/atsas-online/
- SAS Portal. http://smallangle.org/content/software
- SASBDB Curated repository for small angle scattering data and models. https://www.sasbdb.org/
Supplementary files