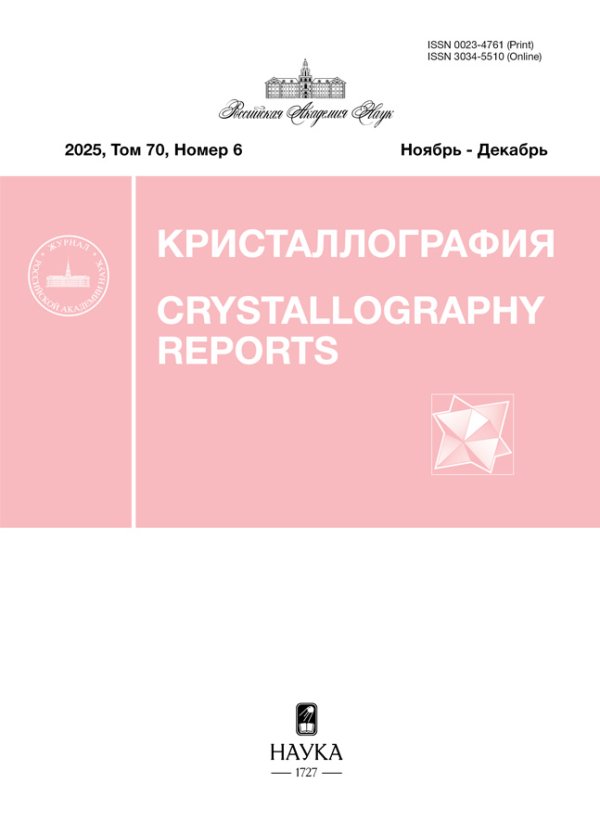Subnanosecond X-ray diffraction technique for studying laser-induced polarization-dependent processes in KISI-Kurchatov
- Authors: Kovalchuk M.V.1, Mareev E.I.1, Kulikov A.G.1, Pilyak F.S.1, Obydennov N.N.1,2, Potyomkin F.V.2, Pisarevsky Y.V.1, Marchenkov N.V.1, Blagov A.E.1
-
Affiliations:
- Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
- Lomonosov Moscow State University
- Issue: Vol 69, No 2 (2024)
- Pages: 221-229
- Section: ДИФРАКЦИЯ И РАССЕЯНИЕ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ
- URL: https://bakhtiniada.ru/0023-4761/article/view/259681
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0023476124020053
- EDN: https://elibrary.ru/YTQWOA
- ID: 259681
Cite item
Full Text
Abstract
The dynamics of the diffraction peak 0012 parameters of LiNbO3:Fe crystals with a time resolution of less than 1 ns were recorded by synchronizing nanosecond laser pulses with electron bunches of the KISI-Kurchatov synchrotron source. The influence of a laser pulse (λ = 532 nm, t = 4 ns, energy density 0.6 J/cm2) at different polarization directions of the laser radiation causes a change in the peak intensity, which depends on the angle between the polarization direction of the laser radiation and the crystallographic axes. The obtained results are supplemented with wavelet analysis of experimental data. The observed polarization dependence correlates with published data on the photovoltaic effect.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
За счет стремительного развития источников рентгеновского излучения (лазерно-плазменных источников, синхротронов, лазеров на свободных электронах) существенно выросли возможности проведения рентгенооптических экспериментов в схеме накачка–зондирование, в рамках которой ультракороткий оптический лазерный импульс, воздействуя на кристаллическую решетку твердого тела, вызывает такие процессы, как фотоиндуцированный пьезоэлектрический эффект, фазовые переходы, ударные волны [1–3]. Это позволяет проводить измерения с высоким пространственным и временным разрешением. Реализация таких экспериментов требует синхронизации обоих импульсов, т. е. возможности фиксировать и управлять относительной временной задержкой [4, 5]. Изменение задержки между оптическим и рентгеновским импульсами дает возможность регистрировать динамику лазерно-индуцированных процессов в широком временном диапазоне с высоким разрешением. Такой подход развивает методику зондирования пробным импульсом, которая широко используется для анализа сверхбыстрых процессов [6, 7]. Но в отличие от оптического излучения рентгеновский диапазон длин волн является уникальным инструментом для структурного анализа конденсированного вещества (в том числе непрозрачного для видимого излучения) за счет многократно меньшей длины волны, что позволяет непосредственно исследовать динамику кристаллической решетки [8].
В настоящей работе проведен анализ актуальных подходов для времяразрешающих исследований лазерно-индуцированных процессов на различных источниках рентгеновского излучения.
На базе экспериментальной станции рентгеновской кристаллографии и физического материаловедения (РКФМ) Курчатовского источника синхротронного излучения КИСИ-Курчатов была разработана времяразрешающая методика и собрана экспериментальная установка для регистрации субнаносекундной динамики поляризационно-чувствительных лазерно-индуцированных процессов в кристалле LiNbO3:Fe, наблюдаемых при воздействии наносекундного лазерного импульса зеленого диапазона длин волн.
Для регистрации процессов субнаносекундной динамики, индуцированных наносекундными лазерными импульсами видимого диапазона длин волн в кристалле LiNbO3:Fe, в качестве наиболее подходящего инструмента исследования был выбран времяразрешающий рентгенодифракционный метод [9–11], реализованный на станции РКФМ синхротронного источника КИСИ-Курчатов. Синхронизация систем накачки и зондирования осуществлялась с помощью методики, апробированной на станции ФАЗА [12]. Азимутальный поворот кристалла в условиях дифракции позволил исследовать влияние поляризации лазерного излучения на параметры фотоиндуцированных процессов. Полученные результаты были дополнены вейвлет-анализом экспериментальных данных.
ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ АППАРАТНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ВРЕМЯРАЗРЕШАЮЩИХ РЕНТГЕНОВСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Воздействие лазерного излучения способно активировать множество различных физических процессов, каждый из которых обладает характерными временами (рис. 1). Сегодня для реализации времяразрешающих рентгеновских экспериментов в широком диапазоне времен в основном используются следующие источники рентгеновского излучения: аттосекундные рентгеновские импульсы (генерация гармоник высокого порядка) [13], лазеры на свободных электронах, лазерно-плазменные источники, а также синхротроны.
Рис. 1. Временной диапазон некоторых физических процессов, которые могут быть зарегистрированы на различных источниках рентгеновского излучения
Аттосекундные рентгеновские импульсы. В основе получения аттосекундных рентгеновских импульсов лежит принцип генерации высоких гармоник лазерного излучения. Этот процесс включает в себя динамику электронов (генерацию за счет туннельного эффекта, ускорение квазисвободного электрона во внешнем поле лазерного импульса, рекомбинацию) в сильном поле, возникающем при фокусировке мощного фемтосекундного лазерного импульса на мишени (твердотельная среда/газовая струя) [14–16]. Обычно при таком подходе длительность импульсов порядка нескольких десятков–сотен аттосекунд, их энергия ~10–1000 эВ [13, 17, 18]. Во времяразрешающих экспериментах аттосекундные импульсы используются для исследования динамики электронов при воздействии сильных световых полей, а также динамики фотоионизации [18]. Несмотря на всю привлекательность сверхкоротких импульсов, которые на данный момент невозможно получить другими способами, аттосекундные эксперименты требуют применения вакуумного тракта, а малая энергия рентгеновских фотонов значительно затрудняет исследование процессов в объеме вещества. Применение длинноволнового (l > 2 мкм) интенсивного фемтосекундного лазерного излучения вместе с мощным терагерцевым излучением и методов фазового согласования [19] или альтернативного подхода генерации аттосекундных импульсов поверхностью твердотельных мишеней по механизму релятивистского осциллирующего зеркала позволяет повысить энергию рентгеновских фотонов и упростить проведение таких экспериментов. Так или иначе времяразрешающие эксперименты с использованием аттосекундных импульсов открывают новую эру для исследования электронной структуры [18, 20]. Временного разрешения достигают в классическом эксперименте зондирования пробным импульсом, когда физически меняется расстояние, которое проходит пробный импульс в оптической схеме.
Лазерно-плазменные источники используются как в промышленном производстве микросхем, так и в науке в качестве источников коротких рентгеновских импульсов (порядка пикосекунд) [21, 22]. Рентгеновское излучение в данном случае генерируется при фокусировке интенсивных лазерных импульсов на поверхности мишени. За счет формирования плотной электронной плазмы возникает излучение характеристических рентгеновских фотонов и тормозное излучение. Путем выбора необходимой мишени можно управлять длиной волны генерируемого рентгеновского импульса от нескольких электронвольт (медь – 8.04 кэВ) до десятков килоэлектронвольт (олово – 13.5 эВ). Существующие лазерно-плазменные источники позволяют добиться потока рентгеновских фотонов ~1.5 × 109 фот/с/2π [23]. Однако рентгеновское излучение в таких источниках ненаправленное, поэтому в большинстве случаев необходима дополнительная фокусирующая/коллимирующая оптика, что значительно (на несколько порядков, 10–3–10–4) сокращает эффективный поток фотонов [24]. В то же время за счет применения мощных нано- и фемтосекундных лазеров эти источники рентгеновского излучения нашли свое применение во времяразрешающих экспериментах [25]. В них и накачка, и зондирование осуществляются с помощью одного лазерного импульса, одна часть его энергии направляется на образец, а другая – на мишень для генерации рентгеновского излучения. Меняя оптический путь лазерного импульса, можно управлять временной задержкой между импульсами, добиваясь пикосекундного временного разрешения эксперимента [25].
Рентгеновские лазеры на свободных электронах (РЛСЭ) обладают рекордными параметрами яркости и когерентности [26], что в совокупности с временной структурой пучка делает его удобным инструментом для времяразрешающих исследований. Эксперименты, проводимые на РЛСЭ с помощью техники накачка–зондирование, позволяют регистрировать динамику физических процессов с временным разрешением до фемтосекунд, в том числе процессов формирования наноплазмы [21] или разрушения материала при воздействии интенсивного рентгеновского излучения [27, 28]. Такие исследования возможны за счет малой длительности импульса РЛСЭ и высокой яркости излучения. Однако частота следования импульсов РЛСЭ сравнительно мала (~100 Гц), что осложняет процесс накопления достаточной статистики экспериментальных данных. Синхронизацию лазерного и рентгеновского импульсов можно осуществлять за счет регистрации среднего времени прибытия электронного сгустка, измеряемого в ондуляторном зале, и передачи сигнала с помощью стабилизированной волоконно-оптической системы на источник лазерного излучения [29]. Иной способ синхронизации основан на модуляции электронного пучка в ондуляторной системе РЛСЭ ультракоротким лазерным импульсом, что непосредственно связывает фазы рентгеновского и оптического импульсов [30].
Синхротронные источники. В источниках синхротронного излучения (СИ) отдельные электронные сгустки (банчи) следуют по орбите кольца с заданной частотой повторения. Для их жесткой синхронизации с короткими лазерными импульсами необходимо синхронизировать частоту следования импульсов в резонаторе лазера с частотой следования электронных сгустков в кольце [31]. Традиционным подходом для достижения этой цели является фазовая автоподстройка частоты, когда одно из зеркал в резонаторе устанавливают на транслятор с пьезоэлектрическим приводом, амплитуда смещения которого пропорциональна разнице частот резонатора и следования лазерных импульсов в синхротроне [32, 33]. Другим подходом является применение наносекундных лазерных систем с активной модуляцией добротности – в этом случае необходимо проредить частоту повторения лазерных импульсов до нескольких герц–килогерц, т. е. до частот, на которых работает большая часть наносекундных лазерных систем. В любом из этих случаев задержка между лазерным и рентгеновским импульсами меняется с помощью электроники, что ограничивает предельное временное разрешение субнаносекундным временным интервалом [8]. В то же время из-за периодичности следования рентгеновских импульсов формально будет перекрыт весь временной диапазон, если изменять временную задержку равномерно в интервале, соответствующем периоду накопительного кольца [34]. Это дает возможность записать полную временную развертку изучаемого процесса за счет неограниченной статистики накопления данных, а максимальное временное разрешение будет определяться возможностями измерительной аппаратуры.
Таким образом, для диагностики процессов, инициированных короткими лазерными импульсами, необходимо грамотно выбирать источник рентгеновского излучения: для диагностики процессов с аттосекундным разрешением могут быть использованы лишь аттосекундные лазерные импульсы; для исследования процессов, протекающих более чем за десяток наносекунд, нерационально использовать источники, отличные от синхротронных.
МЕТОДИКА И ИНСТРУМЕНТЫ
Рентгенооптические эксперименты проводили на станции РКФМ КИСИ-Курчатов. Принципиальная схема эксперимента представлена на рис. 2. В качестве образца использовали монокристалл LiNbO3:Fe (Fe2O3 = 0.1 мас. %) в виде плоскопараллельной пластины Z-среза.
Рис. 2. Схема экспериментальной установки: BM – источник СИ (поворотный магнит), Slits1 – щели белого пучка, Slits2 – щели монохроматизированного пучка, M – двухкристальный монохроматор Si 111, IC – ионизационная камера, G – гониометр с установленным образцом, S – образец, L – источник лазерного излучения, D – дефлектор, PG – призма Глана. Плата синхронизации запускает блок управления лазером с заданной задержкой в соответствии с опорным высокочастотным сигналом накопительного кольца. Осциллограф позволяет оцифровать аналоговый сигнал, поступающий с детектора
Полихроматическое СИ генерируется с помощью поворотного магнита и коллимируется водоохлаждаемыми щелями белого пучка. Последующую монохроматизацию σ-поляризованного СИ осуществляли с помощью двух горизонтально расположенных высокосовершенных кремниевых монокристаллов с симметричными отражениями Si 111, обеспечивающих относительную энергетическую расходимость ∆E/E = 2 × 10–4. Монохроматор был настроен на энергию 12.000 кэВ, соответствующую наиболее яркой области спектра поворотного магнита. Размер рентгеновского пучка задавали щелями с апертурой 0.5 × 0.2 мм. Исследуемый образец LiNbO3:Fe был установлен в гониометрической системе многокружного дифрактометра Huber и настроен на рефлекс 0012 с углом Брэгга 26.562°, глубиной экстинкции 3.7 мкм и полушириной кривой дифракционного отражения (КДО) 10.1 угл. с.
Образец облучали несфокусированными лазерными импульсами с частотой повторения 5 Гц, длительностью ~4 нс и плотностью потока энергии 0.6 Дж/см2. Лазерный пучок с длиной волны 532 нм попадал на образец по нормали к поверхности. Энергию лазерного импульса варьировали поворотом призмы Глана. Изменяя угол наклона последнего из заводящих зеркал оптической схемы, достигали совмещения и пространственного перекрытия лазерного и рентгеновского пучков на поверхности образца. Направления линейной поляризации и рентгеновского и лазерного пучков совпадали.
Отметим, что перед началом эксперимента выжидали некоторое время (порядка получаса), достаточное для температурной стабилизации образца. Дополнительно в ходе эксперимента температуру его поверхности контролировали бесконтактным способом при помощи тепловизора, показавшего, что ее изменение не превышало 1–2°C.
Для измерения интенсивности дифрагированного образцом рентгеновского излучения использовали лавинный фотодиодный времяпролетный детектор FMB Oxford, расположенный на двойном угле Брэгга. Сигнал с детектора оцифровывался многоканальным осциллографом “Питон” (Rudnev-Shilyaev), обеспечивающим частоту дискретизации 1 ГГц и разрешение 14 бит.
Измерения осуществляли в схеме оптическая накачка–рентгеновское зондирование. Лазерное излучение синхронизировалось с периодом следования электронных сгустков в кольцевом накопителе синхротрона. Накопительное кольцо синхротрона КИСИ-Курчатов работало в режиме N-сгустков (N = 75) с периодом обращения орбиты накопителя Tнак = 414 нс. Длительность каждого импульса ~140 пс. Для синхронизации использовали самостоятельно разработанную электрическую схему на основе массива программируемых логических интегральных схем (ПЛИС), что позволило добиться низкого фазового дрожания электронного импульса (джиттера). В реализованной экспериментальной схеме высокочастотный генератор кольцевого накопителя, работающий на частоте 2.415 МГц, служил внешним тактовым сигналом для системы на основе ПЛИС, обеспечивая надежную синхронизацию всех сигналов с электронными сгустками. Затем частоту управляющего сигнала прореживали до 5 Гц путем отсчета 490200 тактов внешнего воздействия. Сигналы с частотой 5 Гц использовали для запуска лампы и управления электрооптическим затвором наносекундного лазера с варьируемыми временными задержками между импульсами.
Временная задержка между лазерным и рентгеновским импульсами варьировалась с субнаносекундным шагом в диапазоне 414 нс. Для каждой задержки проводили 10 измерений, которые усредняли. В результате измерений с вариацией задержки в диапазоне всего периода накопительного кольца достигли квазинепрерывного по времени рентгеновского сигнала. Полный зарегистрированный временной диапазон ограничивался размером буфера осциллографа, а именно 32 мкс.
Обработка сигнала проводится в несколько этапов. На первом этапе записывают сигнал на осциллографе в отсутствие синхротронного пучка. Это позволяет зарегистрировать шум и возможные наводки, вызванные электроникой. Отметим, что темновой ток детектора практически равен нулю. После этого записывают сигнал с детектора при включенном пучке. В процессе обработки из экспериментальных данных вычитают возможные наводки.
Чтобы получить полную динамику дифракционного пика, такие временные развертки регистрировали для девяти угловых положений на КДО. Результаты представлены на трехмерной тепловой карте, где вдоль оси X приведена задержка между лазерным и рентгеновским импульсами, а вдоль оси Y – угол отклонения q (рис. 3). Описанные измерения проводили для различных азимутальных углов j поворота образца относительно нормали к поверхности, совпадающей с направлением падения лазерного пучка. Это позволяет определить влияние направления поляризации импульса накачки на динамику фотоиндуцированных процессов.
Рис. 3. Динамика КДО кристалла LiNbO3:Fe (рефлекс 0012) при воздействии лазерного импульса (белая штриховая линия указывает начальный момент воздействия) для различных азимутальных углов φ, совпадающих с направлением поляризации лазерного излучения относительно кристаллографической оси X [20]. Результаты построены в виде трехмерных карт (цветом обозначена интенсивность зарегистрированного сигнала при заданной временной задержке и угловом положении). В правом верхнем углу указано значение угла φ
Временное разрешение методики ограничено несколькими факторами: частотой дискретизации и скоростью сбора информации измерительной аппаратуры, осциллографа, которая может быть улучшена при использовании моделей с бóльшим значением гигавыборок в секунду; дрожанием электронного импульса в системе синхронизации, а также при запуске лазера (более сложная система ПЛИС позволяет уменьшить его до значений менее сотни пикосекунд); интенсивностью синхротронного пучка. Применение короткоимпульсного (фемтосекундного) высокочастотного лазера позволит существенно улучшить статистику и одновременно избежать нагрева образца. Теоретически временное разрешение может быть меньше длительности электронного импульса и составлять менее сотни пикосекунд.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Рентгенодифракционные измерения. В рамках эксперимента зарегистрирована динамика КДО кристалла LiNbO3:Fe при воздействии лазерного излучения при различных азимутальных углах j, совпадающих с направлением поляризации лазерного излучения относительно кристаллографической оси X [20]. Полученные массивы данных типа I(q, t) представлены в виде трехмерных карт в координатах время–угол–интенсивность во временном диапазоне от –50 до +150 нс (0 нс соответствует моменту начала воздействия лазерного импульса) (рис. 3).
Представленный на рис. 3 временной масштаб демонстрирует отклик кристаллической решетки на оптическое воздействие. Спустя некоторое время после лазерного импульса наблюдается резкое уменьшение интенсивности как в пике КДО, так и на ее хвостах. Максимуму падения интенсивности соответствует 70% от ее исходной величины. За счет низкой скважности оптического лазера существуют флуктуации интенсивности. Несмотря на это, результирующий эффект существенно превосходит шум (более 3σ), что позволяет отчетливо наблюдать временную зависимость обратимого процесса.
Амплитуда эффекта непосредственно зависит от направления поляризации лазерного излучения. В зависимости от азимутального угла поворота кристалла падение интенсивности, а также момент времени, в который оно достигает максимума, изменяются. Исходя из представленных экспериментальных данных наиболее яркий эффект (наибольшее уменьшение интенсивности) соответствует углу 0° (поляризация лазерного излучения сонаправлена с осью X). Спустя ~30 нс параметры КДО возвращаются в исходное значение.
Вейвлет-анализ. Для того чтобы сравнить динамику КДО при различных азимутальных углах, был проведен вейвлет-анализ зависимости интегральной интенсивности КДО от времени. Вейвлет-анализ является альтернативой фурье-анализу для обработки временных сигналов с меняющимся со временем спектральным составом [35]. В вейвлет-анализе используется базис, каждая функция которого характеризует определенную пространственную (временную) частоту и место ее локализации в физическом пространстве (во времени). Преимущество вейвлет-преобразования перед преобразованием Фурье состоит в том, что оно позволяет проследить изменение спектральных свойств сигнала со временем и указать, какие частоты (масштабы) доминируют в сигнале, а также в возможности использования более быстрых алгоритмов в поиске разложения по базису функции [35]. Результатом вейвлет-анализа является двумерная тепловая карта.
Анализ проведен на примере данных, полученных для различных азимутальных положений кристалла, составляющих углы 0° и 120° между направлением вектора поляризации лазерного излучения и осью X кристалла. Результаты наиболее сильно отличаются друг от друга: при 0° виден максимальный провал интегральной интенсивности пика, тогда как при 120° интенсивность практически не меняется и даже немного растет. При других азимутальных углах наблюдается переходный характер изменений интенсивности. Эти два случая больше всего отличаются друг от друга и поэтому выбраны для визуализации. Трехмерная визуализация вейвлет-анализа данных по базовой функции “мексиканская шляпа” для указанных углов представлена на рис. 4. Отрицательные значения демонстрируют области уменьшения сигнала, положительные – увеличения. Отметим, что конечная “длительность” базисной функции приводит к уширению вдоль оси времени на трехмерных картах.
Рис. 4. Трехмерная визуализация вейвлет-анализа данных для азимутальных углов 0° и 120°
Обработка данных показала существенные различия в динамике наблюдаемых процессов. Результаты представлены на рис. 4 в ω–t-пространстве. При j = 0° сразу после воздействия наблюдается незначительный рост интегральной интенсивности КДО, причем диапазон частот очень широк – до 40 МГц, затем следует резкое уменьшение сигнала, спектр составляет ~35 МГц. Такой широкий спектр (почти горизонтальная линия в ω–t-пространстве) свидетельствует о крайне высокой скорости изменения сигнала, близкой к предельному временному разрешению метода. Спустя ~50 нс после лазерного воздействия сигнал возвращается к исходному виду со спектрально-временной формой, зеркальной относительно первоначального возбуждения.
При азимутальном угле j = 120° изначальный рост интегральной интенсивности КДО отсутствует – сразу после воздействия лазерного импульса наблюдается ее уменьшение. Ширина спектра возбуждения более узкая, ~25–30 МГц. Затем сигнал возвращается на исходный уровень, процесс происходит более “плавно”, чем при нулевом угле.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Характерным признаком наблюдаемого фотоиндуцированного процесса является падение интенсивности КДО. Эффект возникает менее чем через 10 нс после воздействия лазерного импульса и наблюдается в течение 25–30 нс, после чего параметры КДО возвращаются в исходное значение.
Лазерный импульс, воздействуя на кристалл LiNbO3:Fe, поглощается электронными оболочками примесных атомов железа. В результате электроны покидают оболочку и мигрируют вдоль вектора спонтанной поляризации согласно механизму объемного фотовольтаического эффекта. В случае стационарного эффекта такая миграция приводит к формированию электрического поля высокой напряженности (до нескольких кВ/мм) [36, 37]. Однако в рамках проведенного эксперимента длительности воздействия недостаточно для того, чтобы сформировать электрическое поле в объеме кристалла. В исследуемом образце на масштабе регистрируемых времен процесс переноса заряда осуществляется термализованными носителями заряда – поляронами. Таким образом, провал интенсивности КДО, наблюдаемый в результате воздействия лазерного импульса, может быть обусловлен колебаниями решетки, вызванными инжекцией и миграцией поляронов, т. е. фототоком.
Подобный процесс может быть вызван температурными эффектами [38]. Однако колебания температуры образца в ходе эксперимента, зарегистрированные с помощью тепловизора, достаточно малы, что обусловлено низкой скважностью лазерного импульса накачки (5 Гц), а также большим временем между измерениями, выжидаемым с целью терморегуляции кристалла. Таким образом, влияние температурных эффектов можно считать пренебрежимо малым.
Еще одно подтверждение того, что наблюдаемый эффект обусловлен фототоком, связано с характером падения интегральной интенсивности при повороте угла вектора поляризации лазерного излучения относительно образца. Зависимость объемного фотовольтаического эффекта от поляризации лазерного излучения известна давно. На примере кристалла LiNbO3:Fe в [37] показано, что при последовательном изменении направления поляризации лазерного излучения сила возникающего фототока меняется синусоидально с периодом π.
Вейвлет-анализ подтверждает изменение направления фототока при вращении кристалла. В случае азимутального угла j = 0° интегральная интенсивность КДО растет в течение первых 5–10 нс, после воздействия идет на спад (10–30 нс), затем следует достаточно быстрое восстановление сигнала (30–50 нс), при этом сигнал меняется практически симметрично относительно момента, кода интеграл минимален. В случае азимутального угла j = 120° интегральная интенсивность КДО уменьшается сразу. Процесс релаксации системы практически не изменяется (изменения количественные, а не качественные).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Разработан поляризационно-чувствительный метод времяразрешающей рентгенооптической диагностики фотоиндуцированных процессов с использованием рентгенодифракционной схемы на синхротронном источнике излучения. Путем синхронизации наносекундного лазерного импульса с периодическими электронными сгустками, генерируемыми на синхротроне КИСИ-Курчатов, достигнуто временное разрешение менее 1 нс. Методика апробирована на образце ниобата лития с примесью железа. Зарегистрирован процесс длительностью порядка десятков наносекунд, вызванный инжекцией и перераспределением носителей заряда, сопровождающийся уменьшением интенсивности пика КДО 0012. Установлена зависимость эффекта от азимутального поворота образца относительно линейной поляризации лазерного излучения. Эта зависимость хорошо коррелирует с поляризационными характеристиками фотовольтаического эффекта.
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (грант № 23-73-00039) с использованием оборудования объекта инфраструктуры УНУ КИСИ-Курчатов НИЦ “Курчатовский институт”.
About the authors
M. V. Kovalchuk
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: mareev.evgeniy@physics.msu.ru
Russian Federation, Moscow
E. I. Mareev
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Author for correspondence.
Email: mareev.evgeniy@physics.msu.ru
Russian Federation, Moscow
A. G. Kulikov
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: ontonic@gmail.com
Russian Federation, Moscow
F. S. Pilyak
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: mareev.evgeniy@physics.msu.ru
Russian Federation, Moscow
N. N. Obydennov
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”; Lomonosov Moscow State University
Email: mareev.evgeniy@physics.msu.ru
Russian Federation, Moscow; Moscow
F. V. Potyomkin
Lomonosov Moscow State University
Email: mareev.evgeniy@physics.msu.ru
Russian Federation, Moscow
Yu. V. Pisarevsky
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: mareev.evgeniy@physics.msu.ru
Russian Federation, Moscow
N. V. Marchenkov
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: mareev.evgeniy@physics.msu.ru
Russian Federation, Moscow
A. E. Blagov
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: mareev.evgeniy@physics.msu.ru
Russian Federation, Moscow
References
- McBride E.E., Krygier A., Ehnes A. et al. // Nat. Phys. 2019. V. 15. P. 89. https://doi.org/10.1038/s41567-018-0290-x
- Potemkin F.V., Mareev E.I., Garmatina A.A. et al. // Rev. Sci. Instrum. 2021. V. 92. P. 053101. https://doi.org/10.1063/5.0028228
- Brown S.B., Gleason A.E., Galtier E. et al. // Sci. Adv. 2019. V. 5. P. eaau8044. https://doi.org/10.1126/sciadv.aau8044
- Bressler C., Abela R., Chergui M. // Z. Kristallogr. 2008. V. 223. P. 307. https://doi.org/10.1524/zkri.2008.0030
- Schropp A., Hoppe R., Meier V. et al. // Sci. Rep. 2015. V. 5. P. 1. https://doi.org/10.1038/srep11089
- Gleason A.E., Bolme C.A., Lee H.J. et al. // Nat. Commun. 2015. V. 6. P. 8191. https://doi.org/10.1038/ncomms9191
- Winter J., Rapp S., Mcdonnell C. et al. // Proceedings of the Lasers in Manufacturing Conference. 2019. P. 1.
- Kovalchuk M.V., Borisov M.M., Garmatina A.A. et al. // Crystallography Reports. 2022. V. 67. P. 717. https://doi.org/10.1134/S106377452205008X
- Марченков Н.В., Куликов А.Г., Аткнин И.И. и др. // Успехи физ. наук. 2019. Т. 189. С. 187. https://doi.org/10.3367/UFNr.2018.06.038348
- Куликов А.Г., Благов А.Е., Марченков Н.В. и др. // ФТТ. 2020. Т. 62. С. 2120. https://doi.org/10.21883/FTT.2020.12.50216.087
- Ибрагимов Э.С., Куликов А.Г., Марченков Н.В. и др. // ФТТ. 2022. Т. 64. С. 1760. https://doi.org/10.21883/FTT.2022.11.53330.421
- Kovalchuk M.V., Borisov M.M., Garmatina A.A. et al. // Crystallography Reports. 2022. V. 67. P. 717. https://doi.org/10.1134/S106377452205008X
- Popmintchev T., Chen M.C., Popmintchev D. et al. // Science. 2012. V. 336. P. 1287. https://doi.org/10.1126/science.1218497
- Kling M.F., Vrakking M.J.J. // Annu. Rev. Phys. Chem. 2008. V. 59. P. 463. https://doi.org/10.1146/annurev.physchem.59.032607.093532
- Nishidome H., Nagai K., Uchida K. et al. // Nano Lett. 2020. V. 20. P. 6215. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c02717
- Rumiantsev B.V., Pushkin A.V., Potemkin F.V. // JETP Lett. 2023. V. 118. P. 273. https://doi.org/10.1134/S0021364023602300
- Niikura H., Dudovich N., Villeneuve D.M. et al. // Phys. Rev. Lett. 2010. V. 105. P. 1. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.105.053003
- Cavalieri A.L., Müller N., Uphues T. et al. // Nature. 2007. V. 449. P. 1029. https://doi.org/10.1038/nature06229
- Rumiantsev B.V., Pushkin A.V., Mikheev K.E. et al. // JETP Lett. 2022. V. 116. P. 683. https://doi.org/10.1134/S0021364022602123
- Pupeza I., Huber M., Trubetskov M. et al. // Nature. 2020. V. 577. P. 52. https://doi.org/10.1038/s41586-019-1850-7
- Garmatina A.A., Shubnyi A.G., Asadchikov V.E. et al. // J. Phys. Conf. Ser. 2021. V. 2036. P. 012037. https://doi.org/10.1088/1742-6596/2036/1/012037
- Murnane M.M., Kapteyn H.C., Rosen M.D. et al. // Science. 1991. V. 251. P. 531. https://doi.org/10.1126/science.251.4993.531
- Martín L., Benlliure J., Cortina-Gil D. et al. // Phys. Med. 2021. V. 82. P. 163. https://doi.org/10.1016/j.ejmp.2020.12.023
- Shew B.Y., Hung J.T., Huang T.Y. et al. // J. Micromech. Microeng. 2003. V. 13. P. 708. https://doi.org/10.1088/0960-1317/13/5/324
- Holtz M., Hauf C., Salvador A.A.H. et al. // Phys. Rev. B. 2016. V. 94. P. 1. https://doi.org/10.1103/PhysRevB.94.104302
- Huang N., Deng H., Liu B. et al. // Innovation. 2021. V. 2. P. 100097. https://doi.org/10.1016/j.xinn.2021.100097
- Nishiyama T., Kumagai Y., Niozu A. et al. // Phys. Rev. Lett. 2019. V. 123. P. 123201. https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.123.123201
- Inoue I., Inubushi Y., Sato T. et al. // PNAS. 2016. V. 113. P. 1492. https://doi.org/10.1073/pnas.1516426113
- Glownia J.M., Cryan J., Andreasson J. et al. // Opt. Express. 2010. V. 18. P. 17620. https://doi.org/10.1364/OE.18.017620
- Geloni G., Saldin E., Schneidmiller E. et al. // Opt. Commun. 2008. V. 281. P. 3762. https://doi.org/10.1016/j.optcom.2008.03.023
- Larsson J. // Meas. Sci. Technol. 2001. V. 12. P. 1835. https://doi.org/10.1088/0957-0233/12/11/311
- Reusch T., Schülein F., Bömer C. et al. // AIP Adv. 2013. V. 3. P. 072127. https://doi.org/10.1063/1.4816801
- Potemkin F.V., Mareev E.I., Garmatina A.A. et al. // Rev. Sci. Instrum. 2021. V. 92. P. 053101. https://doi.org/10.1063/5.0028228
- Schulz E.C., Yorke B.A., Pearson A.R., Mehrabi P. // Acta. Cryst. D. 2022. V. 78. P. 14. https://doi.org/10.1107/S2059798321011621
- Павлов А.Н. // Изв. вузов. ПНД. 2009. Т. 17. С. 99.
- Pilyak F.S., Kulikov A.G., Fridkin V.M. et al. // Physica B. 2021. V. 604. P. 412706. https://doi.org/10.1016/j.physb.2020.412706
- Sturman B.I., Fridkin V.M. The Photovoltaic and Photorefractive Effects in Noncentrosymmetric Materials. Philadelphia: Gordon and Breach Science Publishers, 1992. 238 p.
- Пиляк Ф.С., Куликов А.Г., Писаревский Ю.В. и др. // Кристаллография. 2022. Т. 67. С. 850. https://doi.org/10.31857/S0023476122050125
Supplementary files