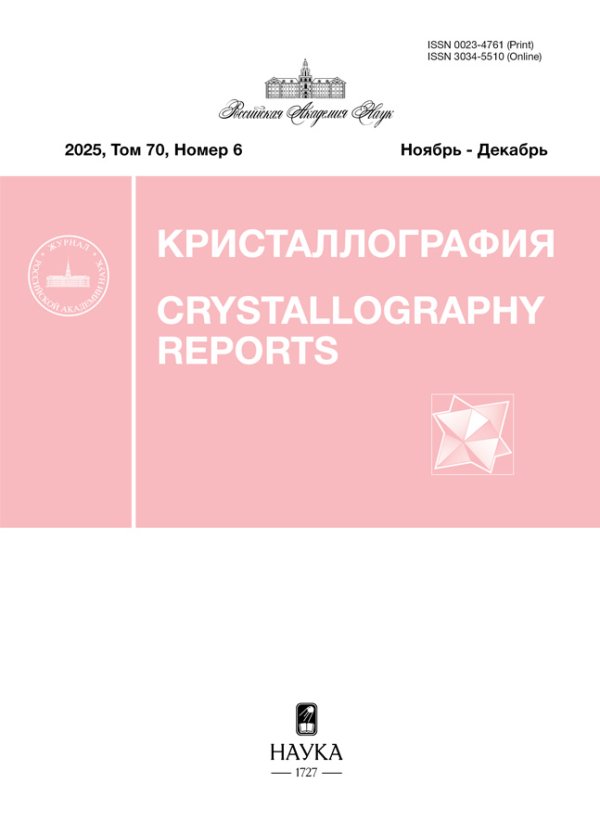Crystals of salts of nickel and cobalt transitional elements for optical filters
- Authors: Manomenova V.L.1, Rudneva E.B.1, Vasilyeva N.A.1, Sorokina N.I.1, Komornikov V.A.1, Matveeva D.S.1, Lyasnikova M.S.1, Grebenev V.V.1, Kovalyov S.I.1, Voloshin A.E.1
-
Affiliations:
- Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
- Issue: Vol 69, No 2 (2024)
- Pages: 206-220
- Section: REVIEWS
- URL: https://bakhtiniada.ru/0023-4761/article/view/259679
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0023476124020045
- EDN: https://elibrary.ru/YTVCSN
- ID: 259679
Cite item
Full Text
Abstract
Works performed at the A. V. Shubnikov Institute of Crystallography on the development of UV range optical filters based on complex compounds of nickel and cobalt are reviewed. The structural relationships of the crystal optical properties and their thermal stability are considered. Fundamental features of mixed crystals grown from solution and advanced approaches to creating optical filters based on structurally perfect mixed crystals K2(Co, Ni)(SO4)2 · 6H2O are described. The possibility of creating UV-A optical filters by partial substitution of the ligand environment of transition metal ions is demonstrated.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Монофотонная технология (МФТ) – сравнительно новое направление в приборостроении, суть которого состоит в построении оптико-электронных систем с высоким пространственным и временным разрешением и чувствительностью на физически предельно возможном уровне – отдельных фотонов. МФТ открывает новые направления в технике и технологиях, связанные с возможностями детальной дистанционной диагностики энергосистем, промышленных объектов, природных и сельскохозяйственных угодий. На базе МФТ разработаны системы автоматической посадки самолетов и предотвращения их столкновений [1, 2], системы обнаружения лесных пожаров и их прицельного тушения с воздуха [3–5]. МФТ-система дистанционного мониторинга линий электропередачи обеспечивает не только дистанционную регистрацию тока утечки, но и позволяет проводить детальную количественную диагностику оборудования [6, 7]. Ключевым элементом таких приборов является эффективный зонный фильтр, прозрачный только в рабочей области.
В зависимости от приложений для построения монофотонных систем используются разные спектральные диапазоны, что требует применения оптических зонных фильтров с различными характеристиками.
Наиболее благоприятные возможности для поиска таких материалов предоставляют соединения переходных элементов, обладающие полосчатыми спектрами пропускания. Основные закономерности их оптических спектров связаны со взаимодействием света с незаполненной электронной оболочкой dn-ионов. Энергетический спектр такого иона в первом приближении представляет собой результат штарковского расщепления уровней иона во внутрикристаллическом электрическом поле, симметрия которого соответствует симметрии локального окружения иона [8]. В оптических спектрах соединений, содержащих ионы с незаполненной dn-оболочкой, наблюдаются широкие и узкие полосы поглощения в УФ-, видимой и ближней ИК-областях спектра. Теория кристаллического поля и теория поля лигандов позволяют объяснить оптические спектры большинства ионных кристаллов, содержащих ионы с dn-конфигурацией. Параметры кристаллического поля, а следовательно, и спектральные характеристики кристаллов зависят от координации dn-ионов (поскольку изменение их координационного окружения приводит к изменению расположения термов и расстояния между ними), а также от характера и силы связи dn-ионов с различными типами лигандов. Таким образом, можно напрямую управлять спектральными свойствами материалов, в состав которых входят ионы переходных металлов, с помощью:
– изменения степени заполнения d-оболочки иона (например, заменяя Ni2+ на Co2+);
– изменения симметрии ближайшего координационного окружения dn-иона (например, с октаэдрической на тетраэдрическую);
– полного или частичного изменения типа лигандов (например, замена молекул H2O на ионы Cl–);
– соединения в одном кристалле ионов различных переходных металлов.
Продуктивность этих подходов демонстрируется в данной статье, которая представляет собой обзор работ по поиску и созданию оптических фильтров УФ-диапазона, выполненных в Институте кристаллографии им. А.В. Шубникова.
КРИСТАЛЛЫ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ УФ-C-ДИАПАЗОНА
УФ-С-диапазон уникален благодаря исключительно низкому уровню фоновых помех вследствие практически полного подавления солнечной радиации в этой области спектра озоновым слоем Земли. Технология регистрации излучения с длинами волн 250–280 нм получила название “солнечно-слепой” (ССТ), а приборы на ее основе используются главным образом для обнаружения источников электрического коронного разряда и пламени. В предельном по физическим возможностям варианте, когда шумоподавление приближается к уровню 10–18 Вт/см2 при пропускании в рабочем диапазоне на уровне от 20 до 70%, становится возможной регистрация единичных фотонов, а также измерение их пространственных и временных характеристик [6, 9]. Принципиально необходимым элементом таких приборов является эффективный зонный фильтр, прозрачный в области 250–280 нм и непрозрачный в других диапазонах, который обеспечивает высокое соотношение сигнал/шум и, соответственно, уникальную чувствительность аппаратуры.
1.1. Простые и сложные сульфаты никеля и кобальта
1.1.1. Рост кристаллов α-NiSO4 ∙ 6H2O и MeI2MeII(SO4)2 ⋅ 6H2O
В настоящее время в качестве оптических фильтров в приборах ССТ успешно применяются кристаллы гексагидратов сульфатов кобальта и никеля: α-NiSO4 · 6H2O (α-NSH), K2Ni(SO4)2 · 6H2O (KNSH), (NH4)2Ni(SO4)2 · 6H2O (ANSH), Rb2Ni(SO4)2 · 6H2O (RNSH), Cs2Ni(SO4)2 · 6H2O (CNSH), (NH4)2Co(SO4)2 · 6H2O (ACSH) и K2Co(SO4)2 · 6H2O (KCSH), которые прозрачны в области 200–300 нм и имеют полосы поглощения в УФ-, видимом и ближнем ИК-диапазонах.
Выращивание этих кристаллов описано в [10–18]. Основным типом дефектов в этих кристаллах (как и во всех кристаллах, выращиваемых из растворов) были включения маточного раствора, которые служат центрами рассеяния излучения и снижают прозрачность кристаллов. Повышение структурного совершенства (а стало быть, и оптического качества кристаллов) достигается путем оптимизации технологических параметров: выбора оптимального метода выращивания, подбора величины пересыщения, температурных условий, способа и скорости перемешивания раствора, кислотности среды, степени очистки исходных реактивов, способа предкристаллизационной подготовки раствора. В результате таких исследований были разработаны способы:
– ускоренного роста кристаллов α-NSH массой до 2200 г (подбор pH раствора и режима снижения температуры) [10, 11];
– выращивания монокристаллов ANSH и KNSH со средним размером 60 × 70 × 45 мм3 и массой до 360 г (подбор составов кристаллизационных растворов, температурных и гидродинамических режимов роста) [12];
– выращивания крупных монокристаллов RNSH, CNSH, ACSH и KCSH хорошего оптического качества, которые были получены впервые (выбор оптимального метода роста, подбор pH растворов, температурных и гидродинамических условий роста) [13–20];
– ускоренного роста кристаллов KCSH и CNSH [14, 18].
Все полученные кристаллы (рис. 1) имели высокое структурное совершенство и прозрачность в УФ-диапазоне, близкую к теоретической (до 0.87).
Рис. 1. Выращенные монокристаллы α-NiSO4 ∙ 6H2O и MeI2MeII(SO4)2 ⋅ 6H2O.
1.1.2. Особенности структуры кристаллов сульфатов никеля и кобальта
Тетрагональный кристалл α-NSH имеет параметры элементарной ячейки: a = b = 6.783, c = = 18.288 Å, V = 841.4(3) Å3, Z = 4, d = 2.075 г/см3 (пр. гр. P41212) [21–24]. Его структуру образуют слои, состоящие из слабо искаженных октаэдров [Ni(H2O)6]2+ и тетраэдров [SO4]2–, перпендикулярные оси c. Каждый октаэдр [Ni(H2O)6]2+ соединен посредством сети водородных связей с четырьмя сульфатными группами, лежащими с ним в одной плоскости (001), являющейся плоскостью спайности, и двумя [SO4]2–, расположенными в верхнем и нижнем слое. Связям Ni-октаэдра с сульфатными группами, лежащими в плоскости (001), соответствуют четыре наикратчайших расстояния Ni–S [24]. Таким образом, данная структура образована слоями, состоящими из [Ni(H2O)6]2+- и [SO4]2–-групп, связанных между собой не только внутри каждого слоя, но и между слоями; причем водородные связи между слоями не менее сильны, чем водородные связи, действующие внутри одного слоя [21, 25].
Кристаллы солей Туттона MeI2MeII(SO4)2 ⋅ 6H2O (MeI – K, NH4, Rb, Cs; MeII – Ni, Co) относятся к моноклинной сингонии (пр. гр. P21/c, Z = 2) и образуют изотипный ряд. Их структура представляет собой каркас из комплексных октаэдрических катионов [MeII(H2O)6]2+, соединенных с тетраэдрами SO42– водородными связями: каждая молекула воды образует водородные связи с двумя атомами кислорода из двух различных сульфатных групп. Внутри каркаса находятся ионы щелочного металла в полиэдре [Me1+O8] неправильной формы, каждый катион Me1+ окружен шестью атомами кислорода из сульфатных групп и двумя – из молекул воды. Размеры полиэдра увеличиваются с увеличением ионного радиуса катиона, что приводит к увеличению объема элементарной ячейки кристаллов RNSH и CNSH по сравнению с KNSH на 4.2 и 10.4% [19, 20, 26]. К особенностям структуры кристаллов, содержащих в своем составе вместо щелочного металла ион аммония, относится наличие дополнительных водородных связей между ионами NH4+- и SO42–-групп [27–30].
В табл. 1 представлены параметры элементарной ячейки кристаллов.
Таблица 1. Параметры элементарной ячейки некоторых солей Туттона
Кристалл | Параметры элементарной ячейки | ||||
a, Å | b, Å | c, Å | β, град | ||
KNSH [32] | 1.38 | 6.1368(5) | 12.1904(8) | 9.0049(4) | 105.047(5) |
ANSH [27] | 1.48 | 6.244(2) | 12.469(4) | 9.195(3) | 106.98(3) |
RNSH [26] | 1.52 | 6.2219(9) | 12.4053(17) | 9.1368(12) | 106.082(12) |
CNSH [25] | 1.67 | 6.3576(8) | 12.7660(17) | 9.2550(10) | 106.97(1) |
ACSH [33] | 1.48 | 6.2424(5) | 12.5231(5) | 9.2565(9) | 107.029(7) |
KCSH [34] | 1.38 | 6.155(1) | 12.211(2) | 9.057(1) | 104.82(1) |
1.1.3. Термическая стабильность кристаллов α-NSH и MeI2MeII(SO4)2 ⋅ 6H2O
В кристаллогидратах между центральным ионом и лигандами (молекулами воды) действуют силы ион-дипольного взаимодействия, которые представляют собой достаточно слабое электростатическое взаимодействие, поэтому кристаллогидраты склонны к потере молекул воды при нагревании. Процесс дегидратации связан с поэтапными фазовыми превращениями, вызванными потерями определенного количества молекул воды, и сопровождается локальным изменением кристаллической структуры, в первую очередь – на поверхности кристалла, что приводит к частичной или полной потере им прозрачности.
На протекание реакций разложения влияют следующие основные факторы: скорость изменения температуры, давление над поверхностью образца и состав атмосферы (особенно присутствие в ней паров воды), масса образца и удельная площадь его поверхности, структурное совершенство образца и морфология его поверхности. Первоначально опубликованные данные о термической устойчивости кристаллов α-NSH [39–41], ANSH [42], KNSH [43] были весьма противоречивы: поскольку условия проведения термогравиметрических экспериментов разнились, результаты измерений варьировались в пределах ∆T = 30–40°C. Результат впервые проведенного авторами обзора комплексного термогравиметрического исследования кристаллов α-NSH и кристаллов солей Туттона показал, что в зависимости от скорости нагрева и состояния образцов абсолютные значения температуры начала дегидратации меняются, однако соотношения между ними остаются постоянными: a-NSH и KCSH заметно уступают кристаллам никелевых солей Туттона в термической устойчивости, при этом внутри никелевого ряда двойных солей выявлено немонотонное изменение температуры начала дегидратации от радиуса щелочного катиона (табл. 2) [13]. Структурные исследования показали, что с ростом радиуса щелочного катиона наблюдается немонотонное изменение расстояния от Ni до атомов кислорода наиболее удаленных молекул воды, первыми покидающих структуру при нагревании, причем характер этого изменения соответствует характеру изменения термостабильности кристаллов никелевого ряда солей Туттона [19, 20, 26].
Таблица 2. Температуры начала дегидратации α-NSH и солей Туттона в зависимости от условий эксперимента
Кристалл | KNSH | RNSH | CNSH | ANSH | KCoSH | α-NSH |
Т1н, °C | Поликристаллические образцы, скорость нагрева – 5.0 K/мин | |||||
+62 | +76 | +73 | +62 | +59 | +54 | |
Т2н, °C | Монокристаллические образцы, скорость нагрева – 5.0 K/м | |||||
+100 | +109 | +107 | +97 | +86 | +79 | |
Т3н, °C | Монокристаллические образцы, скорость нагрева – 0.12 K/мин | |||||
+48 | +66 | +62 | +48 | +47 | +42 | |
1.1.4. Оптические свойства кристаллов α-NiSO4 ∙ 6H2O и MeI2MeII(SO4)2 ⋅ 6H2O
α-NSH – оптически одноосный отрицательный кристалл, а кристаллы солей Туттона – оптически двуосные. Полосчатый спектр поглощения никелевых сульфатов определяется присутствием в их структурах октаэдра [Ni(H2O)6]2+ [8, 23, 44–46]. Ион Ni2+ в октаэдрическом окружении молекул воды обладает электронной конфигурацией d8. В этом комплексе есть по одному неспаренному электрону на двух σ-орбиталях. Электронной конфигурации d8 в октаэдрическом поле принадлежат четыре триплета, переходы между которыми дают три широкие полосы в спектре поглощения (3А2→3Т2 (t25, e3),3А2→3Т1 (t25, e3),3А2→3Т1 (t24, e4)) с максимумами при λ ≈ 1150, λ ≈ 650 и λ ≈ 390 нм соответственно. Также в спектре поглощения наблюдается узкая линия, соответствующая переходу между термами с конфигурацией t2ne8–n: 3А2(t26, e2)→1E (t26, e2) (максимум при λ ≈ 710 нм) [8]. Эти полосы поглощения определяют положение двух основных полос пропускания с максимумами при λ ≈ 550 нм (видимая область) и λ ≈ 250 нм (УФ-С-диапазон) (табл. 3).
Таблица 3. Положения максимумов полос поглощения кристаллов в диапазоне 250–1000 нм
Кристалл | Положения максимумов полос поглощения, отвечающие переходам, нм | ||
3A2g → 3T1g(P) | 3A2g → 3T1g(F) | 3A2g → 1Eg(D) | |
ANSH [47] | 385 | 644 | 706 |
KNSH [47] | 385 | 643 | 707 |
RNSH [47] | 385 | 642 | 708 |
α-NSH[45] | 386 | 649 | 708 |
4T1(t25, e23A2)→4T1(t24 3T1, e3) | |||
ACSH [8] | 520 | ||
KCSH [8] | 520 | ||
Спектр поглощения кристаллов кобальтовых солей Туттона определяется наличием в данной структуре катиона Co2+ с электронной конфигурацией d7 в октаэдрическом поле молекул воды. В интервале длин волн 250–1000 нм кристаллы ACSH и KCSH имеют широкую полосу поглощения с максимумом при λ ≈ 550 нм, соответствующую переходу 4T1(t25, e23A2) → 4T1(t24 3T1, e3) (табл. 3). Кроме того, в ближней ИК-области у ACSH и KCSH имеется полоса поглощения с максимумом 1230 нм, связанная с переходом 4T1(t25, e2) → 4T2 [8].
На рис. 2 показан общий вид спектров пропускания кристаллов α-NSH и MeI2MeII(SO4)2 ⋅ 6H2O в интервале 250–1000 нм [13].
Рис. 2. Спектральные характеристики кристаллов α-NSH и никелевых и кобальтовых солей Туттона
1.2. Смешанные кристаллы на основе сульфатов никеля и кобальта
Улучшение характеристик оптических фильтров может быть достигнуто за счет увеличения пропускания в рабочей и/или увеличения поглощения в нерабочих областях спектра. Наличие паразитных полос пропускания в видимом диапазоне очевидным образом снижает эффективность фильтрации. Однако можно заметить, что максимум пропускания никелевых солей в видимом диапазоне (λ ≈ 550 нм) совпадает с максимумом поглощения в кристаллах KCSH и ACSH, а максимум пропускания KCSH и ACSH (λ ≈ 720 нм) практически совпадает с максимумом поглощения никелевых кристаллов (λ ≈ 710 нм), тогда как в УФ-С-диапазоне и те и другие прозрачны. В смешанных кристаллах (твердых растворах) на основе солей Туттона шестиводные комплексы ионов никеля и кобальта будут взаимно подавлять паразитные полосы пропускания, при этом такой кристалл останется прозрачным в УФ-диапазоне.
Однако до сих пор не было примеров практического использования смешанных кристаллов из-за их крайне низкого качества. Наиболее очевидные проблемы связаны с их сильной композиционной неоднородностью и, как следствие, высокими внутренними напряжениями, трещинами и большим количеством включений. Изучение процессов, происходящих при росте смешанных кристаллов из водных растворов, имеет фундаментальную важность для решения практических задач.
1.2.1. Морфологические эффекты при жидкофазной эпитаксии
Впервые необычные явления (растворение подложки, рост новой фазы с одновременным растворением подложки) при изотермическом контакте взаимно неравновесных (по составу) многокомпонентной жидкой фазы и кристалла наблюдались Ю.В. Болховитяновым при жидкофазной гетероэпитаксии твердых растворов соединений AIIIBV [48–50].
Болховитянов рассмотрел термодинамику взаимодействия фаз в трехкомпонентной системе. Разность термодинамических потенциалов двух контактирующих фаз произвольного состава (так называемый обменный потенциал) определяется как
, (1)
где x0 – концентрация одного из компонентов в кристалле, находящемся в равновесии с данной жидкой фазой, а x – его концентрация в кристалле, состав которого не соответствует равновесным условиям. При любом отклонении состава кристалла от равновесного значения изменение свободной энергии становится больше нуля, что приводит к растворению кристалла (рис. 3).
Рис. 3. Изменение свободной энергии ∆Gm, рассчитанной по уравнению (1), при отклонении состава твердой фазы x от равновесного значения x0 для твердого раствора InxGa1-xAs (T0 = 800°С, β = 3.45 Ккал/моль [49])
Почти одновременно с исследованиями Болховитянова аналогичные эффекты наблюдались группой А.Э. Гликина в Санкт-Петербургском университете при росте смешанных кристаллов из водных растворов [51–56]. На основании многочисленных наблюдений за процессами в водных системах с солями (Co,Ni)(NH4)2(SO4)2 · 6H2O, (Cr,Al)K(SO4)2 · 12H2O, (Mg,Ni)SO4 · 7H2O, (Fe,Ni)SO4 · 7H2O, K2(SO4,CrO4) была показана связь между формированием морфологии поверхности и соотношением растворимостей компонентов системы. Наблюдаемые процессы были интерпретированы как замещение части объема кристалла кристаллической фазой иного состава; соответственно этот процесс был назван реакцией изоморфного замещения.
Несмотря на различие процессов роста, морфология текстур, сформированных в расплаве и растворе, была очень похожа: в одних случаях удавалось добиться формирования непрерывного эпитаксиального слоя, в других – образовывалась система островков, которые часто располагались в центре ямок травления.
Однако разумный механизм таких поверхностных процессов не был предложен ни в одной из упомянутых работ, поэтому критерии формирования той или иной морфологии поверхности также не были ясны.
1.2.2. Морфологический эффект реакции изоморфного замещения
АСМ-исследования показали, что растворение подложки является начальной стадией взаимодействия кристалла с “чужим” раствором, которая продолжается, пока пересыщение в приповерхностном слое раствора не станет достаточным для кристаллизации новой фазы [57]. Состав островков новой фазы близок к равновесию с раствором в приповерхностном слое и отличается от состава исходного кристалла, поскольку состав раствора в приповерхностном слое меняется в процессе растворения кристалла из-за разных соотношений изоморфных компонентов в кристалле и растворе. Однако между островками растворение исходного кристалла продолжается.
Весь процесс можно разделить на три стадии (рис. 4): первичное растворение подложки и образование пограничного слоя пересыщенного раствора, осаждение и быстрый рост островков, дальнейший медленный рост островков в сочетании с растворением подложки между ними. Подробно модель процесса рассмотрена в [57].
Рис. 4. Этапы формирования эпитаксиальных структур: а – начальное растворение подложки, б – осаждение островков, в – дальнейший рост островков в процессе растворения подложки [57]
Поскольку составы подложки и кристаллизованного слоя различны, в уравнение материального баланса вводится коэффициент ω, который учитывает изменение объема и растворимости кристаллической фазы в зависимости от изменения ее состава. Тогда уравнение материального баланса имеет вид
(2)
где S – удельная площадь поверхности, свободная от островков в определенный момент времени, h – средняя глубина каналов, образовавшихся до этого момента, S0 и h0 – начальная площадь свободной поверхности и начальная средняя глубина каналов.
Решение задачи (2) в предположении, что ω = const во время процесса, дает
. (3)
Если рассматривать процесс в течение бесконечного времени, то в его ходе глубина каналов изменится от h0 до ∞. Тогда чтобы островки соединились и образовали непрерывный слой, необходимо растворить объем подложки V, равный
(4)
То есть при ω > 1 эпитаксиальный слой растет быстрее, чем растворяется подложка, и для формирования непрерывного слоя требуется растворение некоторого конечного объема подложки. Если ω ≤ 1, то будет растворен бесконечно большой объем подложки, и формирование непрерывного эпитаксиального слоя невозможно. Таким образом, параметр ω можно рассматривать как критерий типа морфологической текстуры, формирующейся в ходе реакции изоморфного замещения. Параметр ω характеризует изменение объема кристаллической фазы, а значит, объемный эффект реакции в процессе изоморфного замещения:
, (5)
где ΔVl – объем выращенного эпитаксиального слоя, ΔVc – объем растворенной подложки.
Подробный вывод выражения для ω приведен в [57] при рассмотрении процессов растворения кристаллов и роста новой кристаллической фазы в гипотетической бинарной системе изоморфных соединений A и B на диаграмме Шрайнемакерса. В случае взаимодействия чистых компонентов системы (c = 1, l = 0):
, (6)
где νA и νB – объемные концентрации компонентов A и В.
1.2.3. Механизм релаксации упругих напряжений при выращивании кристаллов из низкотемпературных растворов
Хотя механизм реакции изоморфного замещения был подробно изучен экспериментально и объяснен теоретически, все равно остается вероятность того, что островковый рост новой фазы связан (по крайней мере, частично) с накоплением энергии упругой деформации в островках большого размера из-за несоответствия параметров решетки.
При росте кристаллов из расплава в области температур вблизи точки плавления дислокации отличаются высокой подвижностью и благодаря наличию знакопеременного поля деформаций могут эффективно релаксировать упругие напряжения в кристаллах. Однако при низких температурах генерация и движение дислокаций подавлены. Например, при комнатной температуре в Ge критическое напряжение генерации дислокаций на 2 порядка, а подвижность дислокаций – на 6 порядков меньше, чем при температуре плавления [58]. Поэтому при низких температурах частичная релаксация напряжений несоответствия возможна за счет фрагментации эпитаксиального слоя.
Таким образом, вопрос о механизмах релаксации упругих напряжений при низкотемпературном росте кристаллов непрост и требует специального изучения.
Впервые эта проблема была изучена в [59] на серии бикристаллов KCSH/KNSH. При рассогласовании решеток ~0.3% композиция осталась цельной и не содержала трещин, хотя дислокации несоответствия не образовывались по указанным причинам. Однако было обнаружено, что на гетерогранице образовались многочисленные включения раствора с плотностью ~5 · 105 см–2.
Известно, что включения могут эффективно снижать упругие напряжения. Теория полидоменных структур [60] предсказывает, что включения другой фазы, отличающейся по модулю упругости от основной матрицы, могут эффективно релаксировать напряжения даже без дислокаций. Модули упругости кристаллов примерно на 2 порядка выше модуля упругости воды, поэтому включения раствора должны снимать напряжения несоответствия.
В этом случае плотность включений должна зависеть от величины несоответствия параметров решетки. В [61] описаны in situ-эксперименты по наращиванию пленок KCSH/KNSH и ACSH/ANSH. В первом случае ступени были сильно изогнуты, и при их смыкании возникали включения. Во втором случае (несоответствие решеток ~ 0.1%) ступени оставались прямыми, и включения не образовывались.
Механизм захвата таких включений непосредственно связан с наличием в кристалле неоднородного поля упругих напряжений. Упругие напряжения увеличивают внутреннюю энергию кристалла, а значит, уменьшают эффективное пересыщение в системе кристалл–раствор и сдвигают процесс в сторону растворения:
(7)
где Uε – удельная энергия деформации, msol, m0cr и mεкр – химические потенциалы раствора, ненапряженного и напряженного кристаллов соответственно. Если деформация поверхности из-за внутренних напряжений неоднородна, то в области более сильной деформации ступень замедляется, вследствие чего происходит ее изгиб, и повышается вероятность захвата включений (рис. 5).
Рис. 5. Схема, иллюстрирующая изгиб ступени при движении в поле неоднородной упругой деформации
Таким образом, захват включений, инициированный упругими напряжениями, возникающими в процессе роста кристалла, в конечном итоге приводит к релаксации напряжений за счет этих включений. Это иллюстрирует эксперимент по выращиванию кристалла гидрофталата рубидия RbAP на кристалле гидрофталата калия KAP. Несоответствие решеток в системе RbAP/KAP в 20–40 раз больше, чем в системе ACSH/ANSH. Поэтому одного слоя включений недостаточно для устранения напряжений на гетерогранице. В результате формируется целая область включений толщиной несколько миллиметров (рис. 6). После этого кристалл RbAP рос практически без дефектов.
Рис. 6. Бикристалл RbAP/KAP
Этот пример, в частности, показывает, что образование включений может происходить не только на гетерогранице, но и быть вызвано наличием любых внутренних напряжений в кристалле, превышающих определенное критическое значение. Этот факт имеет важное фундаментальное значение и оказывает принципиальное влияние на разработку методов выращивания из растворов структурно совершенных смешанных монокристаллов.
1.2.4. Смешанные кристаллы K2(Co,Ni)(SO4)2 · 6H2O (KCNSH)
Таким образом, в процессе роста в смешанных кристаллах могут возникать характерные дефекты, препятствующие их использованию в качестве оптических элементов. В первую очередь это образование трещин и включений.
Ввиду раскрытого механизма генерации включений при наличии в кристалле внутренних напряжений для получения смешанных кристаллов K2(Co,Ni)(SO4)2 · 6H2O (KCNSH) в качестве рабочей была принята гипотеза о том, что основной причиной образования включений и трещин является их сильная композиционная неоднородность, обусловленная фундаментальными причинами.
Согласно правилу фаз Гиббса трехкомпонентная (вода и две соли) двухфазная система при постоянном давлении имеет две степени свободы – температура и концентрация. Это означает, что при любой заданной температуре существует непрерывный ряд насыщенных растворов различного состава и, соответственно, кристаллов, им равновесных. Поскольку в общем случае коэффициенты распределения солевых компонентов различны, раствор в процессе роста кристалла будет обогащаться одним компонентом и обедняться другим. По этой же причине, а также ввиду различия коэффициентов диффузии компонентов состав раствора на фронте кристаллизации и в объеме не будет одинаковым. Если толщина пограничного диффузионного слоя будет меняться, то будет меняться и состав раствора вблизи грани кристалла, а значит, и состав кристалла.
Поскольку причины неоднородности состава смешанных кристаллов весьма разнообразны, при создании смешанных кристаллов KCNSH в качестве основной была поставлена задача подавления всех видов их композиционной неоднородности.
Исследование зависимости состава кристаллов от состава раствора показало, что в процессе роста раствор обогащается кобальтом из-за разных коэффициентов вхождения Ni и Co в кристалл, причем эти коэффициенты различны для двух основных секторов роста [62–64]. Неравномерность распределения элементов по секторам роста [64] приводит к ярко выраженной секториальной неоднородности, а изменение состава раствора – к зонарной. В [62, 65] показано, что использование цилиндрических формообразователей для выращивания кристаллов благодаря росту кристалла за счет только одного сектора позволяет избежать секториальной неоднородности и, как следствие, избежать возникновения трещин на секториальных границах.
Зонарная неоднородность смешанных кристаллов может быть компенсирована подпиткой раствора, рассчитанной таким образом, чтобы поддерживать состав раствора постоянным. Теоретический расчет по итерационной схеме показал, что концентрация кобальта в кристалле KCNSH возрастает вдоль оси его роста и может достигать 8 мас. %. Однако зонарная неоднородность в многокомпонентных кристаллах связана не только с изменением состава жидкой фазы в процессе роста из-за разницы в коэффициентах распределения изоморфных компонентов (стационарный режим), но и вследствие нестацинарности процессов массообмена в начальном переходном режиме при формировании пограничного диффузионного слоя. Поэтому подпитка была рассчитана для двух режимов: стационарного и нестационарного, учитывающего изменение состава раствора вследствие формирования пограничного диффузионного слоя на начальном этапе роста кристалла [65]. Кристаллы KCNSH, полученные методом температурного перепада, при котором температура роста и пересыщение постоянны, с программируемой подпиткой раствора характеризуются постоянной концентрацией кобальта вдоль оси роста (рис. 7).
Рис. 7. Рентгеновская топограмма кристалла KCNSH, выращенного из раствора с соотношением [KCSH]:[KNSH] = 1:1 методом температурного перепада с подпиткой
В смешанных кристаллах проявляется еще один вид композиционной неоднородности – мозаичная микронеднородность. Впервые ее исследовали в кристаллах (Pb,Ba)(NO3)2, K(Br,Cl) и (K,Rb)HC8H4O4 методом рентгеновской микротомографии [66]. Возникновение такой неоднородности состава связано с реакцией изоморфного замещения. В ходе реакции вся поверхность кристалла превращается в хаотичную мозаику областей различного состава, в которых одновременно происходят разнонаправленные процессы роста и растворения. Будучи замурованными в ходе роста в объем кристалла, элементы этой мозаики приводят к характерной мозаичной неоднородности. При выращивании смешанных монокристаллов проявления обменных процессов обусловлены нестационарной гидродинамикой, приводящей к изменению толщины пограничного диффузионного слоя, а значит, и состава раствора вблизи поверхности кристалла.
Исследование микромозаичности в смешанных кристаллах (Co,Ni)K2(SO4)2 · 6H2O (KCNSH) энергодисперсионным методом показало, что характерный размер элементов мозаики составляет 70–200 мкм [67, 68] (рис. 8), а ее величина может достигать ~2.5 мол. %. На рис. 9 видна четкая зависимость величины микромозаичной неоднородности Ni |DxNi| от переохлаждения раствора DT, которая показывает, что ее подавления можно ожидать при DT ≈ 2°C.
Рис. 8. Изображение кристалла KCNSH, полученное при детектировании характеристического рентгеновского излучения на площади 30 × 30 мкм
Рис. 9. Зависимость мозаичной неоднородности кристаллов KCNSH от переохлаждения раствора
Исследования радиальной неоднородности в кристаллах KCNSH показали, что ее величина может превышать 4 мол. %. При выращивании кристаллов в цилиндрическом формообразователе на первом этапе раствор подавали по трубке в центр грани кристалла. Это приводило к неравномерному распределению потока вдоль грани и, следовательно, неоднородному составу раствора. Математическое моделирование показало, что создание “закрученного” потока в формообразователе, когда раствор подается на периферии по касательной к внутренней стенке формообразователя, обеспечивает гораздо более однородное распределение компонентов в растворе вдоль растущей грани, чем при потоке, направленном перпендикулярно в центр растущей грани [69] (рис. 10). Проведенные расчеты были подтверждены экспериментально: создание закрученного потока в формообразователе при скорости подачи раствора 55–135 см/с позволило практически устранить радиальную неоднородность [70] (рис. 11).
Рис. 10. Картины изолиний концентрации соли KCSH (г/1000 г H2O): а – при центральной подаче раствора со скоростью Vjet = 90 см/с, б – при периферийной подаче со скоростью Vjet = 55 см/с
Рис. 11. Радиальное распределение Co в объеме кристаллов KCNSH, выращенных в различных гидродинамических режимах
В результате применения описанного комплекса мер были получены кристаллы KCNSH превосходного оптического качества (рис. 12а). Оптический фильтр, изготовленный из такого кристалла, столь же прозрачен в УФ-диапазоне, как и эталонный фильтр из кристалла α-NSH, при этом видимый диапазон практически полностью подавлен: пропускание в интервале 430–580 нм не превышает 3 ⋅ 10–4, а в интервале 780–900 нм – 9 ⋅ 10–3 (рис. 12б).
Рис. 12. Оптические элементы, изготовленные из смешанных кристаллов KCNSH (а), и оптические спектры пропускания фильтров из KCNSH и α-NSH толщиной 2 см (б)
Исследование термической устойчивости смешанных кристаллов KCNSH [62, 64] показало, что они превосходят широко используемый кристалл α-NSH и сопоставимы с характеристикой двойного сульфата KNSH (табл. 4).
Таблица 4. Температура начала дегидратации смешанных кристаллов KCNSH
[KCSH]:[KNSH] в растворе | Т,°С |
KCSH | 65 |
3.7:1 | 82 |
1:1 | 86 |
1:2 | 86 |
KNSH | 88 |
ОПТИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ УФ-A-ДИАПАЗОНА
Актуальность использования УФ-А-диапазона в технологиях дистанционного зондирования и мониторинга определяется совокупностью нескольких факторов и в первую очередь связана со спектральными особенностями хлорофилла. Две его основные разновидности – хлорофилл a и хлорофилл b – присущи всем высшим растениям, а единственное различие между ними в том, что первый имеет метильную, а второй – формильную группу. Поэтому хлорофилл b практически полностью прозрачен в УФ-A-диапазоне, а пропускание хлорофилла a составляет ~80% на длине волны 370 нм и ~90% на длине волны 350 нм [71]. Благодаря этому использование УФ-А- и видимого диапазонов позволяет проводить качественный мониторинг природных и сельскохозяйственных угодий для определения видов произрастающих растений и культур, распространения инфекций растений и т. п.
Используемые сейчас для этих целей оптические фильтры, созданные на основе стекол с красителями из оксидов никеля (~5%) и кобальта (~1%), имеют ряд недостатков: невысокая эффективность из-за небольшой плотности поглощающих центров, невысокое пространственное разрешение из-за неоднородности показателя преломления на субмиллиметровом уровне, быстрая деградация под действием УФ-излучения.
Поэтому актуально создание кристаллических оптических фильтров УФ-А-диапазона, прозрачных во всем интервале 310–400 нм. Ввиду максимальной плотности центров поглощения именно монокристалл обеспечивает наибольшую эффективность фильтрации в сравнении со стеклами и растворами.
В процессе поиска кристаллических материалов, пригодных для использования в качестве оптических фильтров УФ-A-диапазона (310–400 нм), в круг исследуемых материалов попали хлориды никеля и кобальта.
Одним из возможных способов управления спектральными характеристиками кристаллов солей переходных металлов является изменение лигандного состава координационных полиэдров, внутри которых находится атом переходного металла. Ион хлора (Cl–) относится к группе лигандов слабого поля, а вода – к лигандам средней силы. Поэтому замещение молекул воды ионами Cl– в координационном окружении ионов Ni2+ и Co2+ будет приводить к сдвигу пропускания в длинноволновую область. Такие особенности кристаллической структуры наблюдаются в гексагидратах хлоридов никеля и кобальта – NiCl2 · 6H2O и CoCl2 · 6H2O.
Эти кристаллы изоструктурны и относятся к моноклинной сингонии пр. гр. С2/m [72–77]. Атомы переходных элементов в структурах этих кристаллов находятся в составе нейтральных комплексов [Me(H2O)4Cl2] (Me = Ni, Co). При этом ионы хлора в этих комплексах находятся в транс-положениях относительно центрального атома, формируя вытянутые октаэдры. Две дополнительные молекулы воды соединены с нейтральными комплексами [Me(H2O)4Cl2] слабыми водородными связями.
Кристаллы NiCl2 · 6H2O, пригодные для исследования спектральных характеристик, впервые получены в [78] (рис. 13) методом изотермического испарения растворителя. Однако из-за дефектности они обладали низкой интенсивностью пропускания в УФ-области. Позднее дополнительная очистка реактивов, оптимизация температурного режима и гидродинамики позволили улучшить качество кристаллов и повысить их прозрачность (рис. 13в).
Рис. 13. Полученный монокристаллический образец NiCl2 · 6H2O (а), его габитус (б) и спектр пропускания (в)
Получение методом снижения температуры монокристаллов CoCl2 · 6H2O, пригодных для исследования спектральных характеристик, впервые описано в [77] (рис. 14а). Габитус кристалла CoCl2 · 6H2O представлен на рис. 14б, спектр пропускания – на рис. 14в.
Рис. 14. Выращенный кристалл CoCl2 · 6H2O (а), его габитус (б) и спектр пропускания (в)
У кристалла CoCl2 · 6H2O наблюдаются полоса пропускания в диапазоне 230–400 нм и окно прозрачности в районе λ = 750 нм.
Таким образом, в сравнении с ранее изученными спектрами пропускания кристаллов сульфатов никеля и кобальта замена двух молекул воды на ионы хлора в ближнем координационном окружении Ni2+/Со2+ в кристаллах NiCl2 · 6H2O/CoCl2 · 6H2O приводит к смещению полосы пропускания в сторону длинных волн. Это свидетельствует о том, что модификация лигандного окружения ионов переходных элементов является эффективным инструментом управления спектральными характеристиками кристаллов и может использоваться для “подстройки” оптических фильтров под требования заданного рабочего интервала длин волн.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Оптические фильтры становятся важным компонентом современных оптоэлектронных систем, поскольку входят в состав различных устройств технического зрения – УФ-детекторов, монофотонных датчиков, гиперспектрометров. Описанные в данном обзоре исследования представляют собой масштабную работу по поиску новых материалов для оптических фильтров УФ-диапазона, в результате чего были впервые выращены некоторые новые кристаллы солей Туттона, а также были сформулированы и реализованы способы управления свойствами оптических кристаллов исходя из требований, необходимых для тех или иных применений. Комплекс мер, развитый при создании смешанных кристаллов KCNSH, основан на значимых результатах фундаментальных исследований, проводившихся авторами в различные годы, и может быть использован для получения смешанных кристаллов других соединений, что потенциально может привести к созданию целого нового класса функциональных материалов – смешанных кристаллов, выращиваемых из растворов. Создание кристаллов для оптических фильтров УФ-А-диапазона путем модификации лигандного окружения ионов Ni2+ и Co2+ демонстрирует новый эффективный подход в целенаправленном поиске кристаллов с нужными спектральными характеристиками и позволяет надеяться на его применимость при создании оптических фильтров для других спектральных диапазонов и различных применений.
Работа выполнена в рамках выполнения государственного задания НИЦ “Курчатовский институт” с использованием оборудования Центра коллективного пользования ФНИЦ “Кристаллография и фотоника” РАН.
About the authors
V. L. Manomenova
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: labsol@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
E. B. Rudneva
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: labsol@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
N. A. Vasilyeva
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: labsol@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
N. I. Sorokina
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: labsol@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
V. A. Komornikov
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: labsol@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
D. S. Matveeva
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: labsol@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
M. S. Lyasnikova
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: labsol@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
V. V. Grebenev
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: labsol@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
S. I. Kovalyov
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: labsol@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
A. E. Voloshin
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Author for correspondence.
Email: labsol@yandex.ru
Russian Federation, Moscow
References
- Белов А.А., Виноградов А.Н., Егоров В.В. и др. // Датчики и системы. 2014. № 1. С. 37.
- Родионов И.Д., Родионов А.И., Калинин А.П и др. Патент RU 2564934 С1.
- Егоров В.В., Калинин А.П., Родионов А.И. и др. Бортовая УФ-С-система обнаружения, определения координат очагов пожаров и наведения на них носителя огнегасящей жидкости. М.: ИКИ РАН, 2019. 12 с.
- Егоров В.В., Калинин А.П., Родионов А.И. и др. // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2020. Т. 17. № 4. С. 51.
- Родионов И.Д., Родионов А.И. Патент RU 2725596 С1.
- Белов А.А., Калинин А.П., Крысюк И.В. и др. // Датчики и системы. 2010. № 1. С. 47.
- Белов А.А., Егоров В.В., Калинин А.П. и др. // Главный энергетик. 2012. Т. 6. С. 12.
- Свиридов Д.Т., Свиридова Р.К., Смирнов Ю.Ф. Оптические спектры ионов переходных металлов в кристаллах. М.: Наука, 1976. 268 с.
- Белов А.А., Егоров В.В., Калинин А.П. и др. // Датчики и системы. 2012. Т. 12. № 2. С. 58.
- Rudneva E.B., Manomenova V.L., Koldaeva M.V. et al. In Program & Abstract book of International Conference “Crystal materials 2010”, Ukraine, Kharkov, 2010. P. P65.
- Маноменова В.Л., Руднева Е.Б., Волошин А.Э. и др. // Кристаллография. 2005. Т. 50. С. 937.
- Руднева Е.Б., Маноменова В.Л., Волошин А.Э. и др. // Тез. докл. XI Национальной конференции по росту кристаллов. Москва, 2004. С. 283.
- Маноменова В.Л. Рост, структура и свойства кристаллов простых и сложных сульфатов никеля и кобальта. Дис. … канд. хим. наук. ИК РАН, Москва, 2013.
- Волошин А.Э., Руднева Е.Б., Маноменова В.Л. и др. Патент RU 2357020 (2006).
- Дятлова Н.А., Маноменова В.Л., Руднева Е.Б. и др. // Кристаллография. 2013. Т. 58. С. 737. https://doi.org/10.7868/S0023476113040097
- Manomenova V.L., Rudneva E.B., Komornikov V.A. et al. // J. Cryst. Growth. 2020. V. 532. 125416. https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2019.125416
- Маноменова В.Л., Руднева Е.Б., Волошин А.Э. // Успехи химии. 2016. Т. 85. С. 658.
- Маноменова В.Л., Руднева Е.Б., Волошин А.Э. // Кристаллография. 2018. Т. 63. С. 963. https://doi.org/10.1134/S0023476118060255
- Руднева Е.Б., Маноменова В.Л., Малахова Л.Ф. и др. // Кристаллография. 2006. Т. 51. С. 37.
- Маноменова В.Л., Руднева Е.Б., Малахова Л.Ф. и др. // Кристаллография. 2007. Т. 52. С. 949.
- Beevers C., Lipson H. // Z. Kristallogr. 1932. V. 83. P. 123.
- O’Connor B., Dale D. // Acta Cryst. 1966. V. 21. P. 705.
- Stadnicka K., Glazer A., Koralewski M. // Acta Cryst. B. 1987. V. 43. P. 319.
- Исхакова Л.Д., Дубровинский Л.С., Чарушникова И.А. // Кристаллография. 1991. Т. 36. С. 650.
- Hester J., Maslen E., Glazer A., Stadnicka K. // Acta Cryst. B. 1993. V. 49. P. 641.
- Bosi F., Belardi G., Ballirano P. // Am. Mineral. 2009. V. 94. P. 74.
- Wetzel H., Gumpers A., Koppel J. // Z. Phys. Chem. 1905. V. 52. P. 385.
- Петрашко А., Перекалина З.Б., Соболева Л.В., Кирпичникова Л.Ф. // Кристаллография. 2000. Т. 45. № 3. С. 525.
- Tahirov T.H., Lu T. // Acta Cryst. C. 1994. V. 50. C. 668.
- Kirfel A., Klapper H., Schafer W. // Z. Kristallogr. 1998. V. 213. P. 456.
- Cotton F.A., Daniels L.M., Murillo C.A., Quesada J.F. // Inorg. Chem. 1993. V. 32. P. 4861.
- Соболева Л.В. Выращивание новых функциональных монокристаллов. М.: Физматлит, 2009. 246 с.
- Fukami T., Tomimura T., Chen R.H. // J. Mater. Sci. Eng. Adv. Technol. 2010. V. 2. P. 147.
- Gmelin L. Handbuch der Anorganischen Chemie. Kobalt. V. 58. Teil B.L. 2. Verlag, Weinheim; Bergst, 1966. P. 782.
- Rabbering G., Wanrooy J., Schuijff A. // Termochim. Acta. 1975. V. 12. P. 57.
- Friesen M., Burt H., Mitchell A. // Thermochim. Acta. 1980. V. 41. P. 167.
- Nandi P., Deshpande D., Kher V. // Thermochim. Acta. 1979. V. 32. P. 143.
- Thomas J., Renshaw G. // J. Chem. Soc. A. 1969. P. 2749.
- Thomas J., Renshaw G. // J. Chem. Soc. A. 1969. P. 2753.
- Thomas J., Renshaw G. // J. Chem. Soc. A. 1969. P. 2756.
- Koga N., Tanaka H. // J. Phys. Chem. 1994. V. 98. P. 10521.
- Genbo S., Zhuang X., Youping H., Zhengdong L. // J. Phys. D. 2002. V. 35. P. 2652.
- Соболева Л.В., Кирпичникова Л.Ф. // Кристаллография. 2001. Т. 46. С. 350.
- Калдыбаев К.А., Константинова А.Ф., Перекалина З.Б. Гиротропия одноосных поглощающих кристаллов. М.: Институт социально-экономических и производственно-экологических проблем инвестирования, 2000. 293 с.
- Grinter R., Harding M., Mason S. // J. Chem. Soc. A. 1970. P. 667.
- Коттон Ф., Уилкинсон Д. Современная неорганическая химия. Ч. 3. М.: Мир, 1969. 596 с.
- Mookherji A., Chhonkar N.S. // Indian J. Phys. 1968. V. 42. P. 260.
- Bolkhovityanov Y.B. // J. Cryst. Growth. 1981. V. 55. P. 591.
- Болховитянов Ю.Б. // Материалы электронной техники. 1. Физико-химические основы методов синтеза. Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1981. С. 63.
- Болховитяниов Ю.Б. // Рост кристаллов. М.: Наука, 1990. Т. 18. С 158.
- Гликин А.Э., Синай М.Ю. // Зап. Всесоюз. минерал. о-ва. 1991. Т. 120. С. 3.
- Гликин А.Э., Синай М.Ю. // Зап. Всесоюз. минерал. о-ва. 1983. Т. 112. С. 742.
- Гликин А.Э., Леонтьева О.А., Синай М.Ю. // Журнал структур. химии. 1994. Т. 35. С. 79.
- Гликин А.Э. // Зап. Всерос. минерал. о-ва. 1995. Т. 124. С. 125.
- Гликин А.Э. // Зап. Всерос. минерал. о-ва. 1996. Т. 125. С. 103.
- Крючкова Л.Ю., Гликин А.Э., Волошин А.Э., Ковалёв С.И. // Зап. Всерос. минерал. о-ва. 2002. Т. 131. С. 62.
- Voloshin A.E., Kovalev S.I., Rudneva E.B., Glikin A.E. // J. Cryst. Growth. 2004. V. 261. P. 105.
- Мильвидский М.Г., Освенский В.Б. Структурные дефекты в монокристаллах полупроводников. М.: Металлургия, 1986. 256 с.
- Григорьева М.С., Волошин А.Э., Руднева Е.Б. // Кристаллография. 2009. Т. 54. C. 679.
- Ройтбурд А.Л. // Успехи физ. наук. 1974. Т. 113. С. 69.
- Гребенев В.В., Григорьева М.С., Волошин А.Э. // Кристаллография. 2010. Т. 55. С. 940.
- Васильева Н.А., Григорьева М.С., Гребенев В.В., Волошин А.Э. // Кристаллография. 2013. Т. 58. № 4. С. 630. https://doi.org/10.7868/S002347611304022X
- Masalov V.M., Vasilyeva N.A., Manomenova V.L. et al. // J. Cryst. Growth. 2017. V. 475. P. 21. https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2017.05.028
- Руднева Е.Б., Маноменова В.Л., Колдаева М.В. и др. // Кристаллография. 2017. Т. 62. № 6. С. 937. https://doi.org/10.7868/S0023476117060200
- Voloshin A.E., Manomenova V.L., Rudneva E.B. et al. // J. Cryst. Growth. 2018. V. 500. P. 98. https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2018.08.018
- Kryuchkova L.Y., Sinai M.Y., Glikin A.E. // Acta Cryst. 2011. V. 67. P. 469.
- Григорьева М.С., Васильева Н.А., Артемов В.В., Волошин А.Э. // Кристаллография. 2014. Т. 59. № 2. С. 316. https://doi.org/10.7868/S0023476114020106
- Васильева Н.А., Руднева Е.Б., Маноменова В.Л. и др. // Кристаллография. 2019. Т. 64. № 5. С. 812. https://doi.org/10.1134/S0023476119050242
- Prostomolotov A.I., Verezub N.A., Vasilyeva N.A., Voloshin A.E. // Crystals. 2020. V. 10. P. 982. https://doi.org/10.3390/cryst10110982
- Vasilyeva N., Rudneva E., Manomenova V. et al. // Crystals. 2021. V. 11. 1368. https://doi.org/10.3390/cryst11111368
- Gross J. Pigments in vegetables. NY: Springer New York, 1991. 351 p. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-2033-7
- Kleinberg R. // J. Chem. Phys. 1969. V. 50. № 11. P. 4690.
- Mizuno J. // J. Phys. Soc. Jpn. 1961. V. 16. № 8. P. 1574.
- Kleinberg R. // J. Appl. Phys. 1967. V. 38. № 3. P. 1453.
- Mizuno J. // J. Phys. Soc. Jpn. 1960. V. 15. № 8. P. 1413.
- Waizumi K., Masuda H., Ohtaki H. et al. // Bull. Chem. Soc. Jpn. 1990. V. 63. № 12. P. 3426.
- Matveeva D.S., Komornikov V.A., Sorokina N.I. et al. // Opt. Mater. 2023. V. 144. 114339. https://doi.org/10.1016/j.optmat.2023.114339
- Зайнуллин О.Б., Волошин А.Э., Коморников В.А. и др. // ФТТ. 2019. Т. 61. Вып. 12. С. 2408. https://doi.org/10.21883/FTT.2019.12.48563.40ks
Supplementary files