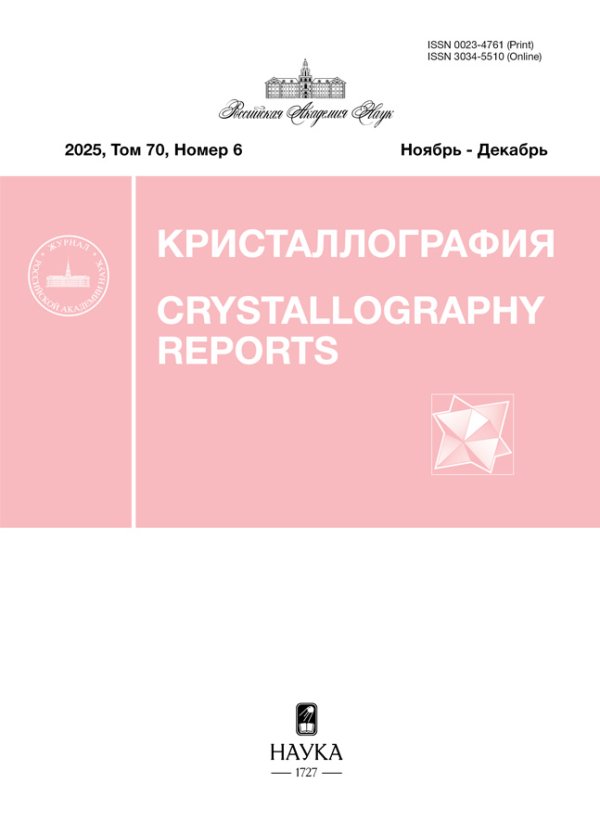X-ray structural studies of proteins at the A.V. Shubnikov Institute of Crystallography of the Russian Academy of Sciences
- Authors: Kuranova I.P.1, Lashkov A.A.1, Samygina V.R.1
-
Affiliations:
- Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
- Issue: Vol 69, No 2 (2024)
- Pages: 173-191
- Section: REVIEWS
- URL: https://bakhtiniada.ru/0023-4761/article/view/259672
- DOI: https://doi.org/10.31857/S0023476124020025
- EDN: https://elibrary.ru/YTYTUV
- ID: 259672
Cite item
Full Text
Abstract
The emergence and development of X-ray crystallography of macromolecules or protein crystallography is one of the outstanding scientific achievements in the 20th century. The ability to determine the spatial structure of macromolecules of proteins and nucleic acids at the atomic level has ensured the rapid development of molecular biology, biochemistry, bioengineering, biotechnology, and enabled to reach the modern level of pharmacology. The review presents the results of a series of protein structure studies performed at the A. V. Shubnikov Institute of Crystallography, the Russian Academy of Sciences, starting from the 1960s and up to the present day.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Становление и развитие рентгеновской кристаллографии макромолекул, так называемой белковой кристаллографии, является одним из выдающихся достижений науки в XX веке. Возможность на атомном уровне определить пространственную структуру макромолекулы, используя дифракционную картину от монокристалла, обеспечило стремительное развитие молекулярной биологии, биохимии, биоинженерии, биотехнологии, позволило достичь современного уровня фармакологии.
Рентгеноструктурный анализ (РСА) стал первым методом, примененным для определения пространственной структуры макромолекул. В настоящее время для этой цели также используются методы электронной микроскопии, ядерного магнитного резонанса (ЯМР), но до сих пор РСА сохраняет свое ведущее значение. Из 250 тыс. пространственных структур биомакромолекул, депонированных в международную базу данных, ~80% определены этим методом.
В 1913 г., на следующий год после открытия Лауэ дифракции рентгеновских лучей на кристаллах, Брэгг определил структуру кристалла поваренной соли [1]. Вскоре последовала расшифровка структур ряда сложных органических молекул, в том числе физиологически активных. В 1957 г. Дороти Кроуфорд-Хочкин была присуждена Нобелевская премия за расшифрованные в 1949 г. пространственные структуры пенициллина и витамина В12 [2]. Однако только в 1934 г. была получена первая рентгенограмма от белкового кристалла – пепсина [3]. Это показало, что белок имеет упорядоченную и одинаковую структуру для всех своих молекул. Однако возможность интерпретации дифракционных картин от белковых кристаллов появилась лишь в 1954 г. благодаря работам Грина Ингрема и Макса Перутца, которые предложили способ решения фазовой проблемы в РСА белков, названный методом полиизоморфного замещения [4].
Первая структура белка миоглобина кашалота была расшифрована Джоном Кендрью только в 1958 г., сначала с разрешением 6 Å [5], а в 1960 г. с разрешением 2 Å [6]. В этом же году М. Перутцем была определена электронная плотность и расшифрована пространственная структура гемоглобина с разрешением 5 Å [7]. За эти работы в 1962 г. М. Перутц и Дж. Кендрью стали лауреатами Нобелевской премии.
В 1958 г., когда была опубликована первая белковая структура и который можно считать годом рождения белковой кристаллографии, директором Института кристаллографии АН СССР (ИК РАН) Борисом Константиновичем Вайнштейном был подписан приказ о создании первой в СССР лаборатории структуры белка, первым заведующим которой он стал. Эксперименты со сложными биологическими объектами с применением нового, развивающегося физического метода требовали объединения специалистов разных областей и поэтому коллектив созданной лаборатории включал в себя физиков, химиков, биологов и математиков. Были созданы условия и подготовлены специалисты для проведения полного цикла работ по белковой кристаллографии: выделения, очистки белков, выращивания белковых кристаллов, приготовления тяжелоатомных изоморфных производных, получения дифракционных наборов, расшифровки структур и построения моделей молекул. Широкий круг контактов лаборатории с биологическими институтами Академии наук и некоторыми зарубежными институтами позволил начать совместные проекты по изучению структур и функций ряда белков.
В содружестве с Институтом физиологии растений был начат проект по кристаллизации леггемоглобина – растительного аналога гемоглобина из клубеньков азотфиксирующих растений, с Институтом молекулярной биологии – по исследованию аспартаттрансаминотрансферазы и рибонуклеазы, с Институтом экспериментальной медицины было начато исследование церулоплазмина, с Институтом генетики и селекции промышленных микроорганизмов – карбоксипептидазы, с Институтом биохимии Берлинского университета им. Гумбольдта – неорганической пирофосфатазы дрожжей и т. д.
После того как в 1971 г. был организован Международный банк белковых данных (PDB), к 1980 г. из 100 структур, представленных в базе, шесть были депонированы сотрудниками ИК РАН.
Результаты первых исследований, проведенных в ИК РАН, были высоко оценены Международным кристаллографическим сообществом, что позволило совместно с Институтом белка РАН в 1986 г. провести в г. Пущино Международную школу по молекулярной биологии, в работе которой приняли участие и прочитали лекции наиболее известные в то время ученые в области белковой кристаллографии (проф. Г. Додсон, М. Россман, Т. Бланделл и др.).
СТРУКТУРА ЛЕГГЕМОГЛОБИНА
Первым белком, который был выделен, очищен и закристаллизован в лаборатории белковых структур и для которого была установлена пространственная структура, стал леггемоглобин (ЛБ) [8–11]. Пространственная структура ЛБ была первой не только в ИК РАН, но и входила в небольшое число первых установленных к тому времени белковых структур.
В клубеньках бобовых растений, инокулированных бактериями Rhizobium sp., ЛБ обеспечивает диффузию кислорода к азотфиксирующим бактероидам. Обладая высоким сродством к кислороду, ЛБ поддерживает уровень кислорода, достаточно высокий для протекания реакций окислительного фосфорилирования в бактероидах и достаточно низкий, чтобы не вызвать инактивацию нитрогеназного комплекса, работающего в анаэробных условиях. Уже по структуре ЛБ, установленной при разрешении 5 Å [11], стало ясно, что полипептидная цепь белка свернута таким же образом, как в гемоглобинах животных. Обнаруженная впервые гомология пространственных структур гемоглобинов животного и растительного происхождения позволила предположить, что общие предшественники этих белков существовали более 1.3 миллиарда лет назад, когда царство растений отделилось от животного мира. Отметим, что такой консерватизм пространственной структуры в гемоглобинах проявился на фоне небольшой гомологии первичной структуры.
Расшифрованные позднее при высоком разрешении структуры ЛБ (рис. 1) в дезокси- и оксиформах в комплексе с низкомолекулярными лигандами (СО, NO, CN–, F–) и с крупными органическими молекулами (нитробензол, никотиновая кислота) позволили установить особенности строения гемового кармана ЛБ, ответственные за высокое сродство белка к кислороду [12–16].
Рис. 1. Кристаллы (а) и структура (б) леггмоглобина (PDB ID: 1LH1)
СТРУКТУРЫ КАТАЛАЗ
Большой цикл работ был проведен по кристаллизации и изучению структуры другой группы гемсодержащих белков – каталаз. В то время каталазы были самыми большими по размерам молекулами белков (250–300 кДа), исследованными методом РСА.
Каталазы катализируют один из самых быстрых ферментативных процессов – разложение перекиси водорода на воду и кислород. Каталазы обнаружены во всех растениях, животных и в большинстве аэробных бактерий, где происходят процессы клеточного дыхания с участием цитохромов, т. е. где в результате восстановления кислорода образуется перекись водорода, токсичная для клетки. Защита клетки от повреждающего действия перекиси водорода – основная функция каталаз. Структуры двух гемовых каталаз (из грибов Penicillum vitale и из микроорганизма Micrococcus lysodeikticus) первоначально были установлены при разрешении 3 Å, а позже уточнены при разрешении 2 и 1.5 Å [17–18].
Каталаза Penicillum vitale была первым белком, закристаллизованным с использованием нового ультрацентрифужного метода кристаллизации, разработанного в ИК РАН. Поскольку данные не только о третичной, но и о первичной структуре ферментов этого семейства отсутствовали, аминокислотная последовательность первоначально была расшифрована по карте электронной плотности. Позже было показано, что укладка полипептидной цепи гемовых каталаз является уникальной и неизменной в течение всего эволюционного периода. Она была названа каталазным типом свертывания.
Впервые была исследована структура димарганцевой каталазы из термофильной бактерии Thermus thermophilus, относящейся к семейству негемовых каталаз, содержащих в активном центре два иона марганца [19]. Анализ структур, решенных при разрешении 3 и 1 Å, позволил сделать предположение о местах присоединения перекиси водорода и предложить пространственный механизм реакции.
ПИРИДОКСАЛЕВЫЕ ФЕРМЕНТЫ
В содружестве с Институтом молекулярной биологии проводилось изучение белка, относящегося к семейству пиридоксалевых ферментов – аспартатаминотансферазы (ААТФ) [20].
Пиридоксалевые ферменты, содержащие пиридоксаль-5´-фосфат (активная форма витамина В6) в качестве кофактора, регулируют процессы метаболизма аминокислот, катализируя реакции трансаминирования, альдольного расщепления, рацемизации, á-, â-, ã-элиминирования. Катализ с участием этих ферментов включает в себя ряд последовательных стадий. Из-за обратимости реакций они представляют интерес в качестве высокоспецифичного катализатора для получения сверхчистых препаратов аминокислот. ААТФ катализируют обратимую реакцию переноса аминогруппы от аспартата к кетоглутарату. Пространственная структура ААТФ сердца кур установлена при разрешении 2.8 Å. Несколько позже была определена структура других ферментов этой группы – тирозинфеноллиазы Erwinia herbicola и триптофаназы Proteus vulgaris.
Анализ трехмерных структур пиридоксальзависимых ферментов выявил изменения конформации белковой глобулы и кофермента в процессе катализа, позволил более детально представить пространственный механизм этой сложной многостадийной реакции и проследить конформационные изменения, сопровождающие переход пиридоксалевой формы в пиридоксаминовую.
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПИРОФОСФАТАЗЫ
Большой вклад был внесен в изучение структуры неорганических пирофосфатаз (НПФ). Работы по кристаллизации и изучению структуры и свойств НПФ дрожжей проводились в содружестве с Институтом биохимии Берлинского университета им. Гумбольдта [21–26].
НПФ, относящиеся к ферментам фосфорного обмена, участвуют в процессах, сопровождающих биологическое превращение энергии в живых организмах, обеспечивая перенос фосфатных групп. Основная реакция, катализируемая растворимыми пирофосфатазами – гидролиз макроэргической фосфоангидридной связи неорганического пирофосфата (PРi) до ортофосфата. PPi образуется как продукт реакций биосинтеза, протекающих с участием АТФ, и является важным компонентом клеточного метаболизма. Концентрация PPi влияет на уровень цикло-АМФ, воспроизводство генетической информации, процессы минерализации тканей. Гидролиз PPi в реакциях биосинтеза приводит к тому, что две высокоэнергетические связи расходуются на каждую вновь образующуюся связь биополимера, что делает практически необратимым биосинтез ДНК, РНК и белков. НПФ, содержащиеся в мембранах митохондрий или в хроматофорах фотобактерий, катализируют энергозависимый синтез РPi. Последующий гидролиз PPi сопрягается с переносом протона через мембрану и возникновением мембранного потенциала. Все НПФ являются металлозависимыми ферментами: присутствие двухвалентных ионов металла абсолютно необходимо для их активности.
Установленная пространственная структура НПФ дрожжей Saccharomyces cerevisiae была первой для белков этого семейства [23, 25–27]. Описано строение активного центра фермента, локализовано положение связанных ионов металла. Анализируя результаты, удалось различить, какие из ионов металла были первоначально связаны с ферментом, а какие присоединились с субстратом. Были объяснены причины инактивации фермента ионами кальция. На основании анализа структуры были уточнены предлагавшиеся ранее кинетические схемы катализа пирофосфатазой и уточнен ранее предложенный механизм реакции [28–32].
Впервые была выделена, охарактеризована и закристаллизована пирофосфатаза из термофильного штамма Thermus thermophilus, превосходящая по термостабильности остальные ферменты этого семейства [33, 34]. Структура этого фермента была определена при разрешении 2 Å [35].
Несколько позже изучение белков семейства пирофосфатаз было продолжено совместно с Институтом физико-химической биологии им. А.Н. Белозерского МГУ на примере пирофосфатазы E. coli [36, 37]. В опытах по кристаллизации пирофосфатазы E. coli были разработаны методы улучшения качества кристаллов. Путем нескольких циклов обратимого перезамораживания кристаллов удалось улучшить дифракцию до разрешения ~1 Å. Этот подход был использован, чтобы получить комплекс фермента с ингибитором – ионом кальция и субстратом. Структура позволила предположить механизм ингибирования пирофосфатазы [38]. Другой ингибитор, фторид-ион, был использован для исследования промежуточных стадий ферментативной реакции с использованием того же подхода. Перезамораживание в криорастворе, не содержащем фторид-ион, позволило запустить ферментативную реакцию и получить несколько структур с продуктом реакции в активном центре [39]. Позднее была получена структура пирофосфатазы V. cholerae [40].
Строение активного центра во всех четырех исследованных пирофосфатазах оказалось весьма сходным. Общие закономерности, установленные для этих структур, помогли определить, какие структурные элементы изменяются у пирофосфатаз из других организмов [41]. На основе сравнения структур были выявлены причины, способствующие повышению термостабильности ферментов, что позволяет планировать эксперименты по получению мутантных форм.
АСПАРАГИНАЗЫ
Совместно с Институтом биомедицинской химии РАМН и Институтом генетики и селекции промышленных микроорганизмов исследованы пространственные структуры ферментов семейства аспарагиназ. Белки семейства аспарагиназ катализируют превращение аспарагина в аспарагиновую кислоту и аммиак. Интерес к изучению этих белков связан с их широким применением при терапии острых лимфобластных лейкозов. Терапевтическое действие аспарагиназы связано с тем, что в клетках опухолей отсутствует фермент аспарагинсинтетаза, и отсутствие одной из аминокислот – аспарагина – нарушает биосинтез белка в раковых клетках. Однако противопухолевое действие аспарагиназы сопровождается рядом токсических эффектов, зависящих главным образом от ее способности наряду с аспарагином катализировать гидролиз глутамина до глутаминовой кислоты. Глутамин является главным переносчиком аминогрупп и понижение его содержания отрицательно сказывается на состоянии организма. Поэтому одна из целей изучения аспарагиназ связана с потребностью конструирования фермента, обладающего высокой аспарагиназной и минимальной глутаминазной активностью.
Были выращены кристаллы и установлены пространственные структуры обладающих уменьшенной глутаминазной активностью аспарагиназ Erwinia carotovora и мутантной формы аспарагиназы Wolinella succinogenes как в свободном состоянии, так и в комплексах с продуктами реакции – аспарагиновой и глутаминовой аминокислотами.
Аспарагиназа Erwinia carotovora имеет высокую противоопухолевую активность, низкую токсичность и в течение ряда лет успешно применяется при лечении острой лимфобластной лейкемии. Структура апоформы фермента была определена при разрешении 3 Å (рис. 2), структура комплексов с L-аспарагиновой и L-глутаминовой кислотами – при разрешении 1.9 и 2.2 Å соответственно [42, 43]. Описана укладка полипептидной цепи в субъединицах тетрамерной молекулы фермента, локализованы активные центры. Описаны конформационные изменения, сопровождающие связывание продуктов реакции. Показано, что ключевые аминокислотные остатки (а. о.) активного центра, треонин и тирозин, находятся в подвижной петле и сближаются друг с другом при образовании закрытой каталитически активной формы в результате перемещения подвижной петли, происходящего при связывании субстратов. Было показано, что в связывании обоих продуктов реакции участвуют одни и те же а. о. активного центра, но расположение большего по размеру лиганда – глутаминовой кислоты относительно каталитически важных остатков менее благоприятно для протекания реакции.
Рис. 2. Пространственная структура аспарагиназы из Erwinia carotovora (PDB ID: 1ZCF)
Мутантная форма аспарагиназы Wolinella succinigenes (WASm), которая содержала две замены V23Q и K24T в подвижной петле, ограничивающей активный центр, и обладала на порядок меньшей по сравнению с исходным ферментом глутаминазной активностью при полном сохранении аспагагиназной, была получена в 2016 г. группой исследователей из Государственного научно-исследовательского института генетики и селекции промышленных микроорганизмов [44]. Чтобы проследить, каким образом введенные замены влияют на соотношение активностей, были определены пространственные структуры апоформы мутанта и его комплексов с аспарагиновой и глутаминовой аминокислотами. Структура апоформы фермента уточнена при разрешении 1.7 Å, структуры комплексов WASm/Asp и WASm/Glu при 1.65 и 2.0 Å соответственно [45]. Оказалось, что три субъединицы тетрамерной молекулы WASm/Asp находятся в каталитически активной, закрытой конформации, в то время как в комплексе WASm/Glu все четыре субъединицы имеют неактивную открытую форму. Моделирование положения а. о. Gln23 и Thr24 с использованием координат исходного фермента (PDB ID: 5K3O) показало, что боковые цепи а. о. образуют ряд коротких контактов с соседней субъединицей димера. Это может увеличивать подвижность петли и препятствовать образованию закрытой конформации при связывании субстрата большего объема: глутамина. Кроме того, после введения замен V23Q, K24T существенно меняется и электростатический потенциал поверхности на данном участке пространственной структуры.
Методом молекулярной динамики (МД) была исследована L-аспарагиназа Wolinella succinogenes дикого типа и ее мутантная форма: V23Q/K24T. Показано, что подвижность атомов мутантной формы белка существенно выше подвижности атомов белка дикого типа. Выявлены элементы структуры белка, подвижность которых наиболее сильно меняется при введении мутаций. Увеличение подвижности мобильной петли может быль одной из причин, влияющих на изменение субстратной специфичности мутантной формы L-аспарагиназы [46].
КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ БЕЛКОВ В УСЛОВИЯХ МИКРОГРАВИТАЦИИ
Развитию в ИК РАН структурных исследований белков, важных для медицины и биотехнологии, в начале XXI века способствовало расширение возможностей улучшения дифракционного качества кристаллов благодаря проведению экспериментов по их росту в условиях невесомости. Эксперименты по кристаллизации белков на космических летательных аппаратах, в том числе на российской космической станции “Мир”, проведенные в период 1981–1996 гг., показали, что дифракционное качество белковых кристаллов, выращенных при низкой гравитации, превосходит качество контрольных наземных кристаллов [47]. Этот эффект зависит главным образом от особенностей транспорта при низкой силе тяжести белковых молекул, имеющих высокую молекулярную массу и низкую диффузионную подвижность, к растущему кристаллу [48].
С 2005 г. ИК РАН участвует в совместном с ЦНИИ МАШ Роскосмоса проекте “Кристаллизатор” по выращиванию кристаллов высокого качества на Российском сегменте Международной космической станции (МКС). Значительная часть кристаллов белков, изучаемых в этот период, выращена в рамках этого проекта [49–54].
Для проводимых в космосе экспериментов в конструкторском бюро ИК РАН были разработаны кристаллизаторы Модуль 1, Модуль 3 и изучены условия роста кристаллов в этих аппаратах на земле и в невесомости. Выращенные в невесомости в кристаллизаторе Модуль 1 кристаллы формиатдегидрогеназы Arabidopsis taliana, рекомбинантного инсулина, карбоксипептидазы и ряда других белков превосходили наземные по размеру и дифракционному качеству [50, 51]. В аппарате Модуль 3 в невесомости с использованием искусственной графоэпитаксии была выращена пленка из кристаллов каталазы Penicillum vitae [54]. Таким образом, впервые для выращивания кристаллов белков был применен метод искусственной эпитаксии.
С 2009 г. и по настоящее время эксперименты по выращиванию кристаллов белков высокого качества проводятся на МКС и в японском модуле KIBO совместно с японским аэрокосмическим агентством JAXA.
К белкам, структуры которых определены с использованием кристаллов, выращенных в невесомости, относятся и карбоксипептидазы, исследование которых продолжается в настоящее время [52, 55].
КАРБОКСИПЕПТИДАЗЫ
Изучение белков семейства металлокарбоксипептидаз было начато совместно с Институтом генетики и селекции промышленных микроорганизмов, где была выделена карбоксипептидаза (КП) Thermoatinomyces vulgaris (КПТ) – первая КП из микроорганизмов [56].
Металлокарбоксипептидазы, содержащие атом цинка в активном центре и катализирующие отщепление С-концевого а. о. от белков и пептидов, выполняют разнообразные функции в живых организмах. Регуляторные КП осуществляют процессинг нейропептидов и прогормонов, регулируют активность пептидных гормонов, участвуют в изменении взаимодействий белок–белок. КП плазмы крови принимают участие в каскаде реакций, приводящих к образованию тромбов и развитию инфаркта. Благодаря этому ингибиторы КП применяются для купирования сердечных приступов. Классическими объектами энзимологии являются пищеварительные панкреатические карбоксипептидазы А и В (КПА и КПВ). Постоянный интерес к изучению КПВ связан с ее использованием в биотехнологии при производстве инсулина, а также в качестве модели при разработке селективных ингибиторов регуляторных КП.
Пространственная структура КПТ показала, что микробные ферменты имеют укладку полипептидной цепи и строение активного центра, сходное с панкреатическими КП [57, 58]. Однако карбоксипептидазы А, В и Т существенно различаются по субстратной специфичности: КПА отщепляют только отрицательно заряженные С-концевые а. о., КПВ – положительно заряженные, а КПТ отличается более широкой специфичностью, отщепляя С-концевые гидрофобные и положительно заряженные а. о., хотя последние и с меньшей скоростью. Поэтому данная группа КП оказалась удобным объектом для изучения структурных основ селективности ферментов [59]. Понимание механизмов, обеспечивающих избирательность действия ферментов, дает возможность конструировать ферменты с желаемыми свойствами, что представляет важную цель практической энзимологии. Применительно к КП это представляет существенный интерес для конструирования более совершенного фермента процессинга инсулина.
По имеющимся представлениям субстратная специфичность КП в значительной степени определяется составом и пространственным строением S1´-субсайта, или центра первичной специфичности, где связывается отщепляемый а. о. Поскольку при сходном строении каталитического центра КПТ отличается от КПВ только пятью заменами в S1´-субсайте, можно было предполагать, что замена этих остатков КПТ на КПВ изменит селективность КПТ. Был приготовлен мутант КПТ с карманом первичной специфичности КПВ и его строение подтверждено определением структуры. Однако замена этих остатков в КПТ не изменила селективность фермента [60].
Сравнение КПВ и КПТ показало, что в S1´-субсайте КПТ участки, связывающие гидрофобные и положительно заряженные субстраты, пространственно разделены. В результате гидрофобный фрагмент оказывается преимущественно в гидрофобном окружении, а заряженная гуанидиновая группа непосредственно или через молекулы воды взаимодействует с кластером полярных аминокислот, связанных между собой системой водородных связей. Благодаря такому разделению фермент оказывается эффективным при гидролизе и гидрофобных, и положительно заряженных аминокислот [60]. Следовательно, на первичную специфичность фермента влияют не только аминокислотные остатки S1´-субсайта.
Чтобы локализовать все а. о., участвующие в связывании субстрата, были получены и исследованы кристаллические комплексы КПТ с аналогами гидрофобных и положительно заряженных субстратов, а также с соединениями, отражающими состояние активного центра на промежуточных стадиях реакции (рис. 3) [61–65]. В молекуле КПТ были идентифицированы субсайты S1´, S2´, S1´, где связываются две предшествующих расщепляемой связи и С-концевой а. о.
Рис. 3. Кристаллы (а) и пространственная структура (б) карбоксипептидазы T в комплексе с N-сульфамоил-L-лейцином (LU0, PDB ID: 6GO2)
На основе анализа взаимодействия связанных лигандов с ферментом определены а. о. – потенциальные детерминанты специфичности КПТ и предложены позиции точечных мутаций, которые могут изменить селективность фермента. Один из мутантов, приготовленный согласно этим рекомендациям: L211N, катализирует отщепление положительно заряженного субстрата со скоростью, превышающей скорость катализа ферментом дикого типа более чем на порядок [65]. В [66] было показано влияние а. о. петли, закрывающей активный центр, на селективность КП.
СТРУКТУРА АЛЛЕРГЕНА Der_p_3
При разрешении 2.25 Å установлена пространственная структура другой протеазы: аллергена Der_p_3 из клещей домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus [67] (рис. 4).
Рис. 4. Пространственная структура аллергена Der_p_3 из клещей домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus (PDB ID: 7PZO)
К аллергенам относят антигены белковой природы, вызывающие аллергию и обладающие способностью связываться с иммуноглобулином Е (IgE). Белки из клещей домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus составляют большую часть домашних аллергенов и являются одним из главных факторов, ответственных за развитие аллергии и бронхиальной астмы во всем мире. Задача распознавания антигенных участков белков является ключевой при создании синтетических вакцин, иммунодиагностических тестов и производстве антител. Структурная информация используется для поиска эпитопов и прогнозирования аллергенной активности. Поэтому данные о пространственной структуре белков-аллергенов представляют существенный интерес.
Белок Der_p_3 является одним из ключевых аллергенов, выделенных из клещей Dematophagoides pteronyssinus. Имеются данные, что Der_p_3 взаимодействует с дыхательным эпителием, а также участвует в активации кальциевых каналов. Согласно аминокислотной последовательности, Der_p_3 относится к семейству сериновых протеаз: гомология между аминокислотными последовательностями Der_p_3 и трипсином быка составляет 36.8%. Наибольшие различия в конформации а. о. наблюдаются в области разупорядоченных цепей. В отличие от большинства аллергенов полипептидная цепь Der_p_3 не содержит гликозилированных участков. Для рентгеноструктурного исследования была разработана методика получения рекомбинантного белка [68]. Известно, что белок Der_p_3 подвергается автолизу, поэтому наряду с нативным белком была приготовлена мутантная форма S196A, в которой а. о. серина активного центра заменен на аланин. Мутантная форма оказалась стабильной и сохранила способность связываться с IgЕ, поэтому более пригодна для терапевтических целей. Укладка полипептидной цепи в молекуле аллергена типична для белков семейства трипсина. Молекула состоит из двух доменов, каждый из которых содержит â-баррел. Домены, между которыми расположен активный центр, связаны длинной разупорядоченной петлей. По сравнению с трипсином полипептидная цепь содержит дополнительную á-спираль, а также имеются несколько вставок и делеций. Наибольшие различия наблюдаются в конформации разупорядоченных цепей.
ФОСФОПАНТЕТЕИН АДЕHИЛИЛТРАНСФЕРАЗА MYCOBATERIUM TUBERCULOSIS
Фосфопантетеин аденилилтрансфераза Mycobacterium tuberculosis (PPAT) катализирует предпоследнюю стадию пятистадийного биосинтеза кофермента А (СоА) – обратимый перенос аденильной группы аденозинтрифосфата (АТФ) на 4´-фосфопантетеин с освобождением пирофосфата и образованием дефосфокофермента А (dPCoA). Фосфорилирование dPCoA на следующей (последней) стадии процесса приводит к образованию СоА, необходимого для жизнедеятельности патогенной микобактерии. Катализируемая РРАТ реакция является ключевой, а фермент представляет удобную мишень для поиска потенциальных противотуберкулезных лекарств [69].
Пространственные структуры были установлены для апофермента и его комплексов с субстратом – АТФ (рис. 5), продуктом реакции – dPCoA и природным ингибитором реакции – СоА [70–75]. Первые три структуры отражают конформацию фермента на соответствующей стадии катализируемой реакции.
Рис. 5. Кристаллы (а) и пространственная структура (б) фосфопантетеин аденилилтрансферазы Mycobacterium tuberculosis в комплексе с АТФ (ATP, PDB ID: 3UC5)
Показано, что гомогексамерная молекула фермента, содержащая заполненный молекулами воды внутренний канал, на поверхности которого расположены активные центры, практически не изменяется при связывании СоА, но при связывании субстрата и продукта претерпевает существенные конформационные изменения, сопровождающиеся изменением диаметра внутреннего канала, через который субстраты доставляются в активные центры (рис. 6). На основе сравнительного анализа конформационных изменений был предложен структурный механизм реакции, катализируемой ферментом [73, 74].
Рис. 6. Изменение диаметра внутреннего канала в молекуле фосфопантетеин аденилилтрансферазы Mycobacterium tuberculosis в течение катализируемой реакции
Установленные при высоком разрешении координаты молекулы были использованы для поиска методом МД специфических ингибиторов, которые представляют интерес как потенциальные противотуберкулезные средства [76].
НУКЛЕОЗИДФОСФОРИЛАЗЫ
Большой объем работ посвящен изучению структуры и свойств белков семейства нуклеозидфосфорилаз. Нуклеозидфосфорилазы: пуриннуклеозидфосфорилазы (ПНФ), уридинфосфорилазы (УНФ), тимидинфосфорилазы (ТФ) и широкоспецифичные пиримидинфосфорилазы (ПиНФ) относятся к ключевым ферментам обмена нуклеозидов.
Способность клеток поддерживать постоянный запас пуриновых и пиримидиновых нуклеотидов зависит от процесса синтеза нуклеотидов из имеющихся готовых продуктов или de novo. Важность любого из этих двух синтезов в сохранении нуклеотидного запаса различна и зависит от клеток и типов тканей.
Нуклеозидфосфорилазы обеспечивают клетку пуриновыми и пиримидиновыми основаниями, которые могут использоваться альтернативно синтезу de novo. Впервые энзиматическое расщепление гликозидной связи в пуриновых и пиримидиновых рибозидах было описано Levene and Medigreceanu в 1911 г. [77]. В 1924 г. Levene опубликованы данные об общих свойствах и методах выделения из различных органов собаки нуклеозидаз – так были названы эти ферменты [78, 79]. В 1945 г. в экспериментах Kalckar с использованием пиримидиновой нуклеозидфосфорилазы из печени крысы было показано наличие второго продукта реакции рибоза-1´-фосфата вместо рибозы, как было ранее предположено [80].
Биомедицинский интерес к нуклеозидфосфорилазам возник из их ключевой роли в нуклеотидном метаболизме и их необходимости для нормальной клеточной функции. Они участвуют в метаболизме противораковых и противовирусных препаратов, являющихся аналогами нуклеозидов. Было предположено, что ингибиторы, специфичные к нуклеозидфосфорилазам, могут усиливать действие определенных нуклеозидных аналогов при химиотерапевтическом воздействии, предотвращая их инактивацию.
Нуклеозидфосфорилазы разделяют на два семейства: пуриновые нуклеозидфосфорилазы, расщепляющие как гуаниновый, так и адениновый нуклеозиды, и пиримидиновые нуклеозидфосфорилазы, которые, в свою очередь, делятся на УНФ, ТФ и широкоспецифичную ПиНФ. К настоящему времени описано большое количество нуклеозидфосфорилаз как низших, так и высших организмов и определено довольно большое число пространственных структур нуклеозидфосфорилаз как пуринового, так и пиримидинового типа, которые позволили систематизировать фосфорилазы по принципу белковой упаковки: мономеры нуклеозидфосфорилаз состоят из одного или двух доменов, по этому признаку можно выделить два семейства нуклеозидфосфорилаз: NP-I и NP-II.
10.1. Пуриннуклеозидфосфорилазы
Благодаря катализируемой ферментом реакции трансгликозилирования ПНФ применяются для синтеза аналогов природных нуклеозидов, многие из которых представляют собой эффективные противораковые и противовирусные средства. ПНФ необходимы для нормального созревания Т-лимфоцитов млекопитающих. Потеря активности этих белков приводит к иммунодефициту. Вследствие этого ингибиторы этих белков могут выступать в роли иммунодепрессантов при пересадке органов.
Разница в специфичности между эу- и прокариотическими ПНФ используется при лечении рака методом генной терапии посредством трансфекции гена микробной ПНФ в опухолевую ткань. Метод основан на том, что некоторые аналоги пуриновых нуклеозидов являются пролекарствами; они устойчивы к действию ПНФ человека, но соответствующим микробным ферментом расщепляются до пуриновых оснований, высокотоксичных для раковых клеток. Трансфекция в клетки опухоли гена ПНФ активирует нуклеотидные аналоги до их цитотоксической формы, в результате происходит гибель раковых клеток. Значительные медицинские перспективы при лечении рака имеет E. coli ПНФ.
Пространственные структуры ПНФ термофильной бактерии Thermus thermophilus и E. coli были установлены сотрудниками ИК РАН при разрешении 2.5 и 0.99 Å соответственно [81, 82].
Гексамерная молекула E. coli ПНФ, имеющая форму диска, содержит много каналов, заполненных молекулами воды. Каналы, расположенные в области активного центра, сохраняют свое положение в разных структурах. Предполагается, что расположенные в них молекулы воды принимают участие в переносе протонов во время реакции. Благодаря высокому разрешению дифракционного набора в молекуле E. coli ПНФ прослеживаются кластеры молекул воды, которые могут принимать участие в этом процессе.
Пространственные структуры E. coli ПНФ были определены также для комплексов фермента с ацикловиром и 7-диазагипоксантином (рис. 7) [83, 84].
Рис. 7. Пространственная структура гексамерной молекулы ПНФ в комплексе с ацикловиром (PDB ID: 5I3C) (а). Сравнение положения ацикловира и 7-диазагипоксантина в активном центре фермента (б)
10.2. Уридинфосфорилазы
К нуклеозидфосфорилазам NP-I-семейства относят уридинфосфорилазы. Эти ферменты специфичны к уридину, но также способны взаимодействовать с 2´-дезоксипиримидиновыми нуклеозидами в низших организмах. Исследования УНФ из различных организмов показали, что существуют два типа УНФ, которые различаются рН-оптимумом: 6.5–6.7 и 7.9–8.1 соответственно [85]. Бактериальные УНФ функционируют как гексамеры с идентичными субъединицами молекулярной массой ~27 кДа. Первую структуру бактериальной УНФ из E. coli определили методом РСА с разрешением 2.5 Å [86] в Лаборатории белковой кристаллографии ИК РАН (рис. 8). Позднее иностранными коллегами были определены структуры этого фермента при разрешениях 2.0 и 2.2 Å [87, 88].
Рис. 8. Трехмерная структура молекул уридинфосфорилаз: а – бактериальная УНФ из E. coli, б – человеческая УНФ 1-го типа [89]
В Лаборатории белковой кристаллографии ИК РАН была продолжена работа с бактериальными УНФ ввиду их важности с точки зрения медицинского и биотехнологического применения. В [90] описаны очистка, кристаллизация и предварительный анализ УНФ из патогенной бактерии S. typhimurium (StUPh) [91], а в [92] – пространственная структура фермента, определенная при разрешении 1.9 Å. Показано, что минимальной структурной единицей, необходимой для функционирования гексамерной молекулы StUPh (L33L2), является гомодимер с двумя асинхронно работающими активными центрами, каждый из которых формируется аминокислотными остатками обеих субъединиц.
Велась работа над расшифровкой структуры комплексов УНФ с фармакологически значимыми ингибиторами и субстратами. В [93] описана кристаллизация и предварительный РСА комплекса StUPh с конкурентным ингибитором – 2.2´-ангидроуридином, а в [94] – c противоопухолевым лекарственным препаратом – 5-фторурацилом. Эти исследования послужили основой для определения пространственной структуры соответствующих комплексов. Структура комплекса с 2.2´-ангидроуридином, определенная при разрешении 1.86 Å, послужила основой для создания новых ингибиторов, формулы которых были получены с использованием методов МД и молекулярного докинга [95] так же, как и структура комплекса с 5-фторурацилом (2.2 Å [96]).
Затем были исследованы УНФ еще из двух патогенных бактерий: Yersinia pseudotuberculosis (YptUPh [97, 98]) при максимальном разрешении 1.4 Å и Vibrio cholerae (VchUPh [99, 100]) как в апоформе, так и в комплексе с субстратами и ингибиторами. Особенно отметим работу [101], в которой описано систематическое исследование пространственной структуры комплексов VchUPh с субстратами и продуктами ферментативной реакции: уридином, фосфат-анионом, тимидином, урацилом и тимином, что позволило всесторонне рассмотреть вопрос структурной основы субстратной специфичности УНФ. Показано, что образование сети водородных связей между 2´-гидроксигруппой уридина и атомами а. о. активного центра УНФ приводит к изменению конформации рибозной компоненты уридина, что увеличивает реакционную способность уридина по сравнению с тимидином. Меньшее по сравнению с уридином локальное напряжение â-N1-гликозидной связи в молекуле тимидина при связывании его с аминокислотными остатками УНФ приводит к более высокой стабильности связи и меньшей реакционной способности тимидина. Впервые показано, что фосфат-анион взаимодействует посредством водородных связей одновременно с а. о. â5-стренда и â1-стренда и фиксирует “петлю-шлагбаум” в конформации, при которой активный центр молекулы становится недоступным для связывания с другими молекулами нуклеозидов.
В [102] для анализа комплекса VchUPh с 2.2´-ангидроуридином, решенного методом РСА (1.34 Å), для вычисления энергии связывания белок–лиганд были применены методы линейной интерполяции и возмущения свободной энергии, основанные на полноатомной МД. Проведено сравнение этой структуры со структурой комплекса с субстратом – уридином (рис. 9а). Показано, что молекула 2,2´-ангидроуридина образует с активным центром фермента меньше устойчивых водородных связей, а их длина больше, чем в случае с уридином. Однако в расчетах, учитывающих энергию сольватации молекул и энтропийные эффекты, связывание ингибитора (2,2´-ангидроуридина) с активным центром белка оказалось энергетически выгоднее, чем нативного субстрата.
Рис. 9. Совмещения активных центров структур комплексов VchUPh c 2,2´-ангидроуридином (PDB: 6RCA, ANU) и уридином (PDB ID: 5M2T; URI) (а); кристаллы УНФ из V. cholerae, выращенные в условиях микрогравитации (б) [102, 103]
Велась также работа по исследованию структуры УНФ в условиях микрогравитации. В частности, на МКС методом встречной диффузии в капиллярах выращены кристаллы VchUPh (рис. 9б) и определена ее пространственная структура рекордно высокого (1.04 Å) разрешения [103]. Впервые в пространственной структуре апоформы УНФ обнаружены альтернативные конформации протяженных областей (â-стрендов и смежных петель) белковой молекулы. Эти альтернативные конформации, возможно, связаны с функционированием фермента. Методами конформационного анализа с использованием марковских моделей показано, что переход между конформациями возможен и без связывания фермента с лигандом.
Структуры высокого разрешения как нелигандированного фермента, так и комплексов с субстратами, а также развитие вычислительной техники позволили исследовать основную стадию ферментативного катализа, осуществляемую УНФ, – реакцию нуклеофильного замещения с помощью комбинированного метода квантовой и молекулярной механики [104]. Проведено сравнение различных уровней теории и схем расчета точечной энергии, пути минимальной энергии, термохимических характеристик реакции, а также оптимизация геометрии молекул реактантов, продуктов и переходного состояния. В сравнении с расчетами активационного барьера, проведенными в воде без фермента, выявлены существенные различия кинетики ферментативной реакции, обусловленные ориентирующим и концентрационным действиями а. о. белка, что приводит к понижению энергии активации на ~20 ккал/моль и способствует протеканию реакции в физиологически приемлемых условиях. Выявлено, что свободная энергия активации при нуклеофильной атаке уридина гидрованадат-ионом на ~2 ккал/моль ниже, чем для гидрофосфат-иона, что хорошо согласуется с опубликованными экспериментальными данными.
10.3. Тимидинфосфорилазы и широкоспецифичная пиримидинфосфорилаза
ПиНФ широко используются в качестве биокатализаторов для биотехнологического производства нуклеозидных производных [105]. В эукариотических клетках и некоторых типах прокариот (например, E. coli и Salmonella typhimurium) ПиНФ представлены узкоспецифичными ТФ (КФ 2.4.2.4) и УНФ (КФ 2.4.2.3). Напротив, в некоторых низших организмах (например, Bacillus subtilis, Geobacillus stearothermophilus) широкоспецифичная ПиНФ (КФ 2.4.2.2) с одинаковой каталитической активностью расщепляет уридин и тимидин [106]. ПиНФ гомологичны тимидинфосфорилазам (~40% аминокислотной последовательности) [107]. Оба типа ферментов действуют как гомодимеры с двухдоменной субъединичной структурой (NP-II семейство), и их активный центр расположен на границе двух доменов.
В организмах млекопитающих ТФ участвует в процессах ангиогенеза (роста кровеносных сосудов). Ее уровень бывает особенно высок в клетках опухолей, в которых отсутствует механизм синтеза нуклеозидов de novo, и основную роль играет запасной путь синтеза нуклеозидов, который и обеспечивает ТФ. Поэтому весьма актуальной задачей является поиск соединений – ингибиторов этого фермента.
Было показано, что аналог природного нуклеозида – азидотимидин (3´-AZT) – первое эффективное лекарство против ВИЧ-ифекции, отличающийся от природного субстрата тимидина только присутствием азидогруппы в 3´-положении дезоксирибозного кольца, является обратимым ингибитором ТНФ. Структура комплекса ТНФ/3´-AZT установлена при разрешении 1.52 Å [108] (рис. 10), а структура комплекса ТФ с другим потенциальным терапевтическим средством – 3´-азидо-2´,3´-дидезоксиуридином (N3FddU) – при разрешении 1.5 Å [109].
Рис. 10. Пространственная структура тимидинфосфорилазы E. coli в комплексе с азидотимидином (а) (PDB ID: 4LHM), лиганд (AZT) в активном центре фермента с азидогруппой в гидрофобном кармане (б)
Было обнаружено, что связывание азидотимидина сопровождается конформационными изменениями, приводящими к образованию гидрофобного кармана вокруг азидной группы. При этом оказалось, что положение связанного ингибитора 3´-AZT лишь частично совпадает с положением тимидина в гомологичном белке – ПиНФ из S. аureus. Плоскости пиримидиновых оснований в обоих соединениях совпадают, но развернуты на 180° друг относительно друга. Из-за разворота пиримидиновых оснований углеводные фрагменты молекул оказываются в разном аминокислотном окружении. В результате каталитически важные остатки активного центра занимают неблагоприятную позицию относительно подлежащей гидролизу гликозидной связи 3´-AZT, чем и объясняется ингибирующее действие 3´-AZT. Такой тип ингибирования посредством реориентации потенциального субстрата был обнаружен впервые. Поскольку положение второго лиганда N3FddU, содержащего кроме азидогруппы атом фтора в рибозном кольце, полностью совпало с положением 3´-AZT, можно предположить, что именно азидогруппа в 3´-положении дезоксирибозы приводит к переориентации.
Методом МД изучено движение доменов в димерной молекуле ТФ при связывании субстратов – фосфата и тимидина [110]. Было показано, что две субъединицы фермента функционируют асинхронно. Фосфат связан в активном центра слабее, чем тимидин, который, однако, претерпевает конформационные изменения.
В ИК РАН исследовались структуры ТФ из Salmonella typhimurium (StTP) и широкоспецифичной ПиНФ из Bacillus subtilis (BsPyNP, 2.5 Å) [111, 112] (рис. 11). При анализе структурных различий этих ферментов выявлено, что в ПиНФ в связывании фосфат-аниона принимает участие Lys108, которому в ТФ соответствует Met111. Это отличие приводит к уменьшению заряда кислорода одной из гидроксильных групп фосфат-аниона в ТФ и способствует прохождению катализа по пути SN2 нуклеофильного замещения.
Рис. 11. Пространственная организация BsPyNP в комплексе с сульфат-анионом (а) и StTP (б)
В [113] определена структура BsPyNP в комплексе с имидазолом и сульфатом при более высоком разрешении 1.9 Å. Структура позволила с помощью методов молекулярного моделирования комплексов белок–лиганд (молекулярная динамика, докинг, метадинамика) найти и охарактеризовать новые ингибиторы бактериальных ПиНФ [114]. В качестве возможных лигандов были изучены 2´,3´-дидегидро-3´-дезокситимидин (d4T), 1-(2-дезокси-2-фтор-â-D-арабинофуранозил)-5-иодурацил (фиауридин, FIAU), 1-(2-дезокси-2-фтор-â-D-арабинофуранозил)-5-урацил (FAU) и 2-пири-мидин-2-ил-1H-имидазол-4-карбоновая кислота (PIA). Показано, что соединения PIA и d4T связываются с активным центром бактериальных PyNP с наибольшей эффективностью среди исследованных лигандов. PIA практически не связывается с ТФ человека, что минимизирует возможные побочные эффекты применения этого соединения в терапевтических целях.
ЦЕРУЛОПЛАЗМИН
Работы по церулоплазмину, первая структура которого была решена в ИК РАН в 1996 г. [115], были возобновлены в 2008 г. совместно с Санкт-Петербургским институтом экспериментальной медицины на новом уровне. Было улучшено пространственное разрешение структуры церулоплазмина человека до 2.6 Å [116], что позволило установить новые детали его строения. Впервые в истории ИК РАН была получена структура комплекса белок–белок, в котором одним партнером выступал церулоплазмин, а другим – белок нейтрофилов миелопероксидаза (рис. 12). Структура была решена с разрешением 4.7 Å [117] c использованием синхротронного излучения в рамках международного сотрудничества с институтом Макса Планка и ЕМБЛ (Гамбург, Германия). В этой работе использовалось сочетание РСА с малоугловым рентгеновским рассеянием, чтобы охарактеризовать тройной комплекс, содержащий также другой белок нейтрофилов – лактоферрин. Такой гибридный подход был успешно использован для исследования транзитного комплекса церулоплазмина с фактором, ингибирующим миграцию макрофагов [118]. Структура последнего решена с рекордным разрешением 1.15 Å в рамках проекта по кристаллизации белков в космосе (рис. 13) [119]. Получение структуры церулоплазмина человека в другой пространственной группе (моноклинной) помогло установить конформацию петли, важной для ингибирования церулопдазмином миелопероксидазы при формировании комплекса [120], а решение структуры церулоплазмина крысы (рис. 14) при разрешении 2.3 Å помогло обнаружить не известный ранее лабильный сайт связывания иона меди, характерный всего для нескольких представителей семейства церулоплазминов, исходя из биоинформационного анализа аминокислотных последовательностей. Связывание иона меди в этом сайте, по-видимому, обусловливает более высокую антиоксидантную активность церулоплазмина крысы по сравнению с церулоплазмином человека [121]. Структура также позволила объяснить большую устойчивость церулоплазмина крысы к протеолизу.
Рис. 12. Пространственная структура комплекса церулоплазмина миелопероксидазы (PDB ID: 4EJX)
Рис. 13. Структура фактора, ингибирующего миграцию макрофагов: кристаллы, выращенные на МКС (а), пространственная структура (б) (PDB ID: 6FVH). 0FI – N-фенилтиоформамид
Рис. 14. Пространственная структура церулоплазмина крысы (PDB ID: 4ENZ)
ТОКСИН ИЗ ЯДА ОЧКОВОЙ КОБРЫ
Цитотоксины (ЦТ) кобры принадлежат семейству трехпетельных белков и обладают мембранной активностью. Цитотоксины интересны как основа для создания лекарственных, в частности противораковых, средств [122]. Но для таких разработок необходима детальная структурная информация, которая для токсинов из ядов змей не является полной [123]. Работа по исследованию структуры CT13Nn (рис. 15) из яда кобры Naja naja была инициирована Институтом биоорганической химии РАН. Впервые была определена кристаллическая структура ЦТ, центральная петля (петля-2) которого имеет конфигурацию, сходную с конфигурацией при встраивании в мембрану. Это оказалось возможным благодаря получению различных кристаллических форм – гексагональной и ромбической [124]. Мембранно-связанная конформация петли-2 присутствовала в гексагональной форме. Ранее такая конформация была обнаружена только в ЯМР-структуре родственного токсина в присутствии мицелл. Высокое качество гексагональной структуры получено благодаря проведению кристаллизации в условиях микрогравитации на МКС [125]. С помощью РСА была уточнена аминокислотная последовательность участка токсина, который не был разрешен однозначно масспектрометрией. Исследование позволило предположить, что мембранное связывание ЦТ, вероятно, включает в себя дополнительную стадию – конформационную трансформацию петли-2. Это предположение подтверждено методом МД. Обнаружено, что токсин трансформирует свою “водную” конформацию петли-2 в “мембранную” в процессе внедрения. Результат помог лучше понять механизм токсичности изучаемого белка [124].
Рис. 15. Структура токсина СТ13Nn (PDB ID: 7QHI)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За период своей истории, который почти совпадает с периодом работы лаборатории структуры белка, белковая кристаллография претерпела ряд принципиальных качественных изменений, многие из которых являются следствием ее же успехов.
К настоящему времени в PDB собраны координаты более чем 200 тыс. биологических макромолекул. На современных синхротронных станциях в течение нескольких минут можно собрать дифракционный набор от макромолекулы, используя для этой цели кристаллы микроразмера. Современные вычислительные возможности и программные комплексы позволяют в течение короткого времени решить и уточнить пространственную структуру макромолекулы. В разработке основного комплекса программ для сбора данных на синхротронах, решения, уточнения и анализа структур – CCP4 – заметную роль играют бывшие сотрудники Института кристаллографии [126–129], которые начали эту работу в конце 1970-х гг. и продолжают в настоящее время.
Развиваются методы времяразрешающей серийной кристаллографии на синхротронных источниках 3-го и 4-го поколения, позволяющие экспериментально изучить ход ферментативной реакции и конформационной динамики макромолекул.
Накопленные благодаря РСА знания способствовали развитию новых методов и подходов для анализа механизмов функционирования биологических макромолекул – молекулярной динамики, докинга, гибридных квантово-механических методов. Созданная на базе искусственной нейронной сети программа AlphaFold может с ранее недоступной точностью предсказывать пространственную структуру белка. Однако ее обучение было бы невозможно без экспериментально определенных, в основном методом РСА, десятков тысяч структур биомакромолекул.
Несомненный вклад в исследование структур белков внесли сотрудники Института кристаллографии РАН, которые и в настоящее время продолжают исследование макромолекул, используя РСА и новые экспериментальные и расчетные методы.
Работа проведена в рамках выполнения государственного задания НИЦ “Курчатовский институт”.
About the authors
I. P. Kuranova
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Author for correspondence.
Email: alashkov83@gmail.com
Russian Federation, Moscow
A. A. Lashkov
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: alashkov83@gmail.com
Russian Federation, Moscow
V. R. Samygina
Shubnikov Institute of Crystallography of Kurchatov Complex of Crystallography and Photonics of NRC “Kurchatov Institute”
Email: alashkov83@gmail.com
Russian Federation, Moscow
References
- Bragg W.L. // Proc. Cambr. Phil. Soc. 1913. V. 17. P. 43.
- Hodgkin D., Porter M.W., Spiller R.C. // Proc. Roy. Soc. B. 1950. V. 136. P. 609.
- Bernal J.D., Crowford D. // Nature. 1934. V. 133. P. 794.
- Green D.W., Ingram V.M., Perutz M.F. // Proc. Roy. Soc. A. 1954. V. 255. P. 287.
- Kendrew J.C., Bodo G., Dintzis H.M. et al. // Nature. 1958. V. 181. P. 662.
- Kendrew J.C., Dikerson R.E., Strandberg B.E. // Nature. 1960. V. 185. P. 422.
- Perutz M.F., Rossman M.F., Guillis A.G. et al. // Nature. 1960. V. 185. P. 416. https://doi.org/10.1038/185416a0
- Куранова И.П., Гребенко А.И., Конарева Н.В. и др. // Биохимия. 1975. Т. 41. C. 1603.
- Вайнштейн Б.К., Арутюнян Э.Г., Куранова И.П. и др. // Кристаллография. 1974. Т. 19 (5). С. 964.
- Вайнштейн Б.К., Арутюнян Э.Г., Куранова И.П. и др. // Докл. АН СССР. 1974. Т. 216 (3). С. 690.
- Vaishtein B.K., Harutyunyan E.G., Kuranova I.P. et al. // Nature. 1975. V. 254. P. 163.
- Хейкер Д.М., Арутюнян Э.Г., Куранова И.П. и др. // Докл. АН СССР. 1981. Т. 258 (4). С. 875.
- Куранова И.П., Тепляков А.В., Обмолова Г.В. и др. // Биоорган. химия. 1982. Т. 8 (12). С. 1625.
- Обмолова Г.В., Сафонова Т.Н., Тепляков А.В. и др. // Биохимия. 1988. Т. 14 (11). С. 1509.
- Harutyunyan E.H., Safonova T.N., Kuranova I.P. et al. // J. Mol. Biol. 1996. V. 264 (1). P. 152. https://doi.org/10.1006/jmbi.1996.0630
- Harutyunyan E.H., Safonova T.N., Kuranova I.P. et al. // J. Mol. Biol. 1995. V. 251. P. 107.
- Murshudov G.N., Melik-Adamyan W.R., Grebenko A.I. et al. // FEBS Lett. 1992. V. 312. P. 127. https://doi.org/10.1016/0014-579(92)80919-8
- Vainstein B.K., Melik-Adamyan V.R., Barynin V.V. et al. // J. Mol. Biol. 1986. V. 188. P. 49.
- Antonyuk S.V., Melik-Adamyn W.R., Popov A.N. et al. // Crystallography Reports. 2000. V. 45. P. 105. https://doi.org/10.1134/1.171145
- Malashkevich V.N., Strokopitov B.V., Borisov V.V. et al. // J. Mol. Biol. 1995. V. 247. P. 111.
- Махалдиани В.В., Смирнова Е.А., Воронова А.А. и др. // Докл. АН СССР. 1978. Т. 240 (6). С. 1478.
- Смирнова Е.А., Махалдиани В.В., Воронова А.А. и др. // Кристаллография. 1980. Т. 25 (1). С. 104.
- Терзян С.С., Воронова А.А., Куранова И.П. и др. // Докл. АН СССР. 1981. Т. 258 (6). С. 1481.
- Арутюнян Э.Г., Куранова И.П., Смирнова Е.А. и др. // Докл. АН СССР. 1981. Т. 258 (5). С. 1246.
- Куранова И.П., Терзян С.С., Воронова А.А. и др. // Биоорган. химия. 1983. Т. 9. С. 1611.
- Терзян С.С., Воронова А.А., Смирнова Е.А. и др. // Биохимия. 1984. Т. 10 (11). С. 1469.
- Harutyunyan E.G., Kuranova I.P., Vainstein B.K. et al. // Eur. J. Biochem. 1996. V. 239. P. 220. https://doi.org/10.1111/j.1432-1033.1996.0220u.x
- Чиргадзе Н.Ю., Куранова И.П., Строкопытов Б.В. и др. // Кристаллография. 1989. Т. 34 (6). С. 1446.
- Чиргадзе Н.Ю., Строкопытов Б.В., Куранова И.П. и др. // Кристаллография. 1990. Т. 35 (3). С. 772.
- Куранова И.П., Смирнова Е.А., Чиргадзе Н.Ю. и др. // Кристаллография. 1990. Т. 35 (6). С. 1582.
- Чиргадзе Н.Ю., Куранова И.П., Невская Н.А. и др. // Кристаллография. 1991. Т. 36 (1). С. 128.
- Куранова И.П., Поляков К.М., Смирнова Е.А. // Кристаллография. 2003. Т. 48 (6). С. 1021.
- Куранова И.П., Обмолова Г.В., Конарева Н.В. // Докл. АН СССР. 1987. Т. 295. С. 1013.
- Obmolova G., Kuranova I., Teplyakov A. // J. Mol. Biol. 1993. V. 232 (1). P. 312. https://doi.org/10.1006/jmbi.1993.1388
- Teplyakov A.V., Obmolova G.V., Kuranova I.P. et al. // Protein Sci. 1994. V. 3. P. 1098. https://doi.org/10.1002/pro.5560030713
- Avaeva S.M., Rodina E.V., Vorobyeva N.N. et al. // Biochemistry (Moscow). 1998. V. 63. P. 671.
- Samigina V.R., Antonyuk S.V., Lanzin V.S. et al. // Acta Cryst. D. 2000. V. 56. P. 595. https://doi.org/10.1107/S0907444900002493
- Samygina V.R., Popov A.N., Rodina E.V. et al. // J. Mol. Biol. 2001. V. 314 (3). P. 633. https://doi.org/10.1006/jmbi.2001.5149
- Samygina V.R., Moiseev V.M., Rodina E.V. et al. // J. Mol. Biol. 2007. V. 366 (4). P. 1305. https://doi.org/10.1016/j.jmb.2006.11.082
- Rodina E.V., Samygina V.R., Vorobyeva N.N. et al. // Biochemistry (Moscow). 2009. V. 74 (7). P. 734. https://doi.org/10.1134/s0006297909070050
- Samygina V.R. // Russ. Chem. Rev. 2016. V. 85. P. 464. https://doi.org/10.1070/RCR4529
- Кислицын Ю.А., Кравченко О.В., Никонов С.В. и др. // Кристаллография. 2006. Т. 51 (5). С. 863.
- Kravchenkо O.V., Kislitsin Yu.A., Popov A.N. et al. // Acta Cryst. D. 2008. V. 64. P. 248. https://doi.org/10.1107/S0907444907065766
- Sannikova E., Bulushova N., Cheperegin S. et al. // Mol. Biotechnol. 2016. V. 58. P. 528. https://doi.org/10.1007/s12033-016-9950-1
- Тимофеев В.И., Жухлистова Н.Е., Куранова И.П. // Биоорган. химия. 2020. Т. 46 (2). С. 140. https://doi.org/10.31857/S0132342320020165
- Тимофеев В.И., Жухлистова Н.Е., Куранова И.П. // Кристаллография. 2022. Т. 67 (2). С. 266. https://doi.org/10.31857/S0023476122020266
- McPherson A. // Cryst. Rev. 1996. V. 6 (2). P. 157. https://doi.org/10.1080/08893119608035398
- Куранова И.П. // Поверхность. Рентген., синротр. и нейтр. исследования. 2004. Т. 6. С. 4.
- Байдусь А.Н., Гребенко А.И., Жухлистова Н.Е. и др. // Космонавтика и ракетостроение. 2007. Т. 49 (4). С. 13.
- Смирнова Е.А., Кислицын Ю.А., Сосфенов Н.И. и др. // Кристаллография. 2009. Т. 54 (5). С. 948.
- Стрелов В.И., Куранова И.П., Захаров Б.Г. и др. // Кристаллография. 2014. Т. 59 (6). С. 863. https://doi.org/10.7868/S0023476114060289
- Бойко К.М., Тимофеев В.И., Самыгина В.Р. и др. // Кристаллография. 2016. Т. 61(5). С. 691. https://doi.org/10.7868/S0023476116050052
- Timofeev V.I., Chuprov-Netochin R.N., Samigina V.R. // Acta Cryst. F. 2010. V. 66. P. 259. https://doi.org/10.1107/S1744309110000461
- Givargizov E., Grebenko A.I., Zadorozhnaya L.A. et al. // J. Cryst. Growth. 2008. V. 310. P. 847.
- Стрелов В.И., Куранова И.П., Захаров Б.Г. и др. // Кристаллография. 2014. Т. 59 (6). С. 863.
- Smulevitch S.V., Osterman A.L., Galperina O.V. et al. // FEBS Lett. 1991. V. 291 (1). P. 75. https://doi.org/10.1016/0014-5793(91)81107-J
- Teplyakov A., Polyakov K., Obmolova G. et al. // Eur. J. Biochem. 1992. V. 208 (2). P. 281. https://doi.org/10.1111/j.1432-1033.1992.tb17184.x
- Акпаров В.Х., Тимофеев В.И., Куранова И.П. // Кристаллография. 2011. Т. 56 (4). С. 641.
- Akparov V.K., Timofeev V.I., Khaliullin I.G. et al. // FEBS J. 2015. V. 282 (7). P. 1214. https://doi.org/10.1111/febs.13210
- Акпаров В.Х., Гришин А.М., Тимофеев В.И. и др. // Кристаллография. 2010. Т. 55 (5). С. 851.
- Тимофеев В.И., Кузнецов С.А., Акпаров В.Х. и др. // Биохимия. 2013. Т. 78 (3). C. 338.
- Akparov V. Kh., Timofeev V.I., Khaliullin I.G. et al. // J. Med. Res. Dev. 2014. V. 3 (4). Р. 200.
- Akparov V., Timofeev V., Khaliullin I. et al. // J. Biomol. Struct. Dyn. 2018. V. 36 (4). Р. 956. https://doi.org/10.1080/07391102.2017.1304242
- Akparov V., Timofeev V., Khaliullin I. et al. // J. Biomol. Struct. Dyn. 2018. V. 36 (15). P. 3958. https://doi.org/10.1080/07391102.2017.1404932
- Akparov V.K., Timofeev V.I., Konstantinova G.E. et al. // PLoS One. 2019. V. 14 (12). e0226636. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226636
- Акпаров В.Х., Тимофеев В.И., Халиуллин И.Г. и др. // Биохимия. 2019. Т. 1. С. 53.
- Timofeev V.I., Abramchik Yu.A., Shevtsov M.B. et al. // Mendeleev Commun. 2023. V. 33. P. 796.
- Тимофеев В.И., Абрамчик Ю.А., Жухлистова Н.Е. и др. // Кристаллография. 2023. Т. 68 (1). С. 46. https://doi.org/10.31857/S0023476122060273
- Куранова И.П., Смирнова Е.А., Абрамчик Ю.А. и др. // Кристаллография. 2011. Т. 56 (5). С. 944.
- Тимофеев В.И., Смирнова Е.А., Чупова Л.А. и др. // Кристаллография. 2010. Т. 55 (6). С. 1109.
- Тимофеев В.И., Смирнова Е.А., Чупова Л.А. и др. // Кристаллография. 2012. Т. 57 (1). С. 102.
- Timofeev V.I., Smirnova E.A., Chupova L.A. et al. // Acta Cryst. D. 2012. V. 68. P. 1660. https://doi.org/10.1107/S0907444912040206
- Куранова И.П. // Вестник РФФИ. 2014. Т. 2 (82). C. 45.
- Тимофеев В.И., Смирнова Е.А., Чупова Л.А. и др. // Кристаллография. 2012. Т. 57 (1). С. 26.
- Тимофеев В.И., Чупова Л.А., Есипов Р.С. и др. // Кристаллография. 2015. Т. 60 (5). С. 745.
- Подшивалов Д.Д., Тимофеев В.И., Сидоров-Бирюков Д.Д. и др. // Кристаллография. 2017. Т. 62 (3). С. 407.
- Levene P.A., Medigreceanu F. // J. Biol. Chem. 1911. V. 9. P. 65.
- Levene P.A., Yamagawa M., Weber I. // J. Biol. Chem. 1924. V. 60. P. 693.
- Levene P.A., Weber I. // J. Biol. Chem. 1924. V. 60. P. 707.
- Kalckar H.M. // J. Biol. Chem. 1945. V. 158. P. 723. https://doi.org/10.1016/S0021-9258(19)51352-7
- Синицына Е.В., Тимофеев В.И., Жухлистова Н.Е. и др. // Кристаллография. 2018. Т. 63 (5). С. 742. https://doi.org/10.1134/S0023476118050272
- Тимофеев В.И., Абрамчик Ю.А., Жухлистова Н.Е. и др. // Кристаллография. 2016. Т. 61 (2). С. 247. https://doi.org/10.7868/S0023476116020314
- Timofeev V.I., Zhukhlistova N.E., Abramchik Y.A. et al. // Acta Cryst. F. 2018. V. 74 (7). P. 402. https://doi.org/10.1107/S2053230X18008087
- Timofeev V.I., Zhukhlistova N.E., Abramchik Y.A. et al. // Acta Cryst. F. 2018. V. 74 (6). P. 355. https://doi.org/10.1107/S2053230X18006337
- Krenitsky T.A., Mellors J.W., Barclay M. // J. Biol. Chem. 1965. V. 240. P. 1281. https://doi.org/10.1016/S0021-9258(18)97572-1
- Моргунова Е.Ю., Михайлов А.М., Комиссаров А.А. и др. // Кристаллография. 1995. Т. 40. № 4. C. 672.
- Burling F.T., Kniewel R., Buglino J.A. et al. // Acta Cryst. D. 2003. V. 59. P. 73. https://doi.org/10.1107/S0907444902018929
- Caradoc-Davies T.T., Cutfield S.M., Lamont I.L. et al. // J. Mol. Biol. 2004. V. 337. P. 337. https://doi.org/10.1016/j.jmb.2004.01.039
- Liu M., Cao D., Russell R. et al. // Cancer Res. 1998. V. 58 (23). P. 5418.
- Dontsova M.V., Gabdoulkhakov A.G., Molchan O.K. et al. // Acta Cryst. F. 2005. V. 61. P. 337. https://doi.org/10.1107/S1744309105007463
- Молчан О.К., Дмитриева Н.А., Романова Д.В. и др. // Биохимия. 1998. Т. 63. № 2. С. 235.
- Тимофеев В.И., Павлюк Б.Ф., Лашков А.А. и др. // Кристаллография. 2007. Т. 52. № 6. С. 1106.
- Timofeev V.I., Lashkov A.A., Gabdoulkhakov A.G. et al. // Acta Cryst. F. 2007. V. 63. P. 852. https://doi.org/10.1107/S1744309107040560
- Lashkov A.A., Gabdoulkhakov A.G., Shtil A.A. et al. // Acta Cryst. F. 2009. V. 65. P. 601. https://doi.org/10.1107/S1744309109016133
- Lashkov A.A., Zhukhlistova N.E., Gabdoulkhakov A.G. et al. // Acta Cryst. D. 2010. V. 66. P. 51. https://doi.org/10.1107/S0907444909044175
- Lashkov A.A., Sotnichenko S.E., Prokofiev I.I. et al. // Acta Cryst. D. 2012. V. 68. P. 968. https://doi.org/10.1107/S090744491201815X
- Балаев В.В., Лашков А.А., Габдулхаков А.Г. и др. // Кристаллография. 2015. Т. 60 (4). С. 579. https://doi.org/10.7868/S0023476115040062
- Балаев В.В., Лашков А.А., Габдулхаков А.Г. и др. // Кристаллография. 2015. Т. 60 (2). С. 240. https://doi.org/10.7868/S0023476115020034
- Lashkov A.A., Gabdulkhakov A.G., Prokofev I.I. et al. // Acta Cryst. F. 2012. V. 68. P. 1394. https://doi.org/10.1107/S1744309112041401
- Prokofev I.I., Lashkov A.A., Gabdulkhakov A.G. et al. // Acta Cryst. F. 2014. V. 70 (1). P. 60. https://doi.org/10.1107/S2053230X13031877
- Прокофьев И.И., Лашков А.А., Габдулхаков А.Г. и др. // Кристаллография. 2016. Т. 61. № 6. С. 919. https://doi.org/10.7868/S0023476116060138
- Эйстрих-Геллер П.А., Рубинский С.В., Прокофьев И.И. и др. // Кристаллография. 2020. Т. 65 (2). С. 271. https://doi.org/10.31857/S002347612002006X
- Эйстрих-Геллер П.А., Рубинский С.В., Самыгина В.Р. и др. // Кристаллография. 2021. Т. 66 (5). С. 750. https://doi.org/10.31857/S0023476121050052
- Lashkov A.A., Eistrich-Geller P.A., Samygina V.R. et al. // Crystals. 2023. V. 13. P. 803. https://doi.org/10.3390/cryst13050803
- Utagawa T. // J. Mol. Catal. B. Enzym. 1999. V. 6. P. 215.
- Pugmire M.J., Ealick S.E. // Biochem. J. 2002. V. 361. P 1. https://doi.org/10.1042/0264-6021:3610001
- Pugmire M.J., Ealick S.E. // Structure. 1998. V. 6. P. 1467. https://doi.org/10.1016/s0969-2126(98)00145-2
- Timofeev V., Abramchik Yu., Zhukhlistova N. et al. // Acta Cryst. D. 2014. V. 70. P. 1155. https://doi.org/10.1107/S1399004714001904
- Тимофеев В.И., Абрамчик Ю.А., Фатеев И.В. и др. // Кристаллография. 2013. Т. 58 (6). С. 828.
- Сидоров-Бирюков Д.Д., Подшивалов Д.Д., Тимофеев В.И. и др. // Кристаллография. 2019. Т. 64 (1). С. 99. https://doi.org/10.1134/S0023476118060280
- Балаев В.В., Лашков А.А., Прокофьев И.И. и др. // Кристаллография. 2016. Т. 61 (5). С. 797. https://doi.org/10.7868/S0023476116050027
- Balaev V.V., Lashkov A.A., Gabdulkhakov A.G. et al. // Acta Cryst F. 2016. V. 72. P. 224. https://doi.org/10.1107/S2053230X1600162X
- Balaev V.V., Prokofev I.I., Gabdoulkhakov A.G. et al. // Acta Cryst F. 2018. V. 74 (4). P. 193. https://doi.org/10.1107/S2053230X18002935
- Эйстрих-Геллер П.А., Рубинский С.В., Самыгина В.Р. и др. // Биоорган. химия. 2022. Т. 48. № 6. С. 732. https://doi.org/10.31857/S0132342322060100
- Zaitseva I., Zaitsev V., Card G. et al. // J. Biol. Inorg. Chem. 1996. V. 1. P. 15.
- Samygina V.R., Sokolov A.V., Pulina M.O. et al. // Cryst. Rep. 2008. V. 53. P. 655.
- Samygina V.R., Sokolov A.V., Bourenkov G. et al. // PLoS One. 2013. V. 8. E. 67145. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0067145
- Samygina V.R., Sokolov A.V., Dadinova L.A. et al. // Biochemistry (Moscow). 2018. V. 83. P. 701. https://doi.org/10.1134/S000629791806007X
- Dubova K.M., Sokolov A.V., Gorbunov N.P. et al. // Crystallography Reports. 2018. V. 63. P. 951. https://doi.org/10.1134/S1063774518060111
- Sokolov A.V., Vasilyev V.B., Samygina V.R. // Cryst. Rep. 2022. V. 67. P. 886. https://doi.org/10.31857/S0023476122060236
- Samygina V.R., Sokolov A.V., Bourenkov G. et al. // Metallomics. 2017. V. 9 (12). P. 1828. https://doi.org/10.1039/c7mt00157f
- Khalil A., Elesawy B.H., Ali T.M. et al. // Molecules. 2021. V. 26. P. 4941. https://doi.org/10.3390/molecules26164941
- Dubovskii P.V., Efremov R.G. // Expert Rev. Proteomics. 2018. V. 15. P. 873. https://doi.org/10.1080/14789450.2018.1537786
- Dubovskii P.V., Dubova K.M., Bourenkov G. et al. // Toxins. 2022. V. 14 (2). P. 149. https://doi.org/10.3390/toxins14020149
- Дубова К.М., Дубовский П.В., Уткин Ю.Н. // Кристаллография. 2023. Т. 68 (6). C. 902. https://doi.org/10.31857/S0023476123600465
- Oscarsson M., Beteva A., Flot D. et al. // J. Synchrotron Radiat. 2019. V. 26 (2). P. 393. https://doi.org/10.1107/S1600577519001267
- Evans P.R., Murshudov G.N. // Acta Cryst. D. 2013. V. 69. P. 1204. https://doi.org/10.1107/S0907444913000061
- Simpkin A.J., Caballero I., McNicholas S. et al. // Acta Cryst. D. 2023 V. 79 (9). P. 806. https://doi.org/10.1107/S2059798323006289
- Agirre J., Atanasova M., Bagdonas H. et al. // Acta Cryst. D. 2023. V. 79 (6). P. 449. https://doi.org/10.1107/S2059798323003595
Supplementary files